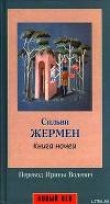Текст книги "Царица печали"
Автор книги: Войцех Кучок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Гуча был неизлечимым меланхоликом, и, если бы не благожелательность и забота самых близких, он, вместо того чтобы сражаться с собственным талантом, наверняка стал бы маньяком-самоубийцей. Школы он заканчивал с неохотой, как бы между прочим, но с дипломами и наградами, которые чаще всего терял во время посещения кабаков по дороге домой, как и положено молодому человеку, обуреваемому приливами черной желчи, ибо пил он уже в лицейские годы, пил много и мрачно; компании собутыльников довольно быстро наскучило его общество, потому что по пьянке он всегда заводил разговор о смерти, вот и предавался Гуча своим настроениям уже в полном одиночестве. В родной семье его уважали за способности, понимая в то же время, что представлять семью он не должен ни в коем случае, что лучше всего его не трогать во время праздников и торжеств, потому что за столом он будет сидеть в неприступном молчании и подливать себе красное вино до тех пор, пока не опростает бутылку, и только после этого он встанет из-за стола и пойдет, ни с кем не попрощавшись, в свою келью (так он называл свою комнатку) предаваться размышлениям о бренности жизни. Когда Гуча сообщил семье, что поступил в академию и уезжает учиться художествам, семья вздохнула с облегчением и с удивлением, ибо все уже успели свыкнуться с мыслью о неминуемом его затворничестве; тетки, дядья неизменно повторяли:
– Такие впечатлительные в наше время или с ума сходят, или в монастырь уходят.
Вот и поехал Гуча в большой мир, ни в коей мере не отягощая семью расходами, потому что сразу же расположил к себе преподавателей и получил положенную стипендию; изредка писал вымученные письма, в которых между куртуазными строчками, в трепетной линии почерка, в чуть более, чем обычно, наклоненных буквах бдительное око матери замечало необычно интенсивные приступы меланхолии, которые, должно быть, испытывал Гуча и, спасаясь от них всеми возможными способами, наверняка хватался за то, чем было для него письмо семье. В сущности, никакой радости в искусстве Гуча не нашел, потому что, несмотря на замеченный и поддерживаемый талант, он не перестал быть одиноким, а смертельные страхи, с тех пор как он посвятил себя искусству, стали посещать его все чаще. «Зачем все это?» – вопрошал Гуча грунтуя полотна. «Кому все это надо?» – спрашивал он себя, готовя подрамники. «Куда все это ведет?» – задавал себе вопрос, выполняя лессировку. Получение высших баллов за очередные картины подогревало растущую неприязнь со стороны его конкурентов; по причине уединенного образа жизни он не заметил даже, что с некоторых пор не столько он отказывался от участия в «общих посиделках», сколько его просто не приглашали на них. Преподаватели внушали ему:
– Вы всегда должны помнить о страсти; без страсти нет искусства; искусства нет без риска; надо в себе обострить чувства, культивировать нерв, безумие, попытаться воспарить над жизнью и где-то там, на границе безумия, выхватить то, что, собственно, и составляет суть, то, что определяет произведение, а потом вернуться – балансировать и возвращаться; вы всегда должны помнить, что в искусстве нет покоя, став художником, вы не найдете спокойствия нигде, а отказываться от святого искусства ради обыденного спокойствия – преступление.
Но для Гучи не было ничего более святого, чем спокойствие, и ничто его так сильно не утомляло своей обыденностью, как живопись; слишком легко Гуча достиг вершин мастерства, слишком быстро, чтобы это можно было признать результатом его труда, однако оказалось, что там, где мастерство надо было усилить страстью, там, где надо было предаться вдохновению, Гуча наталкивался на непреодолимую стену и находил только страх, апатию и меланхолию. Располагая приличным кредитом доверия своих благодетелей-меценатов, он исчерпал их долготерпение, ибо в конце концов и они поняли, что Гуча живописец, может, и смышленый и способный, но панически боящийся быть художником. Когда он почувствовал, что эта, бывшая до сих пор самой твердой, почва, по которой он ступал, начинает размягчаться под его ногами; когда он понял, что то высшее, к которому он до сих пор прибегал, оправдание его существования теряет силу, Гуча впал в депрессию, собрал все свои полотна, вещи и ближайшим поездом вернулся домой. Картины оказались в подвальчике, а Гуча – в объятиях жестокого невроза: самые сильные фобии взялись за руки и окружили Гучу плотным кольцом, не позволяя ему есть, спать, выходить из дому, к тому же захлестнувшая его ипохондрия заставляла его умирать каждый день, и каждый день от новой болезни. Мать заламывала руки, отец недоуменно пожимал плечами, а младшие братья через замочную скважину в двери Гучиной комнаты прислушивались к мертвой тишине, в которую тот погружался. В конце концов отцу пришла мысль найти Гуче работу.
– Парень-то неглупый, бумаги у него в порядке, не дам ему пропасть!
Единственное место, которое по случаю удалось выклянчить для сына, был низкооплачиваемый эрзац умственного труда: Гуче надо было вести библиотечный архив – заросшие пылью папки, которыми почти никогда никто не пользовался; архив размещался в подвале библиотеки. Поэтому у Гучи появилась возможность закрепить лягушачью точку зрения на мир. Ежедневно по восемь часов подпирал он голову руками и наблюдал за человеческими ногами, вышагивающими по тротуару; все люди для него оканчивались на уровне колен, и лишь иногда какой-нибудь малютка успевал кинуть на Гучу угрюмый взгляд из коляски. Гуча принял новый поворот судьбы с артистическим безразличием, с ним же он нес службу, постепенно приходя к пониманию, что непостижимым образом обрел вожделенный покой, что за государственный счет он может предаваться меланхолии и что никто больше не заставляет его искать в себе страсти, никто не провоцирует на бешенство, не подзуживает на риск, никаких тебе призваний, ни призывов, наконец-то он может позволить себе быть никем и ничем. Тем не менее Гуча все еще чувствовал, что червь апатии не перестанет ползать по его жилам, пока не найдется кто-нибудь, с кем можно будет жизнь разделить, сообща этой жизни дань платить, свое спокойствие совместно освящать, общим воспоминаниям об освящении буден предаваться. И начал Гуча черпать неожиданные выгоды из подземного наблюдательного пункта, особенно когда наступали теплые месяцы и проходили над ним женские ноги; часами Гуча скрупулезно изучал преходящие дамские ценности, в силу тогдашней моды тщательно скрываемые от постороннего глаза под юбками до икр, а то и до самых щиколоток, впрочем, ясное дело, от глаза, расположенного, если можно так выразиться, на предусмотренном уровне, от глаза прохожего, а не подглядывающего снизу. Гуча наблюдал и каталогизировал проходящие за окном ноги, завел тетрадочку, в которой отмечал самые стройные, в самых опрятных чулках и под самыми опрятными юбками – те, что проходили над ним регулярно в одно и то же время (свидетельство, что их обладательница имела постоянную работу), те, что всегда ступали в одиночестве, не сопровождаемые мужскими ногами, равно как и колясочными обстоятельствами, а когда уже путем селекции он выделил в журнальчике наблюдений самые подходящие ноги, он решил, что немедленно женится на них, безотносительно к тому, что это будет за женщина: на основании походки, на основании осанки, на основании того, что виделось ему из подвала, Гуча уверил себя в том, что хочет, чтобы эти ноги обвивали его каждую ночь до конца жизни, уверил себя, что он не то что райского, но самого обыкновенного блаженства не изведает, если только не овладеет именно этой женщиной, если не оплодотворит ее и не воспитает с ней ребенка, и не отремонтирует ей квартиру, и не поможет в тысяче обедов, и не наслушается стука каблуков, приближающегося к их дому, и позвякивания ключа, и шелеста снимаемого плаща, и не услышит тысячу раз из ее уст «милый, любимый, возлюбленный мой Густав». Итак, Гуча выждал подходящую минуту, вынырнул из своего подземелья, встал на пути ног, выбранных им, поднял взгляд, увидел удивленное девичье лицо и влюбился без памяти. Хоть Гуча и кипел от страсти, соблазнение избранницы было делом непростым, ибо девица оказалась неожиданно молодой, а потому чрезвычайно пугливой и пока еще находящейся под родительской опекой. Родители обучали дочку языкам, предчувствуя, что в ненадежные времена ничто так часто не меняется, как государственный язык. Они быстрее, чем дочка, приняли Гучу, твердя: «Ой, доча, ладно ж ты трафила, ладный фрицек, добра работа, наш сынок, и по-польски знает; ты сумеешь по-швабски шпрехать, он умеет по-польски говорить, а болтать оба общий язык найдете: если знаете драй разный шпрахи, то на этой Шлезиен не пропадете, хоть бы сам неизвестно кто пришел бы мит пистолете угрожайт». Но взял он ее настойчивостью, упорством – можно сказать, что постепенно накопил ее сочувствие, а потом и чувство. И покорил, и женился, и оплодотворил. И погрузился в дремоту супружества, погрузился в мягкое кресло, в теплые домашние туфли, в кухонные запахи, в мелкие ремонты по дому, в не нарушающие рамок благочестия любовные страсти по вечерам, а потом – в отцовские обязанности; наконец он стал принимать участие в семейных торжествах, наконец избавился от страхов, наконец, в конце концов, ну это… счастье… помаленьку, изо дня в день… что еще человеку надо… вот разве что (со временем ему пришла и эта мысль), разве что того, так иногда чуть-чуть порисовать, ведь теперь он мог делать это без давления со стороны, теперь он мог смахнуть пыль со своих ранних полотен, присмотреться к ним, похвастаться перед женой и время от времени поработать над какой-нибудь новой картинкой, просто так, без обязательств, без обещаний. Вот только жена с настороженностью восприняла эту привычку Густава (она никогда не употребляла уменьшительной формы имени, ее мужу требовалось серьезное отношение, ведь он был главой семьи, имя Гуча подошло бы разве что семейному полудурку).
– Густав, ты пишешь картины… – говорила она вроде бы благожелательно, вроде бы довольная непостижимыми талантами мужа, но, по сути, порядком обеспокоенная таким оборотом дел.
Итак, Гуча изредка рисовал дома, а жена, иногда приглашаемая в кабинетик с целью оценить новое произведение, скорее была склонна сетовать на то, что «краской снова на полу накапано, где это видано, чтобы так флейтушить в квартире», чем честно высказаться о картине; она бесстрастно смотрела на творчество Густава, кивая с наигранным одобрением, чтобы не печалить мужа, однако все чаще пыталась делать монотонные критические замечания:
– Но почему все так угрюмо, какие-то они у тебя мрачные, эти твои картины, даже повесить у нас нельзя, ребенок испугается; я знаю, что они хорошие, но не мог бы ты хоть раз что-нибудь красивое нарисовать, ну, что ли, мой портрет или дочки нашей…
Гуча не мог; хотел, но не мог, потому что в глубине души у него все еще звучал похоронный марш, о котором ему давало знать как раз его искусство; именно теперь, когда он был полон веры в себя, он не был в состоянии выразить ее кистью, его полотна по-прежнему были заполнены картинами смерти и страдания. И тогда он понял, что пора завязывать с этой привычкой, он решил раз и навсегда продать все, что удастся, остальное – раздать знакомым, а мануальный голод утолять рукоделием. Но когда пришли покупатели, среди которых он узнал и однокашников по художественному училищу, стали с восхищением разглядывать его картины и, не желая прямо выразить свое признание, начали торговаться, назвав цену на сильно заниженном уровне, на защиту Густава встала жена:
– Хватит мне тут этой торговли, это искусство! Оно стоит больше, чем все вы вместе с вашими кошельками! А ну-ка марш отсюда!
После этого вмешательства Гуча почувствовал, что он достиг высшей ступени жизненного комфорта, найдя в лице жены верного и решительного союзника; он понял, что с ней он не пропадет, что теперь он уже ни о чем не должен волноваться, теперь он может только сидеть в кресле и наблюдать, как дочурка учится ходить, как жена хлопочет по дому, как она мягко обводит взором комнаты, замечая даже самые мелкие неровности на ковре, самые маленькие пятнышки на скатертях, несимметричность складок на занавесках; он сидел в кресле, наблюдал и понимал, что счастье как раз в том и состоит, чтобы раз и навсегда в жизни почувствовать себя в безопасности, чтобы оказаться в такой точке, которая больше не требует от тебя никакого риска, чтобы найти убежище от мира, и особенно от себя самого, – а надо признать, что жена защищала Густава от Гучи исключительно эффективно.
Вот тогда-то и разразилась эта война:
– Это нас не касается, это пройдет стороной, —
этот вермахт:
– Знаю, что берут силезцев, но ведь они засранцы, —
эта мобилизация:
– Das ist Mißverständnis, ich habe ein Kind, ich habe gute Ausbildung![1]1
Это недоразумение, у меня ребенок, у меня хорошее образование! (нем.).
[Закрыть] Он меня что, не понимает? – эти казармы:
Пишу тебе, любимая, с надеждой, что тебе удастся как-нибудь выяснить это недоразумение, пока что мы стоим… —
эти кошмары:
– Ладно, хлопцы, как начну храпеть ночью, вы меня легонько толкните, но не душите, дьяволы, подушкой! —
этот марш-бросок:
– А ведь эти сукины сыны нас пушечным мясом считают, своих бы туда не послали… —
эти окопы:
– К Твоей защите прибегаем, Святая Матерь Божья… —
этот штурм:
(Я был создан для искусства бегом бегом у меня должна была быть спокойная перебежками перебежками размеренная жизнь пригнуться пригнуться Боже дай еще хоть раз дай ой бьют нет вот только сейчас начали ой как бьют в воронку спрятаться в одно и то же место дважды не попадают…) – и наконец, эта воронка:
(…переждать переждать переждать это как гроза если хорошо спрятаться молния в тебя не ударит ой бьют мама молись за меня мама папа молитесь теперь за меня о Матерь Божья ничего не слышу ведь я болел ведь лечился ведь такие как я для них войну не выиграют ничего не слышу о Боже кровь из ушей она ведь обычно не из ушей идет что это со мной ничего не чувствую не слышу не хочу в этом мундире не хочу умирать в немецком мундире снять снять снять… не чувствую ничего… моя кровь… какая темная… мама… молись… сейчас…………………………)
Каждый год старый К. ставил свечку Гуче под кладбищенским крестом, в это приятно-теплое, как костер, множество огоньков, и, когда из-за спины он слышал, что пора идти в эту ноябрьскую снежную изморось, он возносил молитву за Гучу его небесному покровителю, молился за его загубленную душу Святому Спокойствию и давал обет, что выберет себе это имя на миропомазании, если только Святой Спокойствий будет его опекать повнимательнее, чем он опекал Гучу, старшего из несостоявшихся его дядьев.
* * *
Отец старого К. боялся, что война и его растопчет. Но рассчитывал на то, что, как и вихрь, война крушит хаотически, беспорядочно, срывает крыши с жилых домов, рядом с которыми оставляет нетронутыми хозяйственные постройки, и, может, его-то как раз и пощадит. Отец старого К., в силу своей профессии, боялся войны особенно, потому что она разрушала то, что он строил. Отцу старого К., профессиональному строителю, еще задолго до войны снились кошмары о развалинах на месте возведенных им домов, это была его неизлечимая болезнь, рак сновидений, еженощные крики, пот, вскакивание с постели с учащенным сердцебиением; даже жена не могла ему помочь, со временем она переселилась в детскую, оправдываясь тем, что не может больше выносить пробуждений среди ночи, что хочет хоть раз выспаться как нормальный человек. Отец старого К. педантично следил за работниками, производил десятки дополнительных замеров в уже построенных зданиях, посещал уже давно заселенные дома и выспрашивал жильцов, не заметили ли те, случайно, каких трещин, надломов, ведь под землей шахты случаются затопления, так что всегда лучше проверить, не покрошилось ли что, ведь порой достаточно едва заметной щелочки, трещинки в штукатурке, чтобы с нее началась катастрофа; он выспрашивал людей со страстью слишком обеспокоенной матери, так что те со временем стали к нему нелюбезными, привычными к тому, что то и дело приходит какой-то коммивояжер, и уже через приоткрытую дверь, не ожидая вопроса, уверяли его, что трещин нигде нет и от уровня ничто не отклонилось, спасибо, мол, вам за заботу, до свидания. А когда разразилась война, он ждал только, что сон его сбудется, ждал, что вот-вот начнут валиться дом за домом, пенял себе за позорное отсутствие фантазии, ибо можно ведь было усилить своды подвалов, приспособить последние под бомбоубежища, да и как такое вообще могло случиться, что архитекторы в стране, которая восстала из руин только что закончившейся войны, не заложили в проект подвалы-бомбоубежища, как это возможно, что люди после каждой закончившейся войны сразу же становятся так беспечно уверенными, что последняя война окажется непременно последней, что нагромождение пережитых ужасов никому больше не позволит развязать очередную войну, как это возможно, что люди в своей наивности не видят, что нагромождение ужасов вызывает еще большее нагромождение ужасов, что война беспрерывно идет в отравленных душах и что эти отравленные души делают целью жизни распространение войны на всех, что цель их – отравить всех. Отец старого К. больше всего корил себя за то, что даже в собственном доме он не удосужился устроить бомбоубежище, зная, что во время авианалета им негде будет укрыться, что побегут они с женой и детьми в подвал, и будут сидеть на куче картошки, и будут смотреть на дребезжащие банки с компотами, и будут прислушиваться к взрывам, а он должен будет ободрять и успокаивать их, обманывая, что оборудовал такой подвал, который все выдержит, будет вынужден говорить детям, чтобы не боялись, потому что бомбардировка – это та же гроза, только вызванная людьми, а вероятность попадания бомбы в дом немногим больше вероятности попадания молнии, и будет вынужден говорить это голосом спокойным и уверенным, вопреки себе, вопреки своим угрызениям совести и обвинениям себя в отсутствии архитектурной фантазии.
Но война не разнесла ни одного дома в округе, все вдруг оказались счастливыми жителями территории, немедленно признанной исконно немецкой, все жители региона при минимальном проявлении желания оказались счастливыми исконными немцами, они, конечно, могли и воспротивиться такому положению дел, могли добровольно наделать себе трудностей, но они пользовались привилегией, неизвестной менее счастливым регионам страны, а именно: их дома не разрушали без спросу, даже если они становились гражданами второй или даже третьей категории, даже если они становились пушечным мясом, никто бомбардировками не срывал у них над головой крыши; сны старого К. все никак не получали реального воплощения. Единственным зданием в городе, подвергшимся полному уничтожению, ибо даже развалины тут же были убраны (в этом, неожиданно ставшем исконно немецким, городе заботились об исконно немецком порядке и чистоте), единственным, стало быть, зданием, которое сровняли с землей так, чтобы даже остатки воспоминания о нем не валялись по земле, зданием, уничтоженным не с воздуха, а с земли точно расставленными взрывными устройствами, уничтоженным с сохранением исконно немецкой точности и эффективности, была синагога. Но отцу старого К. никогда не снились развалины синагоги, ему не снились развалины храмов, его кошмары не были столь монументальны, он всегда говорил, что меньше всего ему жалко костелы и что Бог никогда не будет бездомным, люди всегда смогут устроить богослужения под открытым небом, а что горе и страх связаны с утратой крыши над головой; отцу старого К. снились развалины домов, и он боялся, что когда-нибудь среди них он найдет и свою развалину, ему не снились исчезающие здания, ему даже не снилось, что здания могут просто исчезать, как и люди, как толпы людей; кошмары отца старого К. не были столь монументальны, чтобы они касались двух с половиной тысяч, которые исчезают так же внезапно, как и их храм, ему даже и не снилось, что город можно очистить (с исконно немецкой педантичностью) от двух с половиной тысяч евреев, которых не сочли гражданами ни третьей, ни даже четвертой категории, которых вообще не сочли гражданами; отцу старого К. такое не приходило даже во сне.
Война не раздолбала тот дом, который отец старого К. построил для своей семьи, не раздолбала и лично его во фронтовой воронке, как братьев, отцу старого К. повезло, не иначе, весь лимит счастья, предназначенный его родственникам, достался ему; ему война лишь слегка помяла, поразодрала постели, подырявила кресла, поистрепала шлепанцы, – словом, после войны отец старого К. не мог спокойно расположиться в том месте, которое он для себя всю жизнь выстилал; первый этаж дома надо было продать, о прислуге, которую «непременно-непременно» хотела иметь жена, надо было забыть и воспитывать детей людьми богатыми скорее памятью о зажиточности, чем реальными благами. Отец старого К. до конца жизни не переставал видеть сны о развалинах всего, что он успел построить за жизнь, и, хоть снились ему исключительно здания, со временем он понял, что пепелища окружают его внутри дома, стоящего на солидном фундаменте, со временем он понял, что пепелища, которые снились ему, ходят на его ногах, едят его еду, спят в его постели, со временем он понял, что развалина – это он сам, что обломки, которые давят на него, гнетут – в нем самом, что это он сам себя гнетет, а не жена, что это не дети гнетут его, не жизнь в течение всей жизни гнетет его, а он сам, сам себя. Со временем он понял, что все, с чем только приходилось ему в жизни встречаться, все то отобранное у умерших счастье досталось ему по ошибке, ибо он не нашел радости, все от него в жизни ускользало, выходило из-под его контроля: жена вышла из-под контроля, стала крикливой, злобной и чужой, дети вышли из-под контроля, у него не было никакого влияния на их воспитание, и чем больше он хотел, чтобы они отличались от него, чтобы были лучше его, тем активнее перенимали они все его дурные наклонности. Он ушел в себя, закрылся, задраился в себе, вернулся к своей врожденной незаметности, к ребяческой меланхолии; когда его спрашивали, как он себя чувствует, он долго не осмеливался ответить правдиво, долго не мог найти подходящее слово, которое объяснило бы его несчастье в счастье, которое оправдало бы отсутствие у него радости от троих подраставших детишек и энергичной супруги. Лишь когда в один прекрасный день он увидел, как старый К. играет с младшим братом в прятки в саду, когда увидел, как малыш старый К. пользуется схроном, который невозможно было обнаружить – внутри дуба, – он нашел нужное слово. Отец старого К. был человеком опустошенным, без нутра: у него были корни, были ветви, было свое место в саду, но внутри он был пустой, и только в этой пустоте он мог спрятаться от мира, закрыться, задраиться, уйти в себя.
Дубы без сердцевины живут дольше, чем люди без сердцевины; старый К. и его родственники не стали спиливать дерево после смерти отца, потому что дерево стало незаметным, в нем давно уже никто не прятался, оно давно уже так вросло в вид из окна, что стало прозрачным. Отец старого К. не дождался рождения единственного внука, его единственному внуку предстояло родиться значительно позже, потому что в это время дочь была склонна скорее к молитвенному размышлению, чем к светскому общению, да и сыновья были до женитьбы не скорые, да и вообще ни до чего не скорые, несобранные, долго, что называется, запрягающие. Умирал он в больнице от рака сновидений. Когда метастазы перекинулись на печень, он вдруг стал неустранимо и болезненно заметным для всей семьи, собравшейся у его смертного одра, он умирал легко, ибо чем меньше в нем было жизни, тем более он чувствовал, как что-то наполняет его, он умирал с улыбкой, глядя на своих детей, на свою жену, чувствуя, что он пережил, выдержал годы внутреннего опустошения, и чем больше он умирал, тем больше оживал, потому что ощутил внезапный и мощный прилив радости: весь тот запас радости, что был положен его жизни, сосредоточился в этих последних минутах; отец старого К. не верил, что это всего лишь морфий, он смотрел на заплаканную семью у своей постели и чувствовал себя наполненным; чем более терял он чувствительность, тем больше его распирали чувства, тем больше он улыбался, а когда он приготовился сказать последнее слово, он подозвал старого К., стоявшего ближе остальных, и шепнул ему на ухо, прежде чем умереть, впрочем, возможно, он умер как раз в ту самую долю мгновения, которая нужна человеческому голосу, чтобы долететь до уха:
– Никаких трещин, никаких отклонений.
Отец старого К. ни разу не ударил никого из своих детей.
Мать старого К. бывала строгой, бывала злобной, бывала жестокой, но, пока жил отец старого К., она на него сваливала ответственность за осуществление воспитательных процедур и именно ему пеняла за педагогическую бездарность, поскольку отец старого К. отказался от битья своих детей. После его смерти мать старого К. была уже слишком слабой, чтобы охаживать своих повзрослевших детей ремнем.
Отец старого К. никогда не говорил о том, что его отец когда-либо бил его, никогда не вспоминал и о том, что кого-либо из его братьев дома били.
Мать старого К. бывала в синяках, но лишь в полученных от своего отца и лишь как следствие твердости его натруженных рук, его отчаянно-неуклюжих объятий, которыми он хотел компенсировать дочерям свое постоянное отсутствие.
Дедушка Альфонс обезоруживал взрослых, женщин и детей одним только взглядом, и хоть все боялись перечить ему, хоть все всегда его слушались, никому никогда не пришлось испытать на себе силу его руки, которой он, говорят, вырывал деревья, чтоб из ветвей делать зубочистки.
Никаких следов. Никаких традиций. Ничего.
Раньше было по-другому.