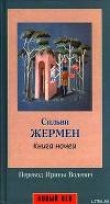Текст книги "Царица печали"
Автор книги: Войцех Кучок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Interludium (F. Ch. op. 28 no. 15)
– Антоний!
Зофья стоит у открытого окна, высовывается, щурится: солнце отсвечивает от капотов машин, от стекол и слепит, солнце впитывается в асфальт от зноя, от духоты; в такую жару случаются зрительные галлюцинации, миражи, видения, а Зофья, открыв окно, чтобы проветрить, чтобы проверить, будет ли холоднее с открытым окном, выглянула и увидела нечто невероятное: улица, а по улице идет, идет он, Виктор. Зофья позвала мужа к окну, чтобы тот подтвердил, что увиденное ею происходит на самом деле, настойчиво позвала:
– Антоний! Антоний!
Антоний сворачивает газету, меняет очки, кресло охает всеми пружинами своего нутра, когда Антоний тяжело поднимается, подходит к окну, встает рядом с Зофьей, выглядывает, всматривается в улицу, замечает, что идет по улице он.
– Никак Виктор? – Зофья уже не смотрит на улицу, теперь она смотрит только на мужнино лицо, по его выражению она хочет узнать правду, не сердце ли ее материнское так извелось от тоски, что у нее в мозгу открылась галерея картин отчаяния, Зофья хочет знать, не ее ли сын идет по улице, или, может, это безумие так приходит в этот безветренный день – в день птичьей тишины.
– Виктор…
Антоний произносит имя сына так, будто он только что придумал его, будто вертел в руках и проверял, годится ли оно для его потомка, которого прямо сейчас ему предстоит крестить, дать имя на всю оставшуюся жизнь; Антоний видит, как по пустой улице прямо к их дому направляется уверенным, твердым шагом его сын и приветственно машет, потому что заметил родителей, смотрящих из окна на него, все еще не верящих собственным глазам, все еще подозревающих собственные глаза в тайном сговоре с дьяволом; Антоний видит сына впервые за семь лет.
Зофья уже верит, уже знает, она больше не сомневается, она не может больше сдерживать слезы, Зофья уходит вглубь комнаты и суетливо, нервно плачет, плачет так, чтобы все успеть выплакать, прежде чем он постучится, чтобы успеть умыться прежде, чем она откроет ему дверь; Зофья не видела сына семь лет. Зофья и Антоний не виделись с сыном семь лет, с тех пор как он ушел из дома, забрав все, что они копили для него (так говорит Зофья), с тех пор как он убежал из дому, украв у них все их сбережения (так говорит Антоний). Вот уже семь лет у Антония и Зофьи не слишком много сведений о сыне, а от более осведомленных лиц они слышали, что не должны слишком интересоваться, что с ним происходит, что теперь у него свои дела и что он взрослый, что у него есть свобода воли и право выбора, теперь времена тяжелые, говорили им более осведомленные лица, и нельзя человека осуждать заглазно, говорили они. За семь лет Зофья только раз успела первой к телефону, когда звонил Виктор, обычно Антоний оказывался более проворным, поднимал трубку и… За семь лет Виктор позвонил несколько раз, и каждый раз, как только в трубке раздавался его голос, Антоний тут же клал трубку на аппарат; Зофье только раз удалось первой подскочить к телефону, чтобы успеть услышать от Виктора: «Мама? Мама, это ты? Я женился… На ней… Ты ведь дашь нам благословение, да?» – только и успела услышать, прежде чем положила, испуганная, трубку, когда Антоний спросил, кто звонит; Антоний что-то заподозрил, настоял на ответе. «Твой сын женился», – сказала Зофья и сразу пожалела, потому что Антоний заорал так, что соседи, и соседи соседей, и противоположная сторона улицы тоже – все должны были услышать: «НЕТ У МЕНЯ СЫНА!!! НИЧЕГО НЕ ХОЧУ ЗНАТЬ! НИЧЕГО!»
Антоний не отвечает на улыбку Виктора, смотрит с каменным лицом на сына, открывающего калитку. Виктор не перестает улыбаться, входит в дом.
Антоний слышит плач жены из ванной; он слышит на лестнице шаги сына, перемахивающего по две ступеньки, как много лет назад, когда он возвращался из школы, слышит звонок в дверь, троекратный, точно такой же, как семь и больше лет тому назад; Антоний не двигается с места.
Виктор стоит на площадке перед дверью, ждет, а потом стучится; стук – более доверительный способ обозначить свое присутствие за дверью, звонок звучит официально, анонимно, а каждый стук имеет свой собственный характер, по стуку можно распознать человека, если уж стучится – значит, точно свой, стук говорит «откройте, ведь это я». Виктор вспоминает, как он стучал много лет назад, имитируя ритм дождя, и стучит еще раз.
Зофья слышит стук, но не может перестать плакать, споласкивает лицо холодной водой в ванной и уже хочет бежать открыть, но новый поток слез душит ее и заставляет вернуться в ванную, ведь не может же она предстать перед сыном заплаканная, возвращается – холодная вода освежает лицо, но лишь на мгновение, Зофья не может перестать плакать, а Виктору уже наверняка не терпится; Зофья смотрит в зеркало – макияж потек, нет, в таком виде она не может открыть Виктору, испугала бы его, что так состарилась, она должна привести себя в порядок – идет в комнату, где Антоний сидит в кресле; Зофья смотрит на него укоризненно, показывает на дверь, обращая его внимание:
– Антоний…
Но муж протестующе мотает головой, он не хочет открывать дверь, не хочет видеть Виктора, он столько раз давал себе слово, что руки не подаст этому сыну-выродку, столько раз повторял, что нет у него больше сына, что теперь ему приходится быть последовательным. Все это время он не принял ни единого письма, не ответил ни на один телефонный звонок, а если что и узнавал, то только через кого-то – через знакомых, через соседей, через родственников; что это за птица, которая в родном гнезде гадит, повторял Антоний все эти семь лет; он от нас отказался за то, что мы воспитали его, дали образование, кормили-поили, – не может простить Антоний вот уже семь лет. А семь лет назад – единственная записочка, перед уходом, впопыхах накаляканная на каком-то клочке, которая, по идее, и должна была все объяснить; Антоний отлично помнит ее содержание, хоть взглянул на нее всего лишь раз, не то что Зофья, хранившая эту бумажку в ящике как реликвию, знавшая ее с любого места, перечитывавшая ее и при дневном, и при ночном свете, как будто хотела найти какой-то тайный шифр между строчками.
Виктор в точности не помнит, что он там написал семь лет тому назад, зато помнит страх и отчаяние – страх перед гневом отца и печалью матери; первые недели он не мог перестать думать о том, что отец в конце концов найдет его и отомстит, он не мог не беспокоиться о состоянии здоровья матери, о том, что ее сердце разорвется. Виктору смутно припоминалось, что он написал что-то об Ане, о камне на сердце, о любви, которая падает на человека как снег летом, ну и о деньгах, которые он у них взял. Виктор начинает беспокоиться, почему они так долго не открывают, недоумевает: неужели за эти семь лет у них ничуть не отлегло и их горечь нисколько не развеялась, возможно ли, что за все эти семь лет они так и не поняли, что их власть над ним закончилась в тот самый день, когда они попытались построить ее на деньгах, возможно ли, чтобы отец за все эти годы так и не понял, что это было никакое не воровство, что дети не могут обокрасть своих родителей, просто не все хотят ждать, не все хотят тянуть лямку пай-мальчика, – есть и такие, кто решает (может быть, слишком рано и неожиданно для родных) взять свою долю и стать самостоятельным, не спрося ни согласия, ни благословения.
Антоний слышит, что к дому подъехала машина, но никак не может определить по шуму работающего двигателя чья, встает и выглядывает в окно, видит полицейских, быстро выходящих из своей машины и вбегающих в дом.
Зофья узнает песенку дождя, выстукиваемую сыном, больше она не может выдержать, открывает, видит полицейского – он сидит на спине Виктора и заламывает ему руки, а второй полицейский защелкивает на запястьях наручники.
Виктор не может поднять голову, он лишь слышит крик матери и голос полицейского, который решительно заталкивает мать в квартиру и призывает сохранять спокойствие. Придавленный полицейским, Виктор не может ни слова из себя выдавить. Виктор не может себе простить, что не успел зайти к родителям. Он не ожидал, что его так быстро вычислят. А он уже предвкушал воскресное объединение семьи за бульоном, как в давние годы, когда все было простым, когда мебель была большой, а для того, чтобы выйти из-за стола, надо было соскочить со стула на пол; когда ночью достаточно было позвать маму, чтобы прогнать страшный сон.
Антоний обнимает дрожащую Зофью и слушает полицейского, который объясняет, что Виктора арестовали по подозрению в убийстве; больше он ничего не слышит, даже Зофью, которая вся в слезах вопрошает, кого мог убить Виктор, и сама же отвечает, что ее сын и мухи не обидит; полицейский хранит молчание, у него нет соответствующих полномочий, полицейский просит прощения, но он всего лишь выполняет свой служебный долг, полицейский предупреждает, что в нужное время их вызовут для дачи показаний; Зофья вырывается из рук Антония, она хочет увидеть лицо Виктора, подбегает к окну, видит, как Виктора, с натянутой на голову курткой, сажают в полицейский фургон.
Зофья стоит у открытого окна, выглядывает, зажмуривается, потому что солнце отражается от капотов машин, от стекол и режет глаза, солнце впитывается в асфальт от зноя, от духоты. В такую жару случаются зрительные галлюцинации, миражи, видения, в такой день можно увидеть нечто невероятное, поэтому Зофья подзывает мужа к окну, чтобы тот подтвердил, удостоверил, что произошло, если вообще произошло, если вообще хоть что-нибудь могло произойти.
– Антоний…
Фантомистика
А когда мы выпивали друг друга до последней капли, она заворачивалась в простыни, как в кокон, оставляя мне одеяло или плед, и тогда мне приходилось лежать на шероховатой поверхности тахты, потому что ни в одеяло, ни в плед я завернуться не мог, слишком жарко было; да, жаркие были времена, самые жаркие из всех времен. А когда на ней уже не оставалось нецелованного места, она, задрапированная до глаз, смущенно смотрела на меня, как будто только теперь стала заметна эта ее рассыпанная в полумраке (очки, куда это я их опять, под тахту куда-то запихнул, не хочется искать – утром поищу, только надо будет повнимательнее быть, чтобы не раздавить; видать, никогда не научусь класть их на видное место) обнаженность. А когда, закутанная, она ждала, пока ее кровь успокоится и снова потечет по жилам равномерно, я знал, что мне нельзя вламываться в эту ее простынную зону, что сейчас она приходит в себя, а когда придет в себя, должна будет освоиться с обстановкой, почувствовать, что теперь она от груди до кончиков пальцев, от паха до лба, подкожно и наружно принадлежит только себе и что то, чем она давала мне поиграться, опять вернулось к ней и просит прощения за отлучку, за неверность, за невоспитанность; вот так свернувшееся клубком и обернутое простыней ее тело послушно возвращалось к ней, чтобы никто (то есть я) не смел подумать, что любовь дает ему постоянный абонемент на его, тела, благосклонность.
Он был чутким, он знал, какие вопросы лучше не задавать, когда замолчать, когда прикоснуться, когда оказаться рядом, а когда исчезнуть, он все это знал лучше меня; да, рядом с ним я была уверена, что не услышу чего-то вроде: «Тебе так хорошо? Скажи, хорошо? А может, лучше вот так?» – что я не услышу потом: «Ну и как тебе было?» – или еще хуже: «Сколько у тебя было до меня?» – что он не станет ко мне приставать и что будет присутствовать настолько, чтобы я могла его чувствовать рядом с собой и чтобы одновременно скучать по нему; просто он был чутким, да, пожалуй, самое точное слово. Чувственно-чуткий.
А когда птицы в окне разгоняли своими крыльями остатки сумерек и нашей бессонной ночи, я аккуратненько – так аккуратно, чтобы даже самая маленькая пружинка не скрипнула под нами, – прикасался носом к ее шее и проверял, сном ли она пахнет. А когда я начинал ощущать исходивший от нее запах сна, я осторожно вынюхивал, все ли в ней наверняка уснуло, потому что сон, для того чтобы ему высниться до конца и досыта, должен был охватить ее целиком; я сторожил этот момент как только мог, всматривался в ее рассыпанные по подушке волосы, не притворились ли они спящими на одно лишь мгновение под моим взглядом, а так на самом деле спать им не хочется и они решили просто погулять по подушке, смотрел во все глаза, и если ловил их на беспокойстве, то гладил их, уговаривая успокоиться, вглаживал в них колыбельную, вплетал их в сон. А когда уже и волосы начинали пахнуть сном, я, не приподнимая ее утренней фаты, пальпировал каждый участок ее тела, каждый мускул, проверяя, не выдает ли его какое напряжение, тем самым ее сон предавая, а если и случалось такой нащупать, я одним лишь прикосновением размягчал его, ослаблял, усыплял. А когда я уже точно знал, что все в ней крепко спит, я должен был задать ее сну правильный тон, так его настроить, чтобы ни один из демонов ночи не сел у нее на груди и не нашептал в ее уши страшных сказок, чтобы не превратил ее уста в свой рупор и не стал сквозь ее сон нести свою нагоняющую страх тарабарщину, от которой только пот, слезы и верчение с боку на бок. Тогда я брал судьбу ее сна в свои руки, которые возлагал ей на грудь, и запечатывал конверт с хорошим сновидением последней своей лаской, последней, но долгой, потому что я отходил от нее лишь тогда, когда на губах ее появлялся страж нежных грез – улыбка не от мира сего.
Я не знаю, когда он засыпал, мне никогда не удавалось заснуть второй и проснуться первой; всегда, когда я просыпалась, он был уже рядом, и – и это важно, это на самом деле было для меня важно – никогда в постели мне не случалось застать его спиной ко мне. Впрочем, раз мне удалось увидеть его спящим: вышло так, что я не могла выбраться из подъезда, странная история, никогда раньше я не сталкивалась с закрытой дверью внизу, видимо, в доме стали вводить новые порядки; что вроде как здесь живет средний класс, пусть не в смысле доходов, но уж точно в смысле претензий, а потому у каждого жильца должен быть свой ключ от парадного, чтобы никто не вошел и не вышел без согласия хозяина; пришлось вернуться, позвонить в дверь, но он не открыл (он всегда открывал, как будто стоял и ждал у двери, собственно говоря, всегда бывало так, как будто, нажимая на кнопку дверного звонка, я привожу в действие и сам звонок, и автоматического привратника, мне ни разу не пришлось ждать – наверное, он просто видел меня из окна, а это значит, что он высматривал меня, поджидал…), так что я подумала, может, он заснул наконец, уверенный, что он меня довольно долго не увидит, что я не увижу его спящего. Я достала ключи и открыла дверь, все это было довольно шумным – побрякивание ключей, постукивание каблуков, минутная возня в прихожей, – прежде чем я нашла в его куртке нужную связку, потом краем глаза за приоткрытой дверью я заметила одеяло. Вошла в комнату и чуть не закричала от страха: он лежал навзничь с открытыми глазами и не видел меня, он выглядел как мертвец, то есть он даже спал с открытыми глазами, и если бы не размеренное, в ритм дыхания, движение одеяла, я была бы уверена, что он умер. У-ве-ре-на, что умер.
А когда ее уже не было в квартире, когда она выходила вместе со своим каблучно-коридорно-исчезающим стуком, который потом внизу, под окнами, основательно растворялся в других уличных стуках, а у меня оставался только ее запах, я закрывал окно, чтобы не выпустить этот запах, и начинал поиски оброненного ею волоска – на одеяле, на моей рубашке, рубашке, которую она обожала надевать, потому что та очень хорошо сочеталась с бессонными ночами, с разговорами, с выходами на балкон и любованием луной, с гусиной кожей, с возвращениями в постель, с объятиями. А когда со мной оставались только ее запах, волосы и еще какие-нибудь еле заметные следы ее пребывания, я становился словно собака, которая никогда не может понять, что хозяйка вышла и скоро вернется, потому что для нас, собак, если хозяйки уходят, то уходят навсегда, и мы, собаки, каждый раз умираем от беспредельного одиночества, поэтому каждое их возвращение к нам становится невозможным чудом и возвращает нас к жизни. А когда она исчезала, то начинала всем – кожей, кровью, пульсом – думаться во мне, я старался вспомнить ее лицо и как мы познакомились, но от тоски не мог вспомнить, и тогда я пытался понять, кто мы такие и как все это у нас началось. Когда ее не было, то ее будто не было никогда; когда же она возвращалась, я забывал, что мы когда-либо расставались.
С некоторого времени я стала замечать, что у меня проблемы с памятью. При нашем темпе жизни, при такой гонке на фирме с утра до вечера человек часто ловит себя на том, что не помнит всего, что вокруг, а то зачем тогда в уголке экрана в компьютерах помещают дату, то есть все делается так, чтобы даже этим человек не загружал себе память, зачем тебе знать, какой сегодня день, время не принадлежит тебе, ты продал его работодателю, ты не должен забивать себе голову памятью о времени; да что там время, если бы ты забыл, как тебя зовут, тоже ничего не произошло бы, не важно, как тебя звать, хорошее твое имя или плохое, важна твоя функциональность. В принципе, мелкие провалы памяти были в порядке вещей, в них не было ничего тревожного. Настоящие же проблемы у меня начались… вот именно, я даже не помню когда, видно, я вышла от него чуть позже и опоздала на автобус, хотела позвонить на фирму и предупредить, что задерживаюсь, и как раз тогда, именно тогда, внезапно: пустота. Какая фирма, что такое фирма, что вообще означает это слово, название рыбы, что ли; куда я шла, в магазин, где торгуют рыбой-фирмой, за филе, мне филе, что ли, нужно, что я тут делаю, что значит «делаю», что значит «я», почему его нет рядом со мной, почему я не с ним и не в постели, есть ли какое-нибудь оправдание моего отсутствия в постели, что этот телефон делает в моей руке, как его положить на место, может ли мне кто-нибудь помочь?
Знакомый психиатр говорил, что невроз способен на гораздо большее, чем мы можем себе представить, в этом и состоит его парадокс: мы сами его придумываем себе в подсознании, сами на свою голову раскармливаем его, а потом он удивляет нас симптомами, которых невозможно было ожидать; он говорил, что стресс иногда вызывает внезапную потерю памяти, как внезапный сон у больных нарколепсией, что это может случиться при слишком больших нагрузках, ну а эта моя работа, беготня и так далее… Нет, само Собой, он говорил слово «невроз» для поддержания моего духа, но так подозрительно при этом смотрел, так морщил лоб, что я по выписанным на его лбу морщинам прямо прочла удивление. «Неужели альцгеймер? В таком возрасте?»
Впрочем, речь здесь не шла только о памяти, это было внезапное ощущение абсолютной уверенности, что всего того, что не является Им, Моим Любимым Мужчиной, просто не существует, что это всего лишь на скорую руку выстроенный фон, какой-то невнятный второй план, как в американских сериалах, где стоит перенести внимание с действия на первом плане на подвижную массовку на втором плане, чтобы заметить всю ее искусственность, ту неестественную симметрию, с какой статисты перемещаются из одного конца экрана в другой, все одинаково, никакой случайности, – точно так же я смотрела теперь на людей на остановке, в автобусах, в трамваях, в машинах, на велосипедах, все время туда-сюда, все бегом и все как-то слишком симметрично, неестественно, в панике жизни, которая корежит их и велит им изо дня в день быть никем; я видела эти безликие табуны и абсолютно была убеждена, что, стоит мне к кому-нибудь из них обратиться, он недоуменно пожмет плечами и станет беспокойным взглядом искать режиссера, немо вопрошая: «Чего она от меня хочет? Я ведь всего лишь статист…»
Проблемы с памятью не означают только и исключительно проблемы с запоминанием и узнаванием. Все это можно легко списать на невнимательность и не слишком казниться, ведь именно так и пролетает по жизни большая часть так называемых художников; о нет, настоящие проблемы с памятью начинаются тогда, когда вспоминается не то и не так, как хотелось бы. Известно, что дежавю держится едва ли не пару секунд, а послевкусие от него остается надолго. Что бы было, если бы дежавю возвращалось все чаще, на более длительное время, чтобы наконец длиться беспрерывно, в течение многих минут, часов, дней? А со мной ведь именно это и произошло.
А когда я всматривался сблизи в пушок на ее шее, в том месте, где кончается линия волос, то не мог удержаться и языком вел вдоль позвоночков, стараясь, чтобы моя слюна не успела высохнуть на ее шее, не отрывал взгляда от праздных с незапамятных времен дырочек для сережек, а мой язык, опережая мысль, уже поселялся в ее ухе, и под ухом, и под другим ухом тоже, и тогда она сама приходила в движение, уже по собственному выбору любезно знакомя меня с местами, сильнее других стосковавшимися по влаге моих губ, подставляла мне их: ложбинка у основания шеи – в месте сближения ключиц – ждала увлажнения и ниже, под ключицами, где нежно начинает обозначать себя грудь, и медленно, очень медленно, круговыми движениями – языка на одной груди и кончиков пальцев на другой – я выводил симметричные спирали, все теснее окружая утвердившиеся в желании и отвердевшие от желания соски, даже сама мне их нетерпеливо подставляла, чтобы с ними в устах вызывал духов из ее уст, духов любовников былых времен, которые в ее стонах и отрывистом шепоте выбирались на свет и сбрасывали со столиков чашки, сбивали в кучу простыни и склоняли нас к тому, чтобы мы, отбросив церемонии, предпочли ненасытность и подчинились бы этим шепоткам, не признавая порядка, не признавая ни вертикали, ни горизонтали, ни полов, ни потолков, не признавая ни этот свет, ни тот, ни жизнь, ни смерть, чтобы все оказалось бренным, несущественным, когда мы оба, объединенные взаимным обладанием, обалдевали и становились безразличными ко всему остальному, а остальным тогда становилось все, кроме нас, впрочем, мы сами тоже становились тогда остальным, неважным, а важно было только то, что возникало между нами и все быстрее и быстрее несло нас друг к другу, делая нас все ближе и ближе.
У меня все время было подозрение, что время нас обманывает, но я не подозревала, что оно обманывает нас все время.
Я увидела на улице какого-то господина в шляпе: он галантно приподнимает шляпу, приветствуя какую-то солидную пару. Между солидной парой и галантным господином проезжает ребенок на велосипеде, шляпа из руки галантного господина вылетает, он наклоняется за шляпой, солидная пара умиленно смотрит вслед юному велосипедисту, безграничное терпение на их лицах – как все мило, милая сценка, милые люди, вот только вижу я это не впервые (в сотый, в тысячный раз?). То, что принято считать миром внешним, я разоблачила как оживленную сценографию с ограниченным количеством вариантов. Ограниченным моей памятью. Я стала так часто узнавать лица, ситуации, угадывать погоду, события, что этот свет должен был бы для меня уже очень давно кончиться, так давно, что это, в сущности, громадное количество картин, которые в моей памяти отложились за годы жизни, успело примелькаться. И я успела проникнуться уверенностью, что меня давно уже нет в живых. Я думала, что смогу справиться с этим, но чувство, что тебя больше нет, довольно сильно занижает самооценку, особенно если это чувство начинает, с позволения сказать, обретать плоть. Я так подумала: я не знаю, какая она должна быть, загробная жизнь, но я себя в ней не вижу, и как раз тогда началось самое плохое: уже не стало моего тела, в смысле, видеть-то я его видела, но перестала ощущать, не могла двигаться, или даже и этого не было – я впала в истерику, спросила его, видит ли он меня, как он вообще может видеть меня, если меня нет, как можно быть таким наивным и ничего не понимать, но довольно было того, что он прикоснулся ко мне, достаточно было того, что я услышала от него: «Да успокойся ты, с тобой все в порядке, ведь не с самим же собой я сейчас разговариваю»; он гладил меня и приводил в чувство, его прикосновения возвращали меня к себе.
А когда все эти досадные рецидивы одолевали ее, когда она пыталась бежать от себя, мне приходилось крепко держать ее, оберегая, потому что в те моменты, когда земля уплывала у нее из-под ног, она могла больно удариться о воздух, и тогда надо было обнять ее, незаметно подмешать лекарства к сокам, обнять ее и объяснить, что все для нас остается в раз и навсегда установленном любовном порядке, обнять ее, тайно вливая изо рта в рот психотропный сок, обнять ее, убеждая, что мы были, мы есть и мы будем, что это все происходит взаправду, обнять ее и почувствовать в ответ, как в ней спадает напряжение, как разряжается источник истерии, как она обмякает в моих объятиях и уже безгранично верит в мои слова, обнять ее и уложить на диване, обнять ее взглядом, удаляясь в прихожую, снять трубку и набрать номер врача, обнять ее мыслью, шепча психиатру, что с ней опять все то же, сообщить врачу, сколько и каких лекарств дано, и ожидать инструкции, окутать ее дыханием облегчения, когда врач напомнит, что это не лечится, но с этим можно научиться жить, если организовать уход, а потом укутать ее одеялом и еще раз проверить сон, потому что, если этот ее многотрудный сон метался под веками, я начинал целовать ее веки, пока они не переставали дрожать под моими губами.
Как-то раз, когда я смотрела на его окно, в котором горела ночная лампа, окно, за которым он ждал меня со всей своей безумной любовью, которой хватило бы на легион, а не только на нас двоих; так вот, когда я в тот раз смотрела на его окно, собираясь уже переступить порог дома, мне подумалось (и так уж это во мне осталось), что и это тоже было. И он был. И я была. От нас осталось только то, что было между нами. Мы – два фантома на службе вечно живого чувства.
Мне тогда вспомнилась наша общая давнишняя молитва, когда мы хотели дать обет себе и Богу, да что там Богу – всем существующим и придуманным богам, что мы будем вместе больше, чем до самой смерти; я вспомнила, как мы просили все сверхъестественные силы, святотатственно не обращая внимания на то, светлые они или темные, Бог ли исполнит нашу просьбу или Сатана, ох, лишь бы исполнилось; так вот, мне вспомнилось, как мы с ним молились, чтобы эта наша любовь и нашу смерть пережила, чтобы она жила всегда, когда нас уже не будет, а не просто всю жизнь, до самой смерти – если любить, так навсегда, а стало быть, и на том свете, на веки вечные. Ну и вымолили себе.
Я никогда бы не осмелился сказать ей в глаза, что она больна.
Я оставил все на волю случая: выписка из медицинской карты, диагноз и лекарства были наверху в верхнем ящике, так что в любой момент она могла наткнуться на них.
Я никогда бы не собралась с духом сказать ему, что нас обоих больше нет в живых. Я знала, где лежат фотографии наших похорон, ему достаточно было открыть верхний ящик и перебрать содержимое.