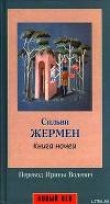Текст книги "Царица печали"
Автор книги: Войцех Кучок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Когда поиски березки затянулись, когда неуверенность потихоньку одолела ее, все у нее внутри замерло, даже сердце замерло и перестало биться, кровь замедлила свой бег, и все это при мысли, что коль скоро она старше собственной старости, то с ней может случиться даже такое несчастье, судьба может обойтись с ней так жестоко, что, слишком старая, чтобы иметь внуков, слишком неживая, чтобы быть уверенной в собственном существовании, она окажется еще и слишком дряхлой, чтобы добраться до того места, куда она всегда, пока была жива, добиралась автоматически и от которого до могилы мужа рукой подать. Зернышко мысли было заронено и прорастало, Регину все сильнее охватывал страх, ряды надгробий, вокруг которых толпились родные и близкие усопших, выглядели похоже, практически одинаково, и чем дольше шли поиски, тем меньше обнаруживалось опознавательных знаков пути, узнаваемых точек. Место она помнила точно, но то была специфическая память, которая обновлялась только раз в году, – память, основу которой составляла убежденность, что на кладбищах год считается за день, что на кладбищах за год должно меняться не больше, чем в остальном мире за неделю; вот и теперь память не была ей помощницей. Регина подумала, что если ей стало так трудно определять по утрам, какой сегодня день недели, то вполне возможно, что у нее из памяти ускользнул ряд надгробий, правда (по волнам памяти еще плавал спасательный круг – ее спасительная березка), помнила она о березке, знала, что растет здесь благословенная березка, помнила, что каждый год, направляясь на могилу мужа, говорила про себя: «Как же мне повезло, что муж лежит под березкой, другим приходится блуждать среди могил, а у меня есть ориентир – березка», но сегодня березки не было, и чем больше Регина укреплялась в мысли, что она могла пойти не в том направлении, тем больше ею завладевала паника. Она старалась успокоить себя, она знала – хотя бы по общению с дочерью, – что такие внезапные провалы в памяти случаются именно тогда, когда человеку очень-очень чего-то не хочется, дочь Регины часто забывала пин-код своего телефона, часто звонила матери: «Мамусь, только быстро, потому что я звоню с чужой трубки, продиктуй мне пин моего мобильника, у тебя должен быть записан в тетрадочке у телефона, только быстро, быстро!»; у Регины, конечно, были записаны все важные номера, в блокнотик у кровати она всю жизнь записывала номера счетов, телефонов, коды, адреса, логины, пароли, и давно уже неактуальные соседствовали с новыми, потому что жалко было вычеркивать из блокнота номер телефона того, кого больше нет в живых, по вычеркиваниям это у нас Господь Бог, думала она, а номера пусть еще немножко поживут, пусть умершие живут хотя бы в телефонных номерах, она всегда находила нужный номер и диктовала дочери и тогда чувствовала себя счастливой, потому что такая уж роль матерей – помнить о детях и за детей. Регина понимала, что чем сильнее она будет стремиться в нужное место, тем меньше у нее на это шансов. Когда же до нее дошло, что березку спилили, что ее просто нет, когда она поняла, что даже не знает, в каком месте березки больше нет, что она не может вспомнить даже приблизительно, где это «где-то тут», когда поняла, что для того, чтобы попасть на могилу мужа, ей придется совершить подвиг – пройти надгробие за надгробием вдоль дюжины тянущихся на сотни метров одинаковых на вид аллеек, когда она поняла, что на такой подвиг у нее были силы последний раз лет десять назад, когда до нее наконец дошло, что она не попадет на то место, где захоронены ее муж и мать, ее охватила такая жуткая тоска, как будто ее близкие умерли только что и оставили ее одну, бессильную девочку, потерявшуюся в толпе, боящуюся спросить, как пройти домой. И тогда она заплакала.
Регина возвращается. Полное купе, она в углу у двери, сложив руки на сумке с лампадками. Ее вдруг кольнула мысль, что она могла бы их зажечь хотя бы на безымянной могиле, но тут же осеклась: там зажигают свечки и лампадки для тех, у кого нет могил или у кого эти могилы далеко в чужих краях, но не тем, чьи могилы трудно отыскать дряхлым старушкам; Регина именно так и думает о себе, в яростном отчаянии она считает, что эти лампадки ей впору зажигать для себя самой, потому что среди живых ее больше нет, а вернее, среди них она чужая, нездешняя, ничего уже не ожидающая от жизни – ни хорошего, ни плохого, а если чем она и живет, то только смертью, ее ожиданием. Регина чувствует, как в выпирающих на ее руках фиолетовых прожилках под одряхлевшей кожей пульсирует кровь; она надевает коричневые перчатки, чтобы спрятать кровь, у нее претензии к крови, зачем она так упорно дает о себе знать, ведь сама по себе кровь не означает жизни; для того чтобы быть живым, недостаточно, чтобы сердце просто билось, сердце должно биться для кого-то, а Регина больше не хочет, чтобы оно билось, она уже хочет быть там, где не надо блуждать и теряться, потому что там все на месте. Поезд везет Регину домой, хотя она предпочла бы не выходить из поезда, проехать все станции и остановиться там, с другой стороны туннеля, где если и плачут, то только от счастья.
До ее слуха долетают разговоры в купе, люди сегодня по-праздничному разговорчивы, одни завидуют речистости других, одни разговоры перекрещиваются с другими, как будто каждый хотел оповестить, что ему есть с кем поговорить, даже если говорить не о чем. Не иметь с кем поговорить – значительно хуже, чем не иметь к кому обратиться. Регина хорошо знает об этом, она всегда возмущается дочерью, когда та жалуется по телефону на свой брак. «Нам уже давно нечего друг другу сказать», – говорит дочь, а Регина тогда думает: друг другу всегда можно что-нибудь сказать, только что за радость говорить друг другу что-нибудь. Ей кажется, что это говорливое купе, одно из многих в говорливом поезде, нацелено на нее, на ее одинокое молчание. Если бы кто-нибудь спросил ее, что хуже всего в старости, она сказала бы, что молчание и одиночество; так она ответила бы еще недавно, а теперь сказала бы, что самое худшее в старости – это жизнь, никому не нужная, бесполезная жизнь, за которую еще и счета приходится оплачивать. Регина слышит разговоры, рассказы, одна история сменяет другую; ее попутчицы, как маленькие девочки, борются за пальму первенства, за кубок поминального рассказа. Регина слышит о старичке, который повесился в день похорон своей жены: он прожил с ней пятьдесят лет, а когда она умерла, только и ждал, когда у него сердце разорвется, вот только сердце было у него как колокол, хорошее, довоенное, да и предки его были долгожителями, так что он не стал дожидаться, пока похоронят жену, а чтобы сразу вместе с женой его закопали, чтобы земля еще была мягкой. Тут вступает молодой голос, рассказывающий о молодом мужчине, который не хотел давать жене развода, дело тянулось годами, он свою жизнь как-то устроил, даже лучше, чем с ней, уважаемый, добропорядочный, приличный человек, и все давно уже забыли об этом неудачном его браке, но дело растянулось на годы, от слушания до слушания, в перерывах на несколько месяцев, жизнь шла своей колеей, а дело где-то медленно по обочине, все уже давно забыли, что этот развод длится в три раза дольше, чем сам брак, но в итоге жена выиграла, получили повестки уже на оглашение решения, что, дескать, развод, и все тут, точка, жена расфуфыренная, под ручку с адвокатом, смеется, ждет, когда наконец придет ее бывший супруг, не дождалась, ее пригласили на опознание трупа, потому что спрыгнул с крыши, так и не дав развода, предпочел умереть, но настоять на своем – через столько лет! Тут к разговору подключается низкий с хрипотцой женский голос. Регина чует затхлое дыхание курильщицы со стажем; голос комментирует услышанное, утверждая, что самоубийство – это эгоизм, потому что на самом деле человек не настолько одинок, как ему кажется, всегда найдется хоть кто-то на белом свете, кого такая смерть ранит, а если не на белом, то на том, потому что это глупость – вешаться от тоски после смерти жены – хотя бы потому, что если существует загробная жизнь, то человек самоубийством навсегда закрывает перед собой врата небесные, и придется ему на том свете и дальше скорбеть и страдать от разлуки, только длиться это будет вечно, ад в том и состоит, что то, чего мы в жизни более всего стараемся избежать, точит там на нас свои адские зубы.
Регина больше не хочет слушать, тем более что на разговор отреагировали две сидевшие рядом оторвы. Одна другой шепотком вперемешку с хохотком рассказывает о бабке, которая умерла от склероза: ей так память отшибло, что она в конце концов забыла, как дышать. Девушки смеются, прикрывая лица руками, тихонько, чтобы не вызвать возмущения окружающих. Регина не хочет на все это смотреть, болят глаза – слишком много слез пролила она на холодном ветру. Она закрывает глаза, не слушает, не смотрит, только ощущает ритм вагона, стук колес на стыках. Ей сегодня плохо спалось, самое время вздремнуть. Мысли расплываются, рассыпаются, густо засыпая ее; она засыпает.
– Представляешь, мне снилось, что я умерла во сне, – говорит она, осторожно выходя из поезда, поддерживаемая под руку видным мужчиной, который, стоя на перроне, элегантным жестом коснулся полей своей шляпы, как только увидел ее в окне вагона. Мелкая морось постепенно переходит в настоящий дождь, мужчина раскрывает зонтик, берет Регину под руку и, ведя ее вдоль вокзального перрона, говорит:
– А мне снилось, что я жил во сне.
Регина сильнее прижимается к плечу мужа. Вот она и дома.
Interludium (F. Ch. op. 28 no. 18)
Я стараюсь не вспоминать о том, каким кошмаром стала из-за тебя моя жизнь на земле. Здесь воспоминания зарастают быстрее, чем заброшенные могилы, забыть легко, и все же я до сих пор не могу простить себе, что эту свою единственную короткую жизнь я потратила на тебя.
Слишком мало сказать, что я не любила тебя. Ты мне был противен. Когда ты был рядом, во мне отвращение вызывало твое присутствие; когда тебя не было, мне была противна сама мысль о том, что ты есть. Не важно, что ты говорил, не важно, говорил ли ты мне, или я слышала твой голос за стеной. Я ненавидела, как ты открывал и закрывал дверь, этого было достаточно, чтобы издалека узнать, что это ты; мне ненавистны были твои шаги, особенно в тапочках, я ненавидела тот звук, который они издавали, когда шлепали тебя по пяткам при ходьбе. А твой голос я ненавидела до такой степени, что сама накликала на свою голову твои телефонные звонки каждый раз, как только думала о том, как же хорошо, что ты так долго не звонишь. Я не могла вынести того, что ты каждый раз обращался ко мне просто так, без надобности; с другими иное дело: ты им давал поручения или интервью, аудиенции, другим у тебя всегда было что сказать, а со мной ты просто чесал язык, разговоры ни о чем и всегда некстати. Мне ненавистны были твои безукоризненные манеры за столом, это беззвучное жевание, это едва уловимое стуканье ложки о тарелку, это обтирание усов с почти незаметными остатками супа на них. Я ненавидела то терпение, с которым ты сносил мои придирки; я ненавидела нервное покачивание ногой, которое было единственным знаком того, что мне удалось ранить тебя.
Я ненавидела тебя за то, что ты не изменял мне, не бил меня, что ты не насиловал меня, за то, что ты зарабатывал на нас двоих и создавал мне этот убийственный супружеский комфорт, не давая мне тем самым ни малейшего повода развестись с тобой.
Но главным образом я ненавидела тебя за то, что сама не могла тебе изменять, потому что, будучи твоей женой, я тем самым изменила бы Родине, обрекла бы себя на костер, самым легким для меня оказалось бы изгнание и вечный позор, о нет, я не могла изменить тебе, а всех своих несостоявшихся любовников я прогоняла из спальни, когда оказывалось, что их возбуждали не мои ласки, а сознание, что они крадут их у тебя, сукин сын!
Знаешь, я молитвами выпросила для себя эту болезнь. Я молилась, чтобы этот ужас закончился, я думала о том, что даже самое страшное наказание за самоубийство не устрашит меня больше, чем мысль о том, что ты до конца жизни будешь липнуть ко мне ночью потным телом. Ты помнишь, как я кричала? Ты тогда просыпался и пытался успокоить меня этим своим влажным шепотом, этими своими паршивыми поцелуями, объятиями, ты говорил, что это всего лишь дурной сон; а я во сне-то как раз и не кричала, а кричала после пробуждения, когда обнаруживала, что твоя кожа прилипла к моей, я кричала от омерзения, когда я пыталась от тебя отстраниться и чувствовала, что сначала я должна отклеиться от твоей жирной задницы!
Я подумала, что, даже если в могиле меня не покинет сознание (ведь вроде в том и состоит чистилище, что сознание сохраняется до тех пор, пока тело не обратится в прах), я все равно выдержу, потому что предпочитаю, чтобы в моем нутре копошились черви, чем чтобы каждую ночь запускать в себя твоего большого червяка, вминавшего меня в простыню.
Я вымолила себе эту болезнь. А ты, падаль, не знал, как мне облегчить страдания, потому что думал, что я мучусь, а я была счастлива, потому что каждый приступ приближал меня к свободе. Я умирала от наслаждения, когда жизнь высыхала во мне, потому что ты наконец перестал меня желать, а потом стал бояться, как будто смерть – это заразная болезнь; наконец я могла спать отдельно, одна в постели, одна в спальне, а в конце, когда мои стоны стали для тебя невыносимыми, одна в отделении, в палате люкс (а то как же!), которую ты мне обеспечил.
Я только после смерти воспрянула к жизни. Теперь я могу дышать всей душой.
И не позволю тебе отобрать у меня все это.
Чтоб тебе жить вечно!
Доктор Хаустус
I. Воображения
Лай. Остервенелый, однообразный, монотонный.
Это, должно быть, такса. Несмотря на жару, пришлось закрыть окно, но ее все равно слышно сквозь пол, значит, это точно такса с первого этажа, тяжелый случай, потому что соседи вернутся с работы часов через пять, а она стоит как раз в прихожей над резиновым свиным ухом и лает, требуя, чтобы ей кто-нибудь кинул ухо-игрушку, она не понимает, что ни хозяина, ни хозяйки нет дома, и пролает все пять часов, прерываясь лишь для того, чтобы сходить на кухню, водички попить из миски, когда у нее пересохнет в ее собачьем горле; после чего она снова вернется к игрушке, встанет над ней и залает, потому что в своем крошечном мозгу отметила, что от лая игрушки летают; связь человеческой руки с этим явлением для нее неясна, так что она пролает все пять часов, пока они не вернутся, а у меня как раз прием очередных пациентов, приходится сосредоточиваться, на худой конец, делать сосредоточенное выражение лица, чтобы не услышать вопроса: «Простите, а вы слушаете меня?»
Разумеется, слушаю; с тех пор как открыл свой кабинет (уж скоро пять лет), только тем и занимаюсь, что слушаю, я – профессиональный слушатель; терапия для брошенных оказалась попаданием в десятку, я веду подробные записи, из которых следует, что я слушаю, почитай, уже трехтысячный раз, слушаю, но когда я ослабляю внимание, то они всегда это замечают, и сразу же беспокойство и претензии в голосе: «Простите, что я вообще возникаю, но понимаете, мне было бы легче, если бы вы иногда смотрели на меня…»
Этот хочет, чтобы я смотрел, другой, чтобы, боже упаси, не глядел – это его смущает; эта хочет, чтобы я стоял у нее за спиной и чтобы она меня не видела, потому что в противном случае не откроется; другая, стоило мне встать у нее за спиной, рявкнула: «Никогда не вставайте у меня за спиной! Мой отец, будь он неладен, всегда подкрадывался сзади!»
Теперь я принимаю практически только мужиков, и, как правило, с одной и той же проблемой: Она уходит от него после прожитых вместе лет, чаще всего имея на то все основания, а Он находится где-то между первой вспышкой гнева и последней, беспредельной тоской, еще готовый «все простить ей и принять обратно», хотя уже понимает, что готов отправиться в Каноссу на велосипеде с квадратными колесами, лишь бы вернулась. И хотя он уже знает, что она никогда не вернется, он все никак не может собраться с духом и сказать себе это; вот он и приползает ко мне, они всегда приходят, чтобы услышать из моих уст то, что сами боятся произнести. Приходят затем, чтобы возвести свою жизнь в ранг повести, которую я вынужден слушать. И снабжать примечаниями, производить текущую экзегезу[13]13
Экзегеза – толкование древних, преимущественно религиозных текстов.
[Закрыть]. Чтобы их вытащенное на свет божий грязное белье превратить в музейные объекты, чтобы у них были свои застекленные стенды с информационными табличками. Я веду учет их катастрофам, описываю их и, залитые формалином, отдаю назад; вырываю «больные зубы» из их рыхлых душ и отдаю им, завернутые в платочек.
Некоторые приходят только раз, вроде как за отпущением греха. Таких не стоит прерывать, таких надо слушать терпеливо, что бы они ни говорили. Понимающе кивать головой, но не слишком часто, чтобы не вызвать подозрений, кивать точно в тот момент, когда они своим взглядом ищут понимания, когда они после сбивчивого вступления переходят полушепотом к интимным подробностям, кивать головой затем, чтобы освободить их от чувства вины за порочные удовольствия.
Собака лает. Все громче. Впечатление такое, будто она уже бегает у себя по потолку, уткнувшись мордой в мой пол снизу, будто хвостом за мной волочится и лает оттуда – прямо на меня.
А сосед сверху теперь тоже живет один. Поначалу до меня вечерними часами долетали отголоски раскатистой канонады ссор из района их спальни, потом канонада не смолкала сутками: стуки, крики, патетическая партия сопрано и шнапс-баритона, разбиваемая контрапунктом тишины молчаливых дней. Но все перекрыл звук мотора: жена уехала, и сосед должен был понять, что теперь он снова свободен. Три дня я слушал мертвую тишину, на четвертый день он приполз ко мне. Размякший, как мамалыга, принес мне любовную элегию к жене, спросил, хорошо ли написано, вернется ли она к нему, когда прочтет это. Хватился, когда с горы скатился. А теперь поэзия. Ну чисто плач Иеремии. Даже как-то не с руки было прерывать его. Я сыграл на его самолюбии, можно сказать, математически: «Вы говорите, что потеряли себя в этой любви. Ну а теперь, когда вы потеряли любовь, вы должны найти самого себя. Такая вот калькуляция…»
Потом наступала первая фаза траура после разрыва: шатание по кабакам и приятелям со своею скорбной лирой, а когда он получил повестку на первое слушание, совершенно расклеился, ну и снова ко мне приполз, теперь уж официально, в качестве пациента, готового заключить контракт.
Жаловался, что стал посещать бордель, причем всегда выбирал девицу с самой большой грудью, а потом, в номере, сворачивался калачиком у нее на коленях и припадал к ее груди. Она гладила его, а он закрывал глаза и сосал. Иногда под колыбельную.
Да-да, даже бравые усатые менеджеры если что и ищут под супружеским одеялом, так это источник тепла, а вернее, теплый компресс на почки, а не воплощение эротических фантазий, секс с женой для них просто гигиеническая разновидность онанизма. А потом, когда вдруг останутся одни, они застонут, что забыли, как покорять женщину. Матримониальные обычаи теперь не такие, какими они запомнили их в студенческие годы. Им все приходит на память время «поствыпускного класса» (а как еще иначе назвать первокурсников, которые обычно в начале учебы все поголовно глупеют, причем делают это парами). После второй кружки пива кто-то уже стрелял из Кортасара[14]14
Кортасар Хулио (1914–1984) – аргентинский писатель.
[Закрыть], и если мазал, то после третьей из Воячека[15]15
Воячек Рафал (1945–1971) – польский поэт.
[Закрыть], если опять в молоко, то Стахуры[16]16
Стахура Эдвард (1937–1979) – польский бард, поэт.
[Закрыть] на четвертой хватало – обязательно кто-нибудь из девиц реагировал, и тогда можно было приступить к обмену мнениями, достать из рюкзачка еще бутылку, начать читать ей полушепотом свои стихи, а потом оставалось только объявить во всеуслышание, что они отправляются в поход с ночевкой.
Я им объясняю, что правила, как и на рынке труда, стали жестче: если вы хотите чего-нибудь добиться, то обязаны сделать привлекательное предложение, как бы вульгарно это ни показалось. Больше никогда не бывать им отпускными казановами, хватит, нагулялись-навалялись по земляничным полянам на всю оставшуюся жизнь; у тех девушек, которых они доводили до самозабвения, уже свои взрослые дочери. А впрочем, идея не такая уж безнадежная: бросить фирму, выложив на прощанье шефу, что после питья из одной рюмки с ним приходилось бегать в аптеку за дезинфекционными средствами, потом заглянуть в университет – старый профессор обрадуется, может, посодействует приему в аспирантуру; у научных работников льгота на железнодорожный транспорт, и тогда можно будет достать с антресоли рюкзачок, положить в него тетрадь, ручку и отправиться в одиночное странствие по Польше, раньше или позже на пути попадется такая тростиночка, которая родителям предпочтет поэта в летах и в один прекрасный день спросит: «Зай, а какой у тебя знак зодиака?» – а он ответил бы: «Вагант». Они бы плавали себе вдвоем на байдарке, ездили бы на велосипедах, целовались бы на заброшенных кладбищах, любились бы на башнях старых замков, имея все у себя под ногами, а перед собой, в перспективе, – осень, ее возвращение в школу и к родителям с их вопросами об ответственности, о жизни, о безопасности, и, даже если бы она их убедила, что он вовсе не такой старый, каким кажется на первый взгляд, бдительный отец все равно добрался бы до его метрики, а также, что еще хуже, до свидетельств о рождении его детей, о расторжении брака и об алиментах и, если бы даже не спустил на него ротвейлера, поработал бы с дочкой и посеял бы в ней зерна сомнений, но, даже если бы закончились и эти трудности, девочка незаметно превратилась бы в женщину, заматерела, как и ее предшественницы, сочла бы земляничные поляны слишком затоптанными и сердечно поблагодарила бы: «Знаешь, с тобой было так чудесно, с тобой я стала женщиной, но я переросла тебя».
Порой я задумываюсь, почему они именно мне так легко тащат суммы, за которые они могли бы провести столько же времени практически в любом борделе, удовлетворяя практически все свои желания. Жизнь для них состояние хронического риска, чтобы они могли почувствовать себя комфортно в одиночку. У них есть деньги, так что они привыкли к тому, что комфорт им положен, а тут раз, и на тебе – позавчерашняя яичница, пригоревшая к сковородке, в раковине колония муравьев, одурманенных остатками водки в стопках, ковер лежит морской волной, над которой летают облака пыли, шкаф – стоит его открыть – изрыгнет на пол напиханные туда рубашки. Они приглашают меня поучаствовать в совместной жизни, им нужен напарник, чтобы спихнуть на него ответственность за грязную работу.
Лай. Лай. Такса выхлебала всю воду из миски, и теперь ее лай стал в два раза громче, по двум причинам: во-первых, не летает ухо, во-вторых, хочется пить. Есть такая пытка: капают капли и пробивают скалу и мозг, схожу-ка я вниз и возьму эту скотину, отнесу к ветеринару для гуманной операции на голосовых связках, одного нежного прикосновения скальпеля будет достаточно, словно последнее прохождение смычка по струнам перед спасительной тишиной. А что, ключи от соседской квартиры у меня есть. Когда-то соседи выезжали на дачу (вместе с собакой) и попросили меня поливать их цветы. Вот она, соседская, черт бы ее побрал, доверчивость, назначили меня швейцаром, смотрителем, стражем их добра; у меня был вариант отказаться (и тогда я стал бы в их глазах последней сволочью, что могло повлечь за собой сплетни по городу и лишило бы меня большинства пациентов) или сделать вид, что чувствую себя польщенным их доверием. Я спустился в первый вечер с добрыми намерениями не только затем, чтобы посмотреть, как они живут (а жили они богато и без вкуса, точно так, как я и предполагал), спустился и понял, что их бездетность, должно быть, неизлечима, потому что, хоть они и забрали с собой собаку, в квартире было полно живых существ: соседка компенсировала отсутствие потомства материнской заботой для десятков проявлений жизни в горшках и горшочках (в жизни бы не упомнил, какие я уже полил, а каким грозит усыхание), а кроме того, были еще два аквариума – в одном сплошь гуппи, во втором одинокий вуалехвост, на столе я нашел листок: «Рыбкам достаточно раз в день порции сухого корма, спасибо». Да в гробу я видел время тратить на весь этот зверинец, и, если бы на этом посту я оправдал их доверие, мне был бы гарантирован кошмар и во все последующие их отпуска, они бы там себе расстилали полотенца на скалах Коста-Брава, а я бы в это время напрягал мозги, пытаясь искусственные пальмы отличить от настоящих араукарий, чтобы не поливать напрасно пластик; я был вынужден что-то слегка испортить – аккуратно, чтобы меня не заподозрили в злом умысле, но и довольно ощутимо, чтобы им никогда больше не захотелось оставлять на меня свою четырехкомнатную; я был вынужден сделать так, чтобы они сочли меня человеком рассеянным, чтобы вместо ненависти они испытывали бы ко мне сочувствие. И тогда я купил трубочник, tubifex, живой корм, клубок ниточек, вьющихся в мисочке, купил, чтобы все выглядело как широта соседской души, старание, что, дескать, хоть сухого корма и достаточно, но я и от себя что-то добавлю. Гуппи были еще молодые, свежий помет, маленькие рыбьи ротики, только-только наметились павлиньи хвостики, вот для них-то и купил я трубочник размера XXL, положил в кормушку и сладострастно наблюдал погибель молоди, тщетность червеобразных глотательных движений пищевода рыбок в столкновении с движениями червячков.
Больше они ни о чем меня не просили. Но ключ у меня остался.
Выстрел? Не послышалось ли мне? Пистолетный выстрел?
В нашем доме? Кто? В кого?
Лай затих.
II. Поражения
Сосед сверху.
Был у соседей снизу.
Он тоже сделал себе ключи; с той поры как я угробил всех их гуппий, они за помощью стали обращаться к нему.
Это он застрелил собаку.
Жена сказала, что приедет за своими вещами; он ее предупредил, чтобы она не делала этого, потому что тогда он уже не выпустит ее. Купил какой-то примитивный ствол у русских. Ходил по квартире задумчивый – он знал, что это их последний шанс встретиться, что если теперь он не удержит ее, то уже никогда не удержит. Решил застрелить свою жену, если не согласится остаться с ним. Ничего более убедительного он придумать не смог.
Не мог сосредоточиться из-за собаки.
Сказал, что наши с ним встречи мало что ему дали, почувствовал во мне несродство и даже, как он выразился, какое-то раздражающее презрение. Он сказал, что у меня маловато мотивации для успешной работы в профессии. Сказал, что я неудовлетворенный одиночка, который свои личные любовные неудачи пытается компенсировать в своем кабинетике.
В обычной обстановке любой из этих фраз было бы достаточно, чтобы я попросил его выйти вон и больше никогда не принимал бы. Но он говорил все это, нацелив на меня пистолет, из которого только что убил животное.
Он сказал, что если не поймет, почему его брак распался, то не сможет понять, в чем он виноват. Моей же целью было убедить его, что жизнь имеет смысл и без жены. Если я не сумею сделать это, он пальнет мне в башку, потом всадит пулю в жену, а под конец и сам себя порешит. Он сказал, что в моем распоряжении час. Столько же, сколько я обычно посвящал пациентам, в конце концов, у меня почасовая оплата.
Этот безумец держал мою смерть под ручку, и казалось, что они уже договорились. Я обязан был предотвратить это.
Вот вы говорите, что плохо себя чувствуете, а ведь вы вообще никак себя не чувствуете, вы потеряли самочувствие, в вас осталось одно лишь страдание. Вы симулируете жизнь, у вас нет времени жить, потому что единственное, чем вы занимаетесь, – это страдание. Я определяю терпеливость как способность сносить страдания, а вы нетерпеливы, в вашей душе слишком мало места, вот почему страдание заполняет вас без остатка.
Вы вот о чем должны помнить: когда вы любили ее, когда завоевывали и каждый шаг приближал вас к ней, время текло только в ее сторону и делилось на то, которое вы проводили с ней вместе, – и только его вы считали настоящим временем – и на то, которое заполняло промежутки между вашими встречами, – и его вы вычитали из своей жизни. Потом, когда вы стали жить вместе, ее присутствие было перманентным состоянием, вы перестали вычитать время. Теперь вы ожидали от нее, а не ее. Вы рассчитывали на нее, а не время до ее возвращения. Вам тогда казалось, что все так и останется, что этот порядок вещей неизменен. Вот и теперь вы переживаете то же самое, что и тысячи обманувшихся мужчин, и, как все они, вы верите, что ваше страдание абсолютно уникальное, единственное и не сравнимое ни с чем. Просто вы потерпели поражение; и теперь все то, что когда-то давило на вас как повседневность, все эти ваши томительные дни, этот, как вы его называли, маразм роттердамский (не во время ли поездки в этот город вы впервые задумались о разводе?), который регулярно наведывался к вам, теперь представляется вам недостижимым идеалом; теперь вы отдали бы душу дьяволу, лишь бы вернуть эту размеренность и снова войти во вкус к ней. Но это самообман, уж поверьте. Весь смак потери как раз в бесповоротности, и вы должны были познать и это тоже, чтобы посмотреть со стороны на невыносимое тепло домашнего очага, от которого вам когда-то так хотелось избавиться. Понятное дело: тепло можно почувствовать, только когда узнаешь холод, эти состояния не бывают поодиночке; вы успели забыть, какой он бывает, холод, потому и пренебрегали теплом.
Вы знаете, что значит прийти в себя? Так вот, решительно идите в выбранном направлении, но когда вы дойдете до конца пути, вы – собственной персоной, очищенной от токсических воспоминаний, – подождите самого себя. Если вас так мучат воспоминания, нырните памятью чуть глубже, вспомните себя таким, каким вы были незадолго до знакомства с этой женщиной: ведь тогда вы должны были чувствовать себя очень прочно, коль скоро и она вас прочувствовала, в вас поверила, дорогой вы мой, и верила столько лет. Вы теперь вроде той таксы, которая гоняется за собой и от себя убегает, за хвостом, вокруг дерева. От себя можно убежать, можно выйти из себя, чтобы убежать – в безумие или в смерть, только что это за выход? Я бы предпочел, чтобы вы, вместо того чтобы выходить из себя, снова заявили бы о себе от собственного имени.
У вас есть тело, у вас есть душа, но они никак не хотят слиться в вас в одно целое. Потому что вы бедный и заброшенный.
Нет, я вовсе не насмехаюсь над вами, вас действительно просто бросили. Одиночество – состояние, привычное для многих и для вас тоже, но расставание равно свежей потере, изгнанию из рая, расставание – вынужденное скатывание в одиночество.