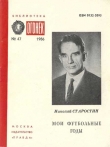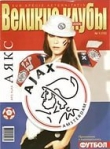Текст книги "Футбол, Днепропетровск, и не только… (СИ)"
Автор книги: Владислав Рыбаков
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 53 страниц)
«Черные стрелки, обходят циферблат,
Дружно, как белки, колесики стучат,
Движутся деревья, качаются мосты,
Едут, едут в город, „черные коты“.
Вот приезжают, прямо на перрон,
И, забегают, в ближний к нам вагон,
Чемоданы раскрывают, кладут в карман „хрусты“
/ деньги, на блатном жаргоне того времени – примечание автора /,
И вот перед Вами – черный „уркаган“.
Он свой наган наставил, манатки все забрал,
А нам с женой оставил, ну, прямо пополам,
А нам с женой оставил, ну, прямо пополам:
Дырявые кальсоны и рваный сарафан!»
Не помню сейчас точно, летом, какого из первых послевоенных лет, жители близлежащего к пересечению улиц Чкалова и Исполкомовской района, были свидетелями, как ряд домов, примерно на месте домов №№37, 39, 41 по улице Исполкомовской, был оцеплен плотным кольцом военных и милиции и, как там, разгорелась перестрелка. По слухам, тогда там ликвидировали какую-то большую банду, чуть ли не «филиал», известной в то время, банды «Черная кошка». Жители из окон, а мы, вездесущие мальчишки, из-за деревьев, смотрели, как уже после перестрелки, в машины, стоящие на месте разворота, аннулированного в 90-х годах трамвайного маршрута №10, садились участники этой операции. Сколько было схвачено бандитов, сколько было тогда раненных в той перестрелке и убитых, мы так и не смогли узнать, из-за плотного оцепления военными и милицией места события.
На толчке в те времена продавалась «трофейная Япония, трофейная Германия» – как «обозвал» различные предметы обихода и одежды, привезенные демобилизованными фронтовиками, любимый многими Владимир Высоцкий.
Курящие мужчины курили, в то время, самокрутки из газетной бумаги с крепкой махоркой табаком – самосадом, который носили в различных кисетах. Но, постепенно, в продаже появились и маленькие тонкие папироски, их уже тогда называли «туберкулезные палочки» с названиями: «Красная звезда» и «Ракета».
Еще позже появились довоенный «Беломорканал» и полюбившиеся многим «Шахтерские». Курившие эти папиросы, с пренебрежением тогда говорили, о куривших эти невзрачные маленькие папироски «Ракета» что-то, вроде поговорки: «Ракета – для каждого „шкета“» / т.е., для рано повзрослевшего в военное время, подростка /.
Особое же уважение, у тогдашних «курцов», вызывали курившие папиросы «Казбек». А те, с шиком, доставая очередную папиросу из картонной пачки, и, не в пример другим значительно худшим народным папироскам, помещенным в бумажные серые и невзрачные пачки, демонстративно стучали торцом очередной папиросы по картонной коробке, из которой её достали. И, хотя у многих были уже и портсигары, вид картонной коробки из под папирос «Казбека» вызывал уважение. Считалось, что те, кто курит папиросы «Казбек», это состоятельные люди, если тогда, вообще, это можно было относить к кому–либо.
Давила на людей и коммунальная неустроенность. Не всегда зимой, в холодных квартирах люди могли хотя бы обмыться в миске чуть теплой водой. Да и часто вода замерзала в отремонтированных кое-как и, почти совсем неутепленных, водопроводах. Иногда с ведрами, до действующих колонок с водой, приходилось идти несколько кварталов.
И в единственную тогда работавшую в центре города на улице Ломаной / недалеко от нынешнего цирка / ветхую и старую баню, выстраивались длинные очереди. Да и эта, наверное, дореволюционной постройки небольшая одноэтажная баня, работала не ахти как.
И, про неё, на мотив известной песни из кинофильма «Волга-Волга», распевали свою веселую днепропетровскую песенку:
«Как у нас в Днепропетровске отмечается,
Человек приходит в баню раздевается,
Холодище там собачье, открывает душ горячий,
Но… горячая вода не появляется!»
И далее шел припев:
«А чтобы помыться, горячей водицей,
Так для этого граждане,
Носят примус в чемодане:
А иначе ничего не получается!»
Но, несмотря не на какие трудности, родной город оживал и возрождался. Днепропетровцы, как и вся страна в годы войны, отдавали большую часть ресурсов фронту, а после Победы – возрождению и восстановлению тяжелой промышленности.
Снова, как и когда-то, перед гражданской войной появились, о чем мы говорили выше, карточки: хлебные, продовольственные, промтоварные. Очереди, особенно в «булочные» – так тогда назывались магазины по продаже хлеба, выстраивались еще затемно.
На всю жизнь я запомнил «взбучку», за вытащенные у меня хлебные карточки, которые мне дала, недолго отошедшая от очереди мать: я тогда оставил семью без хлеба!
И сегодня, перед глазами, стоит наш хлебный магазинчик, который помещался тогда на первом этаже, снесенного в 2007 году двухэтажного дома под №49 по улице Шевченко, на месте которого сейчас заканчивается строительство многофункционального комплекса «Дом на Екатеринославском».
Вот уже и ты, в порядке очереди за хлебом, которая начиналась задолго до входа в магазинчик, попадаешь вовнутрь булочной. А мимо её на развороте, возле конечной остановки, которая тогда находилась на месте нынешней Екатеринославской площади, неспешно проезжали, со страшным визгом на поворотах, старенькие довоенные вагоны, теперь уже давно аннулированного трамвайного маршрута №2.
В полутемном, небольшом помещении с тремя окошками очередь, внутри магазина, пристально следит за нехитрыми «действиями» продавца, который отрезает от хлебного «кирпичика» положенную тебе долгожданную «пайку», получив от тебя заранее купоны хлебной карточки. А разве можно было забыть запах того хлеба! И как была для нас важна его каждая крошка! И ходила среди народа веселая песенка, на известную фронтовую мелодию: «Что ж ты, Вася приуныл, голову повесил? Или в булочной еврей, хлеба недовесил?!» И, все смеялись над этими словами и русские и украинцы и евреи! Тогда, все были равны, и над нами не витал дух махрового национализма и антисемитизма! У нас еще не забылось горе и потери, пока еще недавно закончившейся войны, и то, что она принесла она в каждый дом, каждую семью, не зависимо от национальности составлявших её людей! Нас, мальчишек того времени, жизнь учила этой неисчезающей с годами ценности, любви к святому – хлебу! Люди еще были сплочены и верили в лучшее будущее! Как бы хотелось единодушие народа того времени перенести в настоящее время, в котором народ раздирается на части политиканами всех мастей и цветов.
Утром и вечером, мимо домов по нашей улице, на работу и с работы, под конвоем проходила колонна немецких солдат. Наши родители, по времени прохождения этой колонны, услышав нестройный топот по булыжной мостовой нашей улицы, соизмеряли по нему часто и свое время. Если, в первое время, когда мы видели пленных, в наших глазах горела ненависть к ним, то позднее, она сменилась на простое любопытство. А еще позднее, вид этих, когда–то бравых, уверенных в своей победе над нами бывших солдат «вермахта», а теперь оборванных, уже даже, вызывал и жалость к ним. Разношерстная на вид колонна, медленно и монотонно, утром двигалась вверх, а вечером – вниз по нашей улице, у которой тогда было название, данное ей еще со времен образования Екатеринослава – улица Нагорная. И никто, уже не боялся их и возможностей ими побега – они просто, не могли никуда убежать!
Тяжело пришлось жителям Днепропетровска / да разве только им / в то первое послевоенное время. Но они преодолевали, как и вся страна, все трудности, отдавая родному городу и стране все, что могли. Холодные, голодные и суровые зимы, остались в памяти на всю нашу жизнь.
И, конечно не забыть, как отец однажды принес картонную коробку с продуктовым набором, которая прибыла к нам в город из далекой Америки. Эти наборы тогда распределялись на предприятиях и организациях, в зависимости от численности семей и детей в них.
Мы питались тогда, в основном, и это в лучшем случае, «кондером» – кашей из пшена, в которую, если была в наличии, добавлялась картошка. В ходу была и «мамалыга» / раздробленная в ступке, кукуруза /, конечно, очень мало похожая на традиционное румынское блюдо. Варилась она, обычно на воде, с добавлением, какого-нибудь жира, который тогда был у людей. Чаще всего это было растительное масло. Иногда нам «перепадал» и горох, из которого затем варилась похлебка. Ну а для детей, большим лакомством были кусочки от кругов из макухи /отходов из семечек/ – нынешней «подкормки» при рыбной ловле.
Но в тот момент, наши взгляды были направлены на картонную коробку с непонятными надписями на её боках. Вся семья, в том числе и сам отец, который её принес, горели желанием скорее раскрыть её и ознакомиться с ее содержимым. И вот, она раскрыта и все 5 человек нашей семьи поражены, видом уложенных в неё заокеанских яств и их упаковкой.
Наряду с небольшими коробками различных продуктовых консервов, американцы положили в неё и сигареты. Так я, который впоследствии никогда в жизни не курил, запомнил навсегда те пачки с сигаретами, которые также были в той, собранной для народа СССР американцами, коробке. Они, живущие далеко за океаном, не могли представить, в каких условиях жили мы, поэтому они, от всего сердца, собрали для нас то, что нравилось им, что, как они считали, было самым лучшим. Так, в моей памяти и отложился рисунок на пачках с сигаретами: на фоне пальм и пирамиды, верблюд и надпись «Camel».
Ничего более вкусного, чем содержимое банок из той коробки, я в своей жизни, наверное, никогда больше не пробовал.
Но все эти, чрезвычайно вкусные продукты, которые внутри семьи выдавались строго «нормировано», все же, уже через несколько дней закончились, и мы вновь перешли к «привычной» для себя незатейливой пище, и которой нам, в то тяжелое и голодное время, не хватало. Но нам еще надолго, а мне порой и сейчас, через многие-многие годы, помнится вкус тех продуктов из американской помощи.
А я, очень худой, напоминающий чем-то детей освобожденных из немецкого концлагеря, из-за дистрофии, позднее был, на полгода направлен зимой 1946-1947 года в город Евпаторию, в санаторий для детей железнодорожников, на лечение и поправку.
Это было голодное время, особенно в неурожайный, для Днепропетровской области, 1947 год. Тогдашнему секретарю Днепропетровского обкома партии, фронтовику, полковнику П.А. Найденову, который из-за голода в 1933 году потерял своего первого сына, по словам его старшего сына Олега Найденова: «…невыносимо было видеть, как на улицах Днепропетровска нищие, голодные победители-калеки с орденами на гимнастерках просят милостину. Я и сам хорошо знал одного такого: он сидел у нашего дома, и я всегда старался опустить в протянутую руку кусочек чего-нибудь съедобного…»
Но город, и мы в нем жили, и, не смотря на все тяготы, боролись за жизнь. В этом нам во многом помогало кино. И разве можно забыть фильмы, которые мы смотрели во второй половине 40-х – начале 50-х годов. Особенно нам нравились зарубежные фильмы, первые титры которых начинались со слов: «Фильм взят в качестве трофея у немецко-фашистских захватчиков». Это были в основном американские и немецкие фильмы. Вот только названия отдельных из них: «Королевские пираты», «Сети шпионажа», «Индийская гробница», «Мост Ватерлоо», «Леди Гамильтон» и другие. Тогда мы впервые познакомились и с фильмами «Серенада солнечной долины» и «Девушкой моей мечты» и, не менее популярной в то время, кинокомедией «Джордж из Динки-Джаза», с полюбившейся картиной «Петер» и незабываемый фильм о «короле вальса», знаменитом композиторе Иоганне Штраусе – «Большой вальс».
Но, с особым и небывалым успехом, был встречен многосерийный / первый для нас фильм, состоящий из нескольких серий /, знаменитый тогда, «Тарзан». В главной роли в нем снимался не профессиональный артист, а олимпийский чемпион Джонни Вейсмюллер. Этот человек вошел в историю, как пловец впервые в мире преодолевший дистанцию 100 метров вольным стилем быстрее минуты. Сейчас такой результат вызывает улыбку, а в 1924 году, когда он был им установлен, был мировой сенсацией и продержался более 10 лет. Но тогда мы не знали об этом его достижении, мы восхищались его прыжками и другими трюками. Но особенно все мы пытались подражать его гортанному крику, когда он звал на помощь себе зверей и верную обезьяну Читу. На улицах тогда часто можно было услышать вой дрепропетровских «тарзанов». Что тогда творилось в кассах уцелевших после войны кинотеатров! Я с друзьями простаивал длинные очереди и чтобы попасть на очередную серию, обычно брали на несколько билетов больше, чем было ребят в нашей группе. Продавая «излишек» билетов подороже, мы получали возможность заработать на билеты следующих серий. Смотрели мы этот фильм в отремонтированном кинотеатре «Победа», который пострадал во время войны. На месте этого тогда второго по числу зрителей в городе кинотеатра, сейчас находится левое крыло нашего горсовета.
А с каким восторгом мы смотрели и советские фильмы, снятые в тяжелое военное время и первые послевоенные годы: «Непокоренные», «Она сражалась за Родину», «Радуга», «Иван Никулин русский матрос», «Небесный тихоход», «Беспокойное хозяйство», «Антоша Рыбкин», «Парень из нашего города», «Как закалялась сталь», «Крейсер „Варяг“» и другие. В 1947 году появился знаменитый фильм «Подвиг разведчика», годом позже «Повесть о настоящем человеке», «Два бойца». Кажется, все и не перечислишь. Эти фильмы и сегодня смотрятся с успехом с экранов телевизоров.
А какие исторические фильмы были тогда сняты в те нелегкие годы: «Иван Грозный», «Богдан Хмельницкий».
В фильмах того нелегкого времени снимались выдающиеся актеры: Николай Черкасов, Михаил Жаров, Людмила Целиковская, Вера Марецкая, Наталья Ужвий, Лидия Смирнова, Николай Крючков, Петр Алейников, Николай Мордвинов, Мария Ладынина, Борис Андреев, Марк Бернес, Амбросий Бучма, Павел Кадочников и многие–многие другие. Пройдут годы, и это поколение артистов сменят не менее талантливые и популярные их коллеги. Но тех, известных в те первые послевоенные годы и позднее, не забыть.
В то время по городу гуляли многие «уличные» песни. Это были не блатные, но популярные среди молодежи песни. И мы, мальчишки, с упоением слушали эти песни на «морскую» тематику, особенно такие как: «В кейтптаунском порту стояла на шварту „Жаннетта“ поправляя такелаж…», а также три, как бы, связанных между собой песни: «На корабле матросы ходят хмуро, кричит им в рупор старый капитан…», другая о ковбое Гарри и последняя – «Джон Грей». К этим песням можно отнести и песню о «Мичмане Джоне», «Мадагаскар» и о жизни в Индии – «Магараджа» и другие. Сейчас их, называемых «старым шансоном», можно услышишь только, разве, в телепрограммах типа : «В нашу гавань заходили корабли».
Но и они, особенно в первые послевоенные годы, значительно уступали по популярности многим десяткам песен из фильмов военных лет и просто фронтовым песням. Эти песни исполняли всеми любимые и известные артисты и коллективы, отчего их популярность, только возрастала. Вот названия только отдельных из них: «Катюша», «Огонек», «Темная ночь», «Жди меня», «Синий платочек», «На солнечной поляночке», «Пора в путь дорогу», «Соловьи», «Эх дороги», известная сейчас всем по фильму «В бой идут одни старики» – «Смуглянка» и многие, многие другие. Вспоминая о них, или слушая их, невольно думаешь о том, как много они принесли в жизнь людей в тяжелое военное время и первые послевоенные годы. Какой огромной патриотической силой веяло, от появившейся в первые дни войны песни, «Вставай, страна огромная»!
Многое тогда для горожан значили черные тарелки – радио. И сейчас перед глазами ремонтники – радисты, которые тянули провода и устанавливали радиоточки. Тогда обычное радио играло ничуть не меньшую роль в жизни горожан, чем сегодняшнее телевидение. По вечерам мы слушали всей семьей передачи из Москвы. А потом, в 1955 году отец привез из командировки в Москву новый «динамический громкоговоритель» уже похожий на будущие громкоговорители – марки «Москвич». А позже появились первые послевоенные отечественные радиоприемники, а мы, мальчишки увлеклись простейшими детекторными радиоприемниками, которые не требовали питания.
Запомнились и первые послевоенные майские демонстрации, на которые наши родители брали и нас – своих детей. Колонны в те годы не были столь «нарядными» как позднее. Нехитрую «наглядную агитацию» подвозили на телегах. Лошади – верные помощники человека в годы войны и послевоенное время, в те времена очень ценились. Тогда, в центре города, в метрах 50-ти от моего дома по улице Нагорной /ныне Паторжинского /, почти на обрыве, над Красноповстанческой балкой стояла кузня. И черному, как смоль усатому кузнецу, чем-то напоминавшему запорожского казака, работы всегда хватало.
В те весенние праздники всегда было весело и радостно на душе, кругом слышались смех и песни, гремели не всегда «профессионально» духовые оркестры. И тогда уже, мы мальчишки, слушали много полюбившихся людям в войну песен, о которых мы сказали выше.
Любили мы, и зайти в магазин «Военная книга», который помещался тогда в небольшом двухэтажном доме на месте нынешнего дома № 1 по улице Карла Либкнехта, на его месте вырос многоэтажный дом, в котором помещается «Дом архитекторов» и театр одного актера «Крик» – Михаила Васильевича Мельника. Особенно нам нравилось покупать небольшие по формату дешевые книжки из серии «Военные приключения». Стоили они копейки, и даже мы – мальчишки, могли иногда позволить себе «роскошь» – приобрести их и поменяться, чтобы прочитать другую со своими друзьями. Некоторые тогда даже собирали коллекцию этих незамысловато оформленных книг. Но мы тогда их читали и зачитывались ими.
И до сих пор, я храню подаренную мне родителями на десятый год рождения, в 1948 году, большую и толстую книгу «Штурм Берлина», как самый дорогой подарок тех лет. Когда я её увидел в магазине «Военная книга», она сразу же запала мне в душу. Это книга не относится к художественной литературе, она составлена на основании воспоминаний, писем, дневников участников боев за Берлин. Кроме того, она даже по нынешним временам, богато иллюстрирована. А ведь она стоила немало по тем временам – целых 10 рублей! И это было так не просто для нашего тогдашнего семейного бюджета, но, не смотря, ни на что, мне её родители подарили в мой первый юбилей. И я помню, как мы с друзьями несколько раз подряд рассматривали и читали её.
Позднее, когда я, как и многие другие в юношеском возрасте увлекся поэзией и, как многие, и сам писал незамысловатые юношеские стихи. Воспоминания о тех первых послевоенных праздниках в стране, и вылились в шуточную стихотворную первомайскую зарисовку:
«Весь город музыкой гремел, алел колонн кумач,
Какой-то пьяный песню пел,
Промчалась лошадь вскачь,
Казалось, счастью нет конца,
Все счастливы кругом,
А потому простим юнца:
…Мочился за углом».
Постепенно жизнь в стране налаживалась. Но уже даже в первое десятилетие после войны не срабатывала одна из составляющих социалистического лозунга: «Свобода, Равенство и Братство», который появился позднее. Речь идет о «равенстве». Начинается постепенное расслоение общества. На базаре – «толкучке» идет бойкая торговля различными дефицитными в то время вещами, в том числе и привезенными в качестве «трофеев» из Германии. В магазинах очереди. Все еще людям не всегда удается приобрести самое необходимое и первоочередное в обыденной жизни. Не смотря на большие успехи в строительстве, на каждом предприятии большие очереди на получение нового жилья и за его получение, в профкомах предприятий часто «вспыхивают» настоящие «схватки». Так верхом желаний для простых людей, становятся позднее, с начала 60-х годов эти, неказистые сегодня, «хрущевки». Но чтобы не говорили сейчас, это было, в то время, крайне необходимое для простых людей, направление в жилищном строительстве. Естественно, лучше живут партийные чиновники, различные хозяйственные руководители. Но народ не ропщет – он строит новую будущую прекрасную жизнь, которую ему обещают при коммунизме.
Я написал более подробно о том периоде жизни, о тех первых послевоенных годах потому, что так тогда жили почти все мои сверстники. Их сегодня называют «дети войны», как бы напоминая о тех далеких годах их детства. Но этим сегодняшним старикам живется и сегодня не сладко, хотя уже который год, им «грозятся» радикально помочь, поочередно сменяющие друг друга, власти.
Тем более, обидно смотреть на еще оставшихся в живых наших заслуженных фронтовиков, и слышать от них обращения в адрес нынешних властьимущих. У этих людей, до сих пор часто неустроенная старческая жизнь.
Еще только что отгремела война, а на южной окраине города с июня 1944 года было начато строительство гигантского «Автозавода» /ныне Южный машиностроительный завод/ – завода по выпуску тяжелых грузовиков. Строительство этого завода ознаменовало в истории нашего города новую веху, которая дала позднее известность Днепропетровску, как одному известнейших в мире ракетно – космических центров.
Началось строительство этого уникального предприятия на голом месте, в степи. Как вспоминали позже участники стройки, в обескровленной войной стране, даже для такой гигантской стройки, хронически не хватало строительной техники. И главными инструментами тогда были лопата, мозолистые рабочие руки и неиссякаемый послевоенный энтузиазм людей.
Сроки строительства завода поджимали, и монтаж оборудования велся непосредственно со строительством. Еще над строящимися цехами нет перекрытий, а уже в цеха затаскивались и подключались станки и люди начинали на них работать. Особенно трудно было в первые, послевоенные зимы, когда среди этих цехов, под открытым небом, люди жгли костры и работали! Так рождался наш днепропетровский промышленный гигант, которым мы сегодня, по праву, гордимся.
17-го марта 1945 года в городе было возобновлено издание, полюбившейся горожанам в довоенное время, областной газеты «Днепровская правда».
27 апреля было закончено восстановление мартеновской печи на заводе металлургического оборудования, а через день – 29 апреля на Днепропетровском трубопрокатном заводе имени В.И. Ленина в фонд Победы было выдано 130 тонн труб и 400 тонн листового проката.