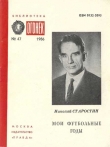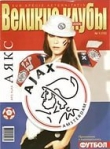Текст книги "Футбол, Днепропетровск, и не только… (СИ)"
Автор книги: Владислав Рыбаков
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 53 страниц)
И словно угадав наше настроение, через несколько часов командование Одесского военного округа распорядилось: части дивизии сосредоточить в Днепропетровске, приготовиться к погрузке в железнодорожные эшелоны…».
Мы сознательно привели воспоминания о последних мирных часах жизни родного города его жителей, служивших в нем военных, чтобы еще раз вспомнить, каким был наш город и чем жили днепропетровцы, чтобы еще раз осознать, что принесла кровавая и страшная война в наш дом, в семью каждого из нас.
Тревожная весть о начале войны, казалось, остановила все, чем жил Днепропетровск. В полдень народ стал собираться на улицах возле черных раструбов уличных громкоговорителей, город затих и слушал выступление тогдашнего заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров, народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну.
Несмотря на воскресный день, людям не сиделось дома, каждого тянуло в родной коллектив, к своим товарищам.
В городе стихийно сразу же возникли митинги, вскоре после полудня, люди заполнили заводские и фабричные дворы, учреждения и вузовские аудитории. Все ощущали потребность почувствовать плечо друга и товарища по труду, обменяться мыслями, выразить свою решимость дать отпор наглому агрессору.
Как мы уже указывали выше, в воскресенье 22 июня в городе должны были быть проведены очередные игры на первенство города по футболу, война прервала их проведение. Она не дала довести до конца и очередной чемпионат страны, перечеркнула розыгрыш Кубка СССР.
В этот день на территории Украинской СССР было введено военное положение, а 23-го июня, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22-го июня, началась всеобщая мобилизация в армию.
Возле Днепропетровского областного и районных военкоматов, выстроились длинные очереди, поступает поток заявлений о добровольном зачислении в Красную армию.
На 10-е июля 1941 года таких заявлений было подано: от мужчин – 6373, от женщин – 3802.
А пока, уже 22-го июня, многие из днепропетровцев были вызваны в военкоматы, в том числе – защитник чемпиона Украины 1937 года местного «Спартака», рядовой запаса Иван Башкиров. В первые же дни войны, ушли на фронт – известный тренер «Спартака» Виктор Михайлович Каминский, игрок днепропетровских команд «Динамо» и «Сталь» Валентин Забуга, игроки известной амурской команды завода имени Коминтерна Ананий Соколов, Николай Таранец и другие.
С оружием в руках защищали Родину хорошо известные в предвоенные годы бывшие футболисты сборной города, команд «Динамо», «Спартак», «Сталь» и других: Иван Башкиров, Петр Третьяков, Михаил Старостин, Владимир Алексопольский, Николай Маховский, Сергей Голод, Семен Майзель, Иван Лукин, Цалик Цадиков, Григорий Прыгунов, Николай Хижняк, Сергей Королев, Петр Луговой, Владимир Ситников, Иосиф Зегер, Ананий Соколов, Евгений Головин и многие другие. В военном госпитале трудился Петр Лайко, трагически погиб в захваченном оккупантами Киеве наш земляк, игрок днепропетровского и киевского «Динамо» Иван Кузьменко.
Не все из названных нами футболистов дожили до светлого Дня Победы 1945 года, но мы обязаны помнить о них: ведь они защитили нашу будущую жизнь, без них не было бы современного футбола, нашего днепропетровского футбола!
Подполковник Виктор Михайлович Каминский – бывший игрок нашего «Динамо» и тренер чемпиона Украины – днепропетровского «Спартака» командовал артиллерийским подразделением. За личную храбрость и мужество, умелое руководство вверенными ему частями во время военных действий, он был награжден многими орденами и медалями.
Связист Иван Башкиров – бывший защитник чемпиона Украины 1937 года «Спартака», прошел тяжелыми военными тропами и участвовал в освобождении Северного Кавказа, форсировал Дон и участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в боях против Курляндской группировки в Прибалтике. Одно это перечисление говорит о том, что пришлось пережить ему в ходе военных действий.
Краснофлотец Иосиф Зегер воевал в Балтике, защищал Кронштадт и Ленинград. Солдаты: Сергей Голод, Ананий Соколов, Сергей Королев, Цалик Цадиков, Алексей Ситников и другие с честью выполнили свой долг, за что все они были награждены.
Валентин Забуга – бывший игрок целого ряда днепропетровских команд, в том числе «Динамо» и «Сталь», прошел всю войну, начиная со дня мобилизации-1-е августа 1941 года и до Дня Победы. Он участвовал в боях на Украине, Крыму, на Северном Кавказе и закончил её в Восточной Пруссии.
Многие, из вышеуказанных выше футболистов, не вернулись с войны, и мы не можем не склонить головы перед их светлой памятью. Одним из них был вратарь обладателя Кубка Украины – днепропетровского «Динамо» в 1940 году – Николай Маховский, игроки «Спартака»: защитник Анатолий Дубинин, нападающие Николай Ломакин и Сергей Майзель и другие.
Позднее, говоря о бывших ветеранах, которые пришли в днепропетровский футбол уже значительно позже военных лет, конечно же, мы более подробно, расскажем и о других, в том числе, и о незабвенном Геннадии Ивановиче Жиздике.
А теперь снова вернемся в родной город в первый день войны.
Свернув свой полевой лагерь, 196 стрелковая дивизия срочно возвратилась в город. Вот что вспоминал об этом первом дне войны, выше упомянутый нами В.М. Шатилов:
«…Город, вчера еще шумный, оживленный, принимал военный облик. Кресты из белой бумаги на оконных стеклах, посуровевшие лица прохожих. По ночам улицы погружались в темноту, строжайше соблюдалась светомаскировка, Когда мы приехали на железнодорожную станцию, там царило оживление. Почти непрерывно шли на запад эшелоны с войсками и боевой техникой, из открытых вагонных окон, из распахнутых дверей теплушек вырывались и летели вокруг любимые в те годы песни: „Дан приказ ему на запад“, „Краснознаменная Дальневосточная, даешь отпор“, „Выходила на берег Катюша“, „По военной дороге шел в борьбе и тревоге“…
Песни, как и солдаты, шли на войну…» И далее: «До свидания, город на Днепре!...Подали эшелоны, и тот час же возле вагонов образовались людские островки. Это матери, жены, дети, невесты пришли проводить своих мужей, сыновей, родителей, женихов. Последние слова, последние напутствия перед дорогой…»
А, как не была похожа первая военная ночь с 22 на 23 июня 1941 года на свою предшественницу, последнюю предвоенную ночь! В городе объявлено военное положение, введен комендантский час. Наступила тревожная и неспокойная тишина. Во многих семьях готовят мужчин в тяжелую, еще неизвестную, а может и невозвратную к родному очагу дорогу! Что будет с ними завтра, как сложится их дальнейшая судьба – судьба защитников Родины?! Увидят ли их еще жены, матери, отцы, сестры, дети. А если и смогут увидеть, то когда?!
А пока родной Днепропетровск, впервые, за многие годы, погрузился во мрак – введена обязательная ночная светомаскировка.
Изредка по улицам медленно проедет затемненный трамвай или машина. Лучи прожекторов медленно и настороженно прощупывают небо над городом, а у мостов, на вершинах городских холмов, в парке им. Шевченко, уже расположились зенитные батареи, защищающие город от возможной воздушной вражеской угрозы.
К нам пришла Война!
Днепропетровцы еще не знают о том, что эта страшная война продлится до мая, так далекого тогда 1945 года, что родной Днепропетровск, эта жемчужина Украины и тогдашнего Союза, будет 26 месяцев находиться в лапах злобного врага!
Они еще не знают, что в числе многих десятков тысяч расстрелянных и замученных, угнанных в фашистскую Германию и погибших на фронте, будут они сами, их родные и близкие, их родственники, друзья и товарищи и просто днепропетровцы!
Они еще не знают, какие страдания придется им пережить и что сделают оккупанты с их родным городом, с Украиной, со всей их Родиной!

А пока город начал готовиться к отражению врага, пока днепропетровцы, как и вся страна, еще верили, что война продлится недолго, что армия, которая их защищает, обязательно разобьет вероломного и подлого врага!
Днепропетровцы начинают привыкать к воздушным тревогам, которые объявлялись в городе с первых дней войны. Эти тревоги объявляются все чаще и чаще, днем и ночью.
Враг рвался все дальше и дальше от границ и неумолимо приближался к нашему городу. В ночь с 9-го на 10-е июля 1941 года фашистская авиация впервые бомбила Днепропетровск. В течение суток враг бомбил наш город дважды. Эти воздушные бомбардировки показали, какой опасности подвергаются жители города, они впервые показали каждому из них наглядно, что такое война! Первые воронки среди развороченных камней мостовых, первые пожары и развалины на месте домов, первые потерпевшие во время налетов раненные и погибшие!
12 июля в городе были созданы аварийно-восстановительные отряды местной противовоздушной обороны. Тысячи жителей города оказывали помощь постам местной противовоздушной обороны /МПВО/ в ликвидации пожаров и других последствий участившихся налетов фашистской авиации.
К началу августа, фронт все ближе и ближе продвигался к городу, и было принято решение об эвакуации людей, промышленного оборудования. На промышленных предприятиях начался демонтаж оборудования и подготовка его к эвакуации на восток.
19 августа 1941 года, почти через два месяца после начала войны, город был подвержен первому артиллерийскому обстрелу.
А, еще ранее, 8 августа остановился крупнейший на то время завод города: исчезли дымки над трубами Петровки. Затих зычный голос гудка завода, который с 1903 года был неотделим от истории города. Этот гудок басовитый и протяжный, с тех первых лет 20-го столетия, стал звуковой эмблемой нашего Днепропетровска.
Ежедневно город покидали составы с рабочими и служащими, членами их семей, материальными ценностями, демонтировались все предприятия. Всего в этот период железнодорожным транспортом было эвакуировано 99 тыс. вагонов с промышленным оборудованием и людьми.
В одном из вагонов такого эшелона с семьями железнодорожников Сталинской / а ныне Приднепровской / железной дороги, находился и автор этой книги. Рядом с ним в «теплушке», забитой до отказа семьями железнодорожников, была его мать и две старшие сестры. В поездной бригаде был и мой отец, потомственный железнодорожник, родители которого участвовали еще в строительстве и затем работали на Екатерининской железной дороге – предшественнице и Сталинской, и нынешней Приднепровской железной дороги.
Путь этого поезда, как и всех других с эвакуированными людьми и оборудованием, лежал на восток. В дороге с ним, как и с другими подобными поездами, произошел ряд событий, вызванных войной. Об одном из них я и хочу рассказать, так как он наглядно иллюстрирует жизнь покидающих родной город днепропетровцев, во время их эвакуации.
Естественно, из-за малого возраста я его не запомнил, поэтому расскажу о нем со слов моих родителей и сестер, а также других очевидцев, произошедшего в 1941 году события.
Когда они рассказывали позднее об этом эпизоде, мне казалось, что я до деталей вспоминаю его и все тогда произошедшее, видится мне как на большом экране современного кинотеатра. И теперь я, оставшийся к сегодняшнему дню единственным живым из всей нашей семьи, расскажу об этом случае Вам.
Чем можем, тем и поможем!
В начале августа 1941 года, от уже поврежденного налетами вражеской авиацией перрона станции Днепропетровск, отошел эшелон с семьями работников Сталинской железной дороги. Собственно, он отошел не от перрона, а от железнодорожного пути близь грузового двора, где тогда и осуществлялась погрузка в небольшие грузовые вагоны – «теплушки».

Так выглядел Днепропетровский вокзал осенью 1941 года, и в таких вагонах – «теплушках» мы покидали родной город.
С грустью и слезами прошли последние минуты прощания с родными и близкими, которые оставались в родном городе: ни те, кто эвакуировался / с приходом войны, появилось это непонятное, а иногда и зловещее слово – «эвакуация» /, ни те, кто оставался, еще не знали, что ждет их впереди.
Состав медленно, как бы нехотя, и как бы желая хоть на мгновенья продлить, может быть последние, в жизни прощавшихся между собой людей, мгновенья их близости, двинулся, а затем также медленно и настороженно переехал наш знаменитый, двухъярусный мост.
Для одних родной город остался за Днепром, для других, которые проживали и работали на левобережье, он еще некоторое время был с ними! Все с пристальным вниманием смотрели из раскрытых дверей и окон-люков «теплушек», стараясь, как бы навсегда, запечатлеть в себе такие родные и близкие для них места.
Начиналось путешествие в неизведанное, тем более, что в поездной бригаде на момент отправления еще точно и не знали конечного пункта маршрута этого наскоро сформированного эшелона. Началось долгое и медленное путешествие на восток, прерываемое частыми и долгими остановками на небольших станциях и полустанках, иногда просто на перегонах в поле.
Это было путешествие с тревожными ожиданиями кого-нибудь из родных или людей, которые в тот день были дежурными по вагону, и которые выскакивали из вагона на остановках, чтобы пополнить запасы воды в вагоне или выменять, на что-то, из имеющегося у нас у нас «скарба», на какое-нибудь продовольствие.
Иногда, они его просто получали его из рук наших сострадающих нам людей. Эти люди с тревогой и жалостью смотрели на эвакуирующихся, видя в них первых реальных очевидцев приближающейся к ним войны. И хотя фронт уже приближался и к ним, они еще были у себя дома, они, как и мы, надеялись, что скоро в войне наступит перелом.
Тогда в августе 1941 года, люди, не смотря ни на что, еще надеялись, что уже скоро вероломный враг будет разбит.
В томительные и длительные часы частых остановок во время движения нашего эшелона на восток, мы видели проносящиеся мимо нас воинские эшелоны, спешащие на запад, на фронт, на помощь нашим отцам и братьям, на помощь всем нам.
Но действительность становилась с каждым днем все тревожнее, все чаще нашему поезду, медленно передвигающемуся на восток, встречались следы войны и в тылу, а над поездом пролетали немецкие самолеты, иногда, даже наблюдали за воздушными боями.
Мы из окон своих вагонов, все чаще видели полуразрушенные станции, развалины отдельных домов. Наш поезд пропускал движущиеся на восток поезда с оборудованием, в том же направлении двигались и санитарные поезда с раненными во время боев военнослужащими, и их количество с каждым днем все увеличивалось.
Параллельно железной дороге, по проселочным дорогам, также двигались на восток длинные колонны беженцев, уходящих вглубь страны, подальше, от приближающегося, фронта. Люди, услышав гул самолетов, с тревогой вглядывались в небо, пытаясь скорее разобраться, чьи самолеты пролетают над ними, чтобы в случае опасности броситься в сторону от дороги и попытаться найти какое – нибудь укрытие.
В начале нашего, как потом выяснилось, длинного пути, немецкие самолеты, пролетая над нашим эшелоном, и не трогали его. Очевидно, их интересовали, в первую очередь воинские эшелоны, которые двигались на запад. И хотя количество пролетов фашистов над нашим эшелоном с каждым днем увеличивалось, люди, даже при его остановках и сигналах воздушной тревоги, подаваемым гудками нашего паровоза, не покидали своих вагонов.
При приближении вражеских самолетов, в нашем эшелоне, сформированном из обычных вагонов – «теплушек», закрывались двери и люки-окна, а люди с тревогой прислушивались к сигналу воздушной тревоги: чередующимися длинными и короткими гудками паровоза. Но, в нарушение всяких инструкций, все же, никто не уходил от эшелона, хотя все мы были беззащитны перед могущим в любой момент на нас напасть, врагом!
В такие тревожные минуты, матери еще крепче прижимали к себе детей, собираясь, если вдруг случится что – нибудь непоправимое, ценой своей жизни уберечь жизнь самого дорогого для них – своих детей! По-другому, они не могли защитить их, считая свою жизнь главной защитой и, надеясь, что и в этот, очередной раз, враг не заберет их жизней!
Обычно, при первых же тревожных сигналах о возможном налете, тушилась основная кормилица в вагоне – печь «буржуйка», на которой готовилась, по-возможности, из собранных вскладчину продуктов, нехитрая еда, в первую очередь, для детей.
В вагонах нашего эшелона был установлен общий и единый для всех закон: «Один за всех и все за одного!», который с позиций сегодняшнего дня, для кого-то, звучит неправдиво и, как-то, чересчур, возможно вычурно. Но тогда это было так: тогда мы были едины, всех нас сплотила единая беда и единое горе! Все в вагоне, как могли и чем могли, помогали друг другу. Это диктовала суровая действительность, которая окружала нас.
Поезд, тем временем, медленно, с длительными остановками, продвигался к первоначальному пункту нашего следования – Минеральным Водам. Вот тогда-то и произошел с нами и нашим эшелоном трагический эпизод, о котором и пойдет далее речь.
Произошел он, где-то, по воспоминаниям свидетелей из того поезда, где–то на перегоне между городами Матвеев-Курган и Ростов.
Примерно в полдень того злополучного дня, над нашим поездом, на бреющем полете, пронеслось несколько немецких самолетов. Чем руководствовались фашистские ассы перед нападением на беззащитный гражданский поезд никто и не когда не узнает. Скорее всего, это было то, что последние вагоны были пассажирскими и, возможно, они подумали, что в них передвигаются какие-то важные советские персоны. А может, они возвращались назад, после невыполненного задания, и им не хотелось возвращаться с полным запасом боекомплектов.
Кроме того, незадолго до описываемого события, к этим пассажирским вагонам прицепили вагоны с эвакуируемыми людьми, еще далее вглубь территории страны, раненными. Эти вагоны сильно контрастировали с видом товарных вагонов – теплушек, в которых перевозили нас.
К сожалению, на вагонах перевозящих раненных, не было опознавательных знаков в виде красного креста, который, хотя бы формально, согласно Международной Женевской конвенции, мог бы их защитить. Но и уповать на это, в условиях войны с фашизмом, не приходилось. И все же фашистские летчики, пролетающие над поездом на бреющем полете, не могли не разглядеть белых халатов врачей и санитаров.
Но, они методично, и со знанием дела, приступили к уничтожению нашего состава. Сначала, был разрушен путь по ходу движения эшелона, и поездная бригада была вынуждена остановить его. По вагонам был передан приказ: немедленно всем покинуть вагоны и отбежать как можно дальше от железнодорожной насыпи.
Фашисты, тем временем, продолжали свое кровавое дело: они повредили путь и сзади эшелона, отрезав возможность маневрирования.
Ограничив движение остановившегося состава, они продолжили методическое уничтожение и его, и людей в нем. Поливая вагоны и отбегавших от него людей свинцовым дождем, они при очередном заходе, сбросили бомбы на последние вагоны.
Оцепеневшие от страха, бессильные и беззащитные люди, боялись выскочить из вагонов, не оставляя себе шансов на выживание.
Тогда к вагонам, от стонущего длинными тревожными гудками и такого же беззащитного, как и люди, паровоза, бросилась поездная бригада. И пусть простят их женщины и дети за, возможно услышанные впервые, вперемежку с приказом немедленно покинуть вагоны, «крепкие» мужские слова. У железнодорожников, в тот момент, не было других средств, могущих вывести людей от охватившего их оцепенения.
К нашему вагону подбежал и мой отец, который как раз и был в составе той поездной бригады. Тогда, уже не смотря на приближающийся рев идущих на очередной заход фашистских стервятников, люди начали выскакивать из вагонов и разбегаться по обе стороны от железнодорожной насыпи.
Они отбегали, подальше от насыпи, в открытое поле, в котором, кроме отдельных кустов, небольших деревьев и ложбинок, для них не было никакой другой защиты.
Отец держал меня – трехлетнего мальчишку на руках и вместе с моими старшими сестрами, которым в ту пору было 11 и 13 лет, бросился в сторону от состава, в открытую степь. От железнодорожного пути врассыпную, бежали и все остальные.
Моя мать и еще одна женщина, которые в этот день были дежурными по вагону и задержались в нем. Женщины, в тот момент уже и не думали о смертельной опасности, которая их ждала внутри вагона во время налета фашистов. Их помыслы были направлены на спасение вагонной «кормилицы» – печки «буржуйки», на которой готовилась в тот день нехитрая дорожная пища. Главным для них было успеть затушить её, не допустив в вагоне пожара и гибели скарба всех остальных эвакуируемых!
Но когда они её потушили и хотели уже выпрыгнуть из вагона и убежать прочь от поезда, было уже поздно: самолеты вновь оказались над поездом и начали очередной пулеметный обстрел еще уцелевших вагонов, поэтому женщины бросились под вагон.
Далее я приведу, почти дословно, описание всего происходящего со слов моих родителей и, в первую очередь, отца.
Отбежав от железнодорожной насыпи вместе с остальными людьми, он залег за небольшим бугорком, прикрыв меня своим телом, рядом, закрыв голову руками, лежали мои сестры.
Отец увидел, как из низко летящего самолета замыкающего строй фашистских стервятников, была сброшена в направлении состава, очевидно, одна из последних бомб, имевшихся у фашистов в боекомплекте. И эта бомба падала на…наш вагон! Он успел лишь подумать: «Все, это конец!». Чтобы не видеть гибели жены, он отвернул голову в противоположную от поезда сторону и плотнее прижал меня с сестрами к себе, ожидая грохота от этого смертельного взрыва.
Но взрыва этой бомбы, никто так и не услышал! Она не взорвалась! Бомба вонзилась в железнодорожную насыпь, в 6-7 метрах от вагона, а из небольшой воронки, образовавшейся при её падении, торчали её стабилизаторы.
Фашисты, тем временем, отбомбившись и сделав последний круг над горящим и истерзанным составом, улетели, взяв курс на Запад.
Все бросились назад, к поезду. Из-под уцелевших вагонов выползали, не успевшие отбежать в поле во время налета и оставшиеся в живых люди, в числе которых была и моя мать. Но в тот момент, всем уцелевшим из эшелона, было не до радости: кое-где, из горящих, исковерканных вагонов и, из – под них, слышались стоны и крики с просьбой о помощи! Там, в этом горящем и дымящемся аду, в страшных муках оставались раненные и гибнущие люди, которые уже ничего не могли сделать для своего спасения. Нужно было, как можно скорей, помочь еще живым людям, нужно было потушить горящие вагоны!
Наконец-то умолкли тревожные и жуткие гудки паровоза! Люди с ожесточением и упорством бросились ликвидировать последствия налета, бросив на это все те небогатые подручные средства, которые были у них. Вместе с уцелевшими врачами и санитарами была оказана первая помощь раненым, расцеплены и растасканы, на сколько, это было возможно, при помощи уцелевшего паровоза, отдельные вагоны. Все, чем и как могли, бросились гасить еще горевшие вагоны.
К вечеру прибыл специальный ремонтно-восстановительный поезд, который на другой день ликвидировал окончательно последствия налета и восстановил путь. Только к вечеру, люди дали волю своим чувствам! Даже незнакомые между собой люди обнимались и рыдали, одни от счастья, что уцелели, другие от постигшего их горя потерь! Горе утраты и счастье продолжающейся жизни, вновь сплотились воедино! По прибытию ремонтно-восстановительного поезда, мы были вынуждены расположиться в поле, пока саперы «мудрили» близь неразорвавшейся бомбы, которая угрожала как жизни людей, так и движению других поездов. После того, как саперы откопали верхнюю часть бомбы и разобрали её, оказалось, что внутри она была наполнена вместо взрывчатки опилками, стружкой и другими отходами производства. На куске картона было написано по-русски: «Чем можем – тем поможем. Немецкие друзья». Кто пытался помочь нам, мы так и не узнали и не узнаем никогда. Но все очевидцы этого эпизода, а в первую очередь моя мать, которая волею судьбы оказалась ближе всего к неразорвавшейся бомбе, на всю жизнь запомнили его! В течение нескольких суток, был восстановлен железнодорожный путь, убраны обломки вагонов, увезены в ближние госпитали раненные, захоронены погибшие, а наш поезд был заново переформирован.
В ремонтных работах, наравне с бойцами восстановительного поезда, несмотря на все ранее перенесенное, трудились все люди из нашего эшелона. Стране, армии, всему народу нужен был, как можно скорее, исправный и готовый к дальнейшим перевозкам путь! Наконец, все в порядке, движение на месте бывшей бомбежки восстановлено! Но в ушах людей, наверное, на всю жизнь, остался тот долгий и траурный, в честь погибших, последний на этом месте, прощальный гудок нашего паровоза!
А мы продолжили свой далекий и нелегкий путь, который после Северного Кавказа, закончился к зиме в далекой Сибири, в городе Рубцовске Алтайского края, с тем, чтобы весной 1944 года, уже через Москву, возвратиться в родной, освобожденный Днепропетровск!
Но об этом позже, а сейчас вновь вернемся, на некоторое время, в счастливые, как казалось нашим людям тогда 30-е, и первый 40-ой год 20-го столетия.
Давайте еще раз вспомним те предвоенные годы, мирную жизнь нашего города и наших первых днепропетровских футбольных звезд тех лет.