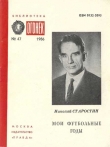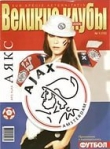Текст книги "Футбол, Днепропетровск, и не только… (СИ)"
Автор книги: Владислав Рыбаков
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 53 страниц)
Завод №165 Наркомата авиационной промышленности
И сейчас, автор хотел бы вернуться к еще одному историческому факту, о котором сегодня в нашем городе почти ничего, или даже ничего, не помнят. Речь пойдет о строительстве в предвоенные годы в нашем городе авиационного завода.
На левобережье, в районе нынешнего Фрунзенского массива, на большом пустынном месте, заросшем кустарником, почти на самом берегу Днепра, на месте старой лесопилки, еще в 1928 году было начато строительство завода «Стройдеталь».
Проектирование и строительство довольно крупного завода, даже в то нелегкое время велось довольно быстро и по специальному указанию Всесоюзного Совета Народного хозяйства и с учетом самых современных на то время требований. Рабочей силой на строительстве стали жители близьлежашего стихийно строящегося поселка, который в то время окрестили звучным народным названием – «Нахаловка». Строители из города добирались в теплое время на курсируемом с помощью катера «Дубке», которым пользовались и плотосплавщики, а холодными зимами даже по льду через Днепр, или автотранспортом по двухяросному мосту. Учитывая большую потребность в квалифицированных кадрах, при заводе была открыта школа Фабрично–заводского обучения – ФЗО.
Уже к 1931 году основные цеха предприятия были в основном построены, но окончание строительства задержалось из-за постигшего завод наводнения. Согласно утвержденному плану, предприятие должно было первоначально перерабатывать не менее 5 млн. кубометров леса. В 1932 году завод «Стройдеталь» уже выпустил первую готовую продукцию: оконные рамы, двери, коробки к ним и т.д. Место для завода, как мы уже указывали выше, было выбрано не случайно: его расположение позволяло, исходный материал для выпуска готовой продукции, а точнее древесины, доставлять к нему не только железнодорожным и автомобильным транспортом, но и водным. Лес сплавляли по Днепру, а на заводе, прямо были построены специальные каналы и приемный бассейн.
Уже к 1936 году большой объем выпускаемой продукции занимает выпуск изделий для авиации. К тому времени, завод снабжает авиацию целым рядом деталей и, в первую очередь, лыжами для тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3, а также к транспортным самолетам АНТ–9 и самому распространенному в то время У-2.
В 1937 году завод «Стройдеталь» был передан в Наркомат авиационной промышленности, и началось ускоренное строительство на его базе крупного авиационного завода, которому был присвоен, как и всем предприятиям, выпускающим военную технику, заводской номер 165. В том же и последующие годы году вступили в эксплуатацию или завершалось строительство целого ряда цехов изготавливающих: фюзеляж, центроплан, раму, шасси, механосборочный, цех окончательной сборки самолетов. Строилась целая гамма цехов заготовительной группы: малярный, термический, штамповки дюралюминия, кузнечный, а также отделения: антикоррозийное, обрезинивания бензобаков. На завод поступало новейшее оборудование, в том числе и из Германии. Одной из причин строительства в Днепропетровске авиационного завода, на месте деревообрабатывающего завода, была возможность доставки к предприятию, как мы уже отметили выше, сплавом по Днепру древесины, так как многие самолеты довоенного времени и даже в первые годы войны, изготавливались из прессованной древесины, так называемой «дельта-древесины». Этот материал тогда не уступал по прочности наиболее распространенному в самолетостроении в те годы дюралюминию, но был легче, не горел, а лишь обугливался. Но изготовление этого материала зависело от смолы, которую получали из-за границы. Поэтому в деталях к осваиваемому самолету в основном использовалась сосна. Кроме того, еще одной из причин строительства авиационного завода было и то, что сравнительно неподалеку от него, в Подгороднем, находился тогда основной аэродром Днепропетровска.
На этом, будущем авиационном заводе, одновременно со строительством его корпусов на громадной пустынной территории, была начата подготовка к освоению разрабатываемого тогда в КБ знаменитого советского авиаконструктора Семена Алексеевича Лавочкина, нового скоростного истребителя ЛаГГ-3 / предшественника знаменитого истребителя военных лет Ла-5 /. Большая группа рабочих и технического персонала нового завода были направлены для обучения в Ленинград и Московский авиационный институт, а на предприятие была командирована группа специалистов из Москвы и Горького / ныне Нижний Новгород /.
Недалеко от строящегося тогда завода для рабочих и инженерно технического персонала, начал строиться комплекс зданий, ограниченный улицами Передовой, Отечественной и Саранской. Расстроившийся после войны этот жилой комплекс и до сегодняшних дней носит название последнего «приемника» довоенного авиационного завода – «Жилая колония завода горношахтного оборудования». А старожилы этого района до сих пор на «народной» остановке «Клинчик» вам покажут, виднеющиеся за рядом частных домов, дома бывшей «Жилколонии 12-го завода». Этот номер, разрушенный во время эвакуации завод, восстанавливающийся после освобождения Днепропетровска, получил с января 1944 года.
Накануне войны завод №165 в короткий срок освоил новую продукцию и изготовил несколько самолетов ЛАГГ-3 для испытаний, на него был прислан летчик-испытатель. Но началась война, и испытать самолеты не удалось. Завод, вместе с людьми и оборудованием, был эвакуирован на авиационные заводы в Саратов и, частично, в Горький, Новосибирск и Куйбышев /Самару/.
О героических трудовых буднях коллективов эвакуированных заводов, в том числе и упоминаемого нами, не раз вспоминал в своей книге «Цель жизни» известный авиаконструктор А.С. Яковлев, а также другой, не менее известный авиаконструктор – С.А.Лавочкин.
На авиационных предприятиях этих городов, днепропетровские специалисты и рабочие внесли и свой значительный вклад в победу. В частности, французская эскадрилья «Нормандия–Неман» летала на самолетах конструкции Яковлева: ЯК-1 /лучший советский истребитель начального периода войны/ а затем на ЯК-9 и на ЯК-3 /, самый лучший самолет–истребитель во время войны/ в изготовление которых внесли большой вклад, эвакуированные в Саратов и Новосибирск, днепропетровцы.
Так, Днепропетровск, накануне войны, чуть было не стал одним из крупных центров авиационной промышленности.
Но дальнейшая судьба завода оказалась незавидной. Во время войны немцы ремонтировали на нем танки, а затем и его, и принадлежавший ему жилой фонд, при отступлении, полностью разрушили. В первые послевоенные годы завод восстанавливался и выпускал различную промышленную арматуру, отдельные запчасти для авиации, шаровые мельницы и т. д. В 1946 году с Урала в Днепропетровск был перебазирован завод бортового инструмента №495.
Снова достраивать завод в те годы не было средств и необходимости, так как война закончилась, а Советский Союз уже имел целую сеть крупных авиастроительных предприятий. В марте 1948 года завод был передан сначала Министерству строительных и топливных предприятий, а затем, в 1956 году в министерство строительства предприятий угольной промышленности и перешел на выпуск различного вспомогательного и горношахтного оборудования.
В конце 50-х годов, завод, наряду с запорожским заводом «Коммунар» рассматривался как претендент на изготовление первой советской микролитражки и перепрофилирование на автомобилестроение. Против перепрофилирования выступило Министерство угольной промышленности СССР и руководство завода: бурно развивавшаяся угольная промышленность требовала большого количества новой техники. И приоритет был отдан запорожскому заводу, который выпускал сельскохозяйственную технику, хотя днепропетровский завод в то время ни в чем не уступал своему невольному сопернику и в его состав входил большие цеха автозапчастей выпускавший коробки передач к автомобилям «Волга» и штамповки, изготавливавший детали корпуса холодильника «Днепр» и детали к эскалаторам метрополитена. Оба эти цеха, а особенно цех автозапчастей, были оснащены, на то время, довольно современным оборудованием.
В 1965 году завод вошел в состав Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения и стал называться «Днепропетровский завод горношахтного оборудования». Завод расширялся и расстраивался. Он стал одним из крупнейших в СССР заводов – изготовителей для горно-обогатительных предприятий, а также выпускал большую гамму горношахтного оборудования, в том числе и на экспорт. В те годы завод был одним из крупнейших в СССР производителей самой различной флотационной техники для обогащения руд цветных металлов, горнохимического сырья и угля. Только на этом заводе тогда выпускались комбайны для подземной добычи марганцевых руд и крупногабаритные магнитные дешламаторы, без которых не обходится не один железорудный горно-обогатительный комбинат. Завод изготавливал специальные краны электровозных депо для угольных шахт опасных по газу и пыли, крупные спиральные классификаторы и много другой техники. До сих пор на горно-обогатительных предприятиях Криворожского железорудного и Никополь-Марганцевского бассейнов и на всей громадной территории стран СНГ работает оборудование, изготовленное на нем. Без его продукции, в те годы, не смогли бы работать многие горно-обогатительные предприятия.
В конце 90-х годов прошлого столетия завод обанкротился и распался на несколько предприятий. Сейчас на когда-то большой территории завода располагается целый ряд различных предприятий, которые не выпускают ни авиационное, ни горношахтное или обогатительное оборудование. Там же находится и одно из производств фирмы «Биола».
Мы сознательно более подробно остановились на истории этого предприятия потому, что в 1944 году, когда еще гремела война, на южной окраине правобережной части города, было начато строительство будущего крупнейшего предприятия по изготовлению ракетно-космической техники – Южного машиностроительного завода. Не успев стать, из-за войны, одним из центров авиастроения, хотя впоследствии изготавливалась продукция для самолетостроения и для авиации, Днепропетровск стал крупнейшим центром новейшего направления развития науки и техники. Так, впоследствии, распорядилась история, которая как бы, подтверждала его значимость и то, что наш город и его люди, способны на многое! И то, что недаром, его сегодня называют «Космической столицей Украины».
Стадион «Динамо»
Но, довоенный Днепропетровск, был не только крупным научным, культурным и промышленным центром. Нет, он был и крупным спортивным центром, о чем и говорят успехи футбольных команд города в течение 1935-1940 годов. В то время, спортивная жизнь в городе била ключом. Проводились самые различные соревнования и, конечно, футбольные состязания: игры на первенство города, Украины, СССР.
В конце 20-х, а особенно в 30-х годах прошлого столетия, в городе был построен за целый ряд стадионов: стадион «Локомотив» /1928 год/, «Динамо» /1932 год/, «Металлург» /1936 год/, стадион завода им. Коминтерна /1935 год/. Все указанные стадионы были, в те времена, настоящими очагами спорта в городе.
Расскажем более подробно о стадионе, который любили горожане, как до войны, так в послевоенное время и, которого, уже давно… нет на карте нашего Днепропетровска.
И, как же, можно не вспомнить, этот уютный, расположенный на склоне спускающегося почти к самому берегу Днепра крутого холма, стадион. Сейчас редко кто вспоминает о нем, а ведь около 4-х лет до окончания строительства «Металлурга», стадион «Динамо» был главной футбольной ареной города и был его центральным стадионом. Именно на этом стадионе, проводились игры на кубок Украины по футболу, в которых днепропетровское «Динамо» завоевало кубок республики.
Футбольное поле стадиона, которое находилось значительно ниже уровня улицы Дзержинского, с юга и запада «обрамляли» трибуны для зрителей. На восточной, холмистой части трибун не было. Со всех мест стадиона, открывался изумительный вид на Днепр и левобережную часть города. Переведя взгляд с жаркой схватки на футбольном поле, в мгновенья игровых пауз, любители футбола могли наслаждаться прекрасным видом просторов древнего Славутича. Все это вносило в души болельщиков, расположившихся на круто спускающихся к зеленому полю трибунах, какое-то чувство благодушия и успокоенности, даже во время жарких футбольных состязаний. Над этим стадионом царил, какой-то, если можно так сказать, дух «семейной» умиротворенной обстановки.
В памяти днепропетровцев старшего поколения отложились воспоминания об интенсивной спортивной жизни этого любимого многими тогда стадиона в конце 40-х и в начале 50-х годов прошлого столетия. В те времена на стадионе проходили встречи чемпионатов СССР по волейболу, на теннисных кортах, ближе всего находившихся к улице Дзержинского, сражались теннисисты. А в суровые зимы, на верхнем поле, где сейчас в небо вонзились высотки жилого комплекса «Башни», заливался каток, который привлекал к себе внимание не меньшее, чем у более современного в те годы, стадиона «Металлург».
На этом стадионе в 30-е годы ковалась футбольная слава команды «Динамо» и сборной города. В конце 40-х и в начале 50-х годов туда стекались болельщики, чтобы посмотреть не только футбол, но и соревнования по волейболу и тогда еще довольно редкому в нашем городе теннису. Мой и путь моих друзей к этому стадиону, в те времена, пролегал с улицы Гоголя, пересекал проспект Карла Маркса, а затем мы шли по улице, на которой жили многие городские и областные руководители, которых народ называл тогда «шишками» – по улице Дзержинского. Дзержинского того времени запомнилась отчетливо: на ней тогда строили красивые дома для работников металлургических заводов. Да и мы, до 1948 года бегали на эту улицу в кинотеатр имени Горького, открытый еще в 1936 году в здании под номером 23. С этим кинотеатром связаны самые яркие воспоминания увиденных в первые послевоенные годы кинофильмах. Да и это здание, построенное еще до революции как помещение для коммерческого собрания, имеет богатую историю. Но мы тогда и не знали, что в нем, когда-то, помещались: и ЧК, в нем, с 1933 года городской аэроклуб и позднее детский кинотеатр. После войны в нем располагалось целое «созвездие» организаций: и аэроклуб, и общество «Спартак», а в 1945 году там же находились службы главного технолога и конструктора автозавода /нынешнего Южмаша/. Затем оно было передано областной филармонии. Мы с интересом, смотрели на красивый одноэтажный дом с колоннами недалеко от запасного входа на стадион и теннисных площадок. Его тоже занимал один из областных руководителей.
Мы, мальчишки, тренировавшиеся в послевоенное время на этом стадионе под руководством седовласого и мудрого Н. Гутарева – знаменитого вратаря предвоенного днепропетровского «Динамо», с восторгом смотрели на тренировки и игры местной команды «Динамо» в 1946 году, которая всего один послевоенный год, была включена в розыгрыш первенства СССР по группе 3. После рассказов нашего тренера – бывшего вратаря, мы особенно следили за игрой тогдашних вратарей Петра Давиденко и Сергея Голода. Как нам хотелось тогда походить на них! Мы бросались подавать им мячи во время тренировок, когда после мощных ударов полевых игроков мимо ворот, мяч летел в сторону высокой металлической сетки, установленной на обрывистом склоне вместо восточной трибуны, на фоне символа нашего города – древнего и прекрасного Днепра.
К сожалению, с роспуском команды «Динамо», стадион стал утрачивать свое место в спортивной жизни города. Но и затем на нем проходили различные соревнования, работали различные спортивные секции, на нем сдавали зачеты по физкультуре студенты, находившихся тогда неподалеку от стадиона госуниверситета и горного техникума. В этом здании впоследствии помещался техникум автоматики и телемеханики, а теперь в нем распологается Таможенная академия/.
А в довольно суровые зимы, здесь на верхнем поле, заливался тогда, пожалуй, центральный и самый большой каток в городе. Сколько народу тогда бывало на нем! Здесь катались и мальчишки на привязанных то ли к ботинкам, то ли к валенным валенкам, или к шитым валенкам – «буркам» с резиновыми калошами, коньками. Эти со скругленным носом коньки, носили удивительно детское название: «снегурки». Мальчишки с завистью смотрели на обладателей остроносых хоккейных коньков, а те, собравшись в группы, и державшиеся за пояса друг друга в «паровозике», носились по льду этого большого по размерам катка со свистом, или криком: «Посторонись!».
Степенно, парами, катались влюбленные, выделывали немыслимые «па» разъезжающимися в сторону ногами новички, только что ставшие на коньки. Мимо них с «фарсом», т.е. с гордостью за себя, проносились отдельные хорошо освоившие коньки «мастера – одиночники». Веселая музыка из динамиков, возбужденная и веселая масса людей, возможность, подъехав к буфету купить пирожок с «ливером» и стакан чая – все эти, сегодня и не приметные детали, оставили добрую память об исчезнувшем стадионе «Динамо» и катке на нем.
Впоследствии, существовало несколько планов коренной реконструкции стадиона, иногда даже высказывались мысли о перестройке его в центральный стадион города.
На его предполагаемом месте были забиты тысячи свай. Но уж слишком лакомым кусочком было место его расположения в районе, где проживало руководство области и города. Поэтому у стадиона, справа от входа, сначала «отхватили» часть территории под грандиозный кино-концертный зал на 1800 человек, который, не смотря на немалые средства, вложенные в строительство фундамента под него, так и не построили за многие годы. А с другой стороны были построены жилые дома в, основном, для верхушки городских и областных чиновников.
Вспоминается, как в местной прессе появились заметки о начале реконструкции стадиона, о том, что в его основание забиты первые десятки свай. Но, скоро энтузиазм строителей угас, как всегда оказалось, что на строительство не выделены средства. Да и зачем в этом престижном, или как сейчас говорят, элитном для проживания месте Днепропетровска, было бы иметь неспокойный для днепропетровской элиты стадион.
Ну а теперь, с полным окончанием строительства всего торгового и жилого комплекса «Башни», история стадиона «Динамо», вообще закончилась. О других стадионах, и в частности о стадионе «Метеор», а также о его «приемнике», ушедшем в историю стадионе «Металлург» и сегодняшнем футбольном стадионе «Днепр – Арена» на месте «Металлурга», мы расскажем позже.
В город пришла война
Как это было! Как совпало -
Война, беда, мечта и юность!
И это все во мне запало
И лишь потом во мне очнулось!
Поэт Давид Самойлов.
А теперь возвратимся в родной город, в самый тяжелый период его жизни, жизни каждого горожанина, жизни нашей Украины и всего СССР: нам придется вспомнить период тяжких испытаний нашего народа – Великую отечественную войну.
Еще за два дня, которые отделяли мир от нападения фашистской Германии на Советский Союз, в Берлине, в очень узком кругу фашистского руководства, был предан гласности план расчленения СССР. Согласно этому плану, Европейская часть Советского Союза должна была быть расчленена после её оккупации, на четыре рейхскомиссариата: «Балтенланд» /или «Осланд»/, «Украина», «Кавказ» и «Россия» /«Московия»/.

На приведенном выше фотографии видно, как фашистская верхушка планировала расчленить СССР и Украину по «генеральному плану Ост» по состоянию на 12 июля 1942 года.
Днепропетровск и наша область должны были войти в рейхскомиссариат «Украина». В этот же рейхскомиссариат /рейхскомиссар Эрих Кох, с резиденцией в городе Ровно / должны были также войти следующие области с выделенными генеральными комиссариатами под названиями: «Волыно-Подолия», «Житомир», «Чернигов», «Киев», «Харьков», «Николаев», «Таврия», «Сталино» /нынешний Донецк/, «Ростов», «Сталинград», «Саратов», «Немцы Поволжья» и «Воронеж». Но жизнь внесла свои коррективы в планы фашистских агрессоров: с 1-го сентября 1941 года, через месяц после начала войны, самый обширный рейхскомиссариат «Украина» был создан не только на бумаге, но и реально, но в него вошло только шесть генеральных комиссариатов – «Волыно–Подолия», «Николаев», «Житомир», «Киев», «Таврия» /с Крымом/ и «Днепропетровск». Остальные рейхскомиссариаты, такие как «Чернигов», «Харьков», «Воронеж» и «Сталино», которые на тот момент находились в непосредственной близости к линии фронта, продолжали находиться под «юрисдикцией» тыловых органов соответствующих фашистских армий и групп армий.
27 июля 1941 года, гитлеровским руководством была утверждена, так называемая «Зеленая папка» / приложение к гитлеровскому плану молниеносной войны против Советского Союза – «Барбаросса» /. Согласно этой папке, фашистской верхушкой предусматривалась экономическая эксплуатация оккупированных территорий Советского Союза, которая бы осуществлялась, специально созданным фашисткой верхушкой, «Восточным штабом экономического руководства». Этим штабом были разработаны инструкции по руководству экономикой во вновь захваченных восточных областях. Все промышленные предприятия, расположенные на захваченной фашистами территории, «распределялись» между крупнейшими немецкими промышленниками и созданными ими специальными монополистическими компаниями. Одна из них – компания «Остверке ГмбХ», членом административного совета которой являлся один из крупнейших промышленников Германии – Флик, получала в распоряжение своего концерна «целый ряд коксохимический, цементный и лесопильный заводы в Днепродзержинске плюс завод имени Петровского, коксохимзавод, металлургические заводы ДЗМО и имени Коминтерна, им. Либкнехта, им. Ленина, им. Артема – в Днепропетровске…» /«История Великой Отечественной войны Советского Союза», том VI, стр. 45, 46 /.
А, теперь, вернемся к последнему предвоенному вечеру и предвоенной ночи – ночи с 21 на 22 июня 1941 года. Мы воспроизведем их по воспоминаниям одного из руководителей Днепропетровской области, в то время, К.С. Грушевого из его книги «Тогда, в сорок первом»: «…Субботний вечер зажигал огни, над Чечеловкой и Кайдаками вставало зарево бессемеровского цеха Петровки, а Днепропетровск не затихал.
По проспекту Карла Маркса, от пресловутого рынка „Озерки“ до горного института, мимо магазинов, кафе, гостиницы „Спартак“, кинотеатра „Красный факел“, мимо только что реконструированного театра оперы и балета, по всему проспекту, благоухающему акациями, текла, разговаривала, шумно приветствовала знакомых, завихрилась веселыми водоворотами, нарядная толпа.
Заиграл духовой оркестр в парке имени Чкалова. В театрах начинались спектакли. На сцену Дворца культуры металлургов уже выходили артисты Государственного Малого театра, приехавшие из столицы на летние гастроли. По Ленинской улице, опаздывая в Украинский театр, пробежала студенческая компания.
Мигал красными точками папирос, звенел приглушенным женским смехом бульвар на проспекте Пушкина.
Город отдыхал.
В парке имени Шевченко, над Днепром, белели рубашки парней и светлые платья девушек.
А потом опустилась ночь. Погасли фонари у театральных подъездов. Потускнели витрины магазинов. Одно за другим померкли окна. Прошел последний трамвай. Шаги одинокой парочки слышались, на много кварталов.
Перебивая запахи бензина и разогретого солнцем асфальта, благоухали ночные цветы в скверах. Казалось, пахнут крупные звезды, дрожащие в черном южном небе.
…Телефон звонил настойчиво и так громко, словно стоял в изголовье. Продолжая дремать, я подумал, что, наверное, распахнулась дверь в кабинет и что её надо закрыть, иначе не заснешь. И…проснулся окончательно. Проснулся потому, что телефон звонил не в кабинете, а в спальне…Я давно перестал принимать за телефон тот черный аппарат, что установили здесь три года назад. Предназначался он для ночных экстренных вызовов и чрезвычайных сообщений…
А вот теперь зазвонил. Резко. Настойчиво … В этом было что-то настораживающее…
– Слушаю!
Знакомый голос обкомовской телефонистки звучал виновато:
– Вас вызывает генерал Добросердов.
Генерал-майор Добросердов командовал 7-м стрелковым корпусом, дислоцировавшимся в области. Что могло случиться у Добросердова в такую рань?
– Сказал, чтоб разбудили и срочно соединили с ним, – добавила телефонистка.
Константин Леонидович Добросердов извинился за ранний звонок и попросил срочно приехать в штаб корпуса.
– А что там у Вас?
Добросердов помолчал. Потом негромко и угрюмо сказал:
– Война…
Война уже давно ползла по Европе, пятная её кровью и обволакивая дымом. Но разве это могло явиться причиной столь срочного приглашения в штаб?
– Какая война? – вырвалось у меня, – Говорите яснее!
Добросердов кашлянул. Снова помедлил. Мне почудилось, что он прикрывает трубку ладонью.
– Германия напала… – услышал я приглушенный голос генерала.
– На нас напала, Константин Степанович! Нынче на рассвете…
– Война с Германией?!
…По пустынным улицам езды до штаба корпуса не более пяти минут…
…Пока я находился в штабе корпуса, успело взойти солнце. Верхние этажи зданий, широкие площади и проспект Карла Маркса купались в золотисто-розовом свете…
…Днепропетровск еще спал… Днепропетровск еще ничего не знал!..»

Командующий 7-го стрелкового корпуса расквартированного перед войной в Днепропетровске, генерал-майор Константин Леонидович Добросердов.
А вот что рассказывалось об этом же вечере, из книги Михаила Шатрова «С вершины полувека»: «В ночь на 22 июня была чудесная погода. В черном, словно бархатном небе блистала удивительно яркая серебристая россыпь звезд. Теплый ветер с востока утих, спустилась прохлада.
Хорошо на аллеях парка Шевченко! Расходится публика из зеленого театра, где только что закончился концерт Ленинградской эстрады. Иные останавливаются, любуясь морем огней на левобережье, прозрачным сиянием неба на северо-востоке, в стороне Новомосковска, прислушиваясь к мерному перестуку колес железнодорожного состава, проходящего по ажурному красавцу-мосту.
А в другом конце города, на старой рабочей Чечеловке, распахнулись двери Большого театра Дворца культуры Ильича. Закончился спектакль, и полторы тысячи почитателей славного дома Щепкина – Московского Малого театра, чьи гастроли несколько дней назад начались в Днепропетровске, – спускаются по широкой мельнице, оживленно делясь впечатлениями. Чудесный актерский ансамбль в „Ревизоре“! А больше всех запомнился Хлестаков – Игорь Ильинский.
Постепенно пустеют улицы. Мирным днепровским городом овладевает сон. Но ненадолго. Коротка эта самая малая ночь в году. Вот уже просветлело небо за излучиной Днепра и окрасилось световой гаммой рассвета – от нежной бирюзы, до мягкого теплого багрянца. Спит воскресный Днепропетровск. Только на заводах ни на час не смолкает трудовой ритм. Выдают огневой металл домны Петровки, мягко рокочет блюминг, неутомима колесопрокатка на левобережном заводе имени Карла Либкнехта…
А у причалов речпорта – ранние гости: участники рабочего пикника отправляются катером вверх по Днепру, в зеленую Паньковку. Великая отечественная война началась для них позже, чем для тех, кто в черный полдень, услышал её позывные из раструбов репродукторов на проспекте Карла Маркса…»
А вот, что вспоминал о тех днях, Леонид Ильич Брежнев в своей книге «Малая Земля»: «…В ту пору я был секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. И если кто и мог позволить себе благодушие, то я каждодневно должен был думать о том, что нам предстоит. На мою долю выпало немало важных и срочных дел по организации и координации такого мощного комплекса обороны, каким был в то время юг Украины, и в частности Приднепровье.
Заводы, изготавливающие сугубо мирную продукцию, переходили на военные рельсы, наши металлурги осваивали специальные марки стали, мне приходилось связываться с наркоматами, вылетать в Москву, бесконечно ездить по области. Выходных мы не знали, в семье я был урывками, помню, что в ночь на 22 июня 1941 года допоздна засиделся в обкоме, а потом еще выехал на военный аэродром, который мы строили под Днепропетровском. Этот стратегически важный объект был на контроле в ЦК, работы шли днем и ночью, только под утро я смог вернуться со строительной площадки.
Подъехав к дому, увидел, что у подъезда стоит машина К.С. Грушевого, который замещал в то время первого секретаря обкома. Я сразу понял: что-то случилось. Горел свет в его окнах, и это было дико в свете занимавшейся зари. Он выглянул, сделал мне знак подняться, и я, почувствовал что-то неладное и все-таки вздрогнул, услышав: „Война!“..»
Накануне войны в наш город из Риги, где он служил до этого, был переведен тогда еще молодой майор В.М. Шатилов. В нашем городе он возглавил штаб расквартированной 196-й стрелковой дивизии. Вот что вспоминал, впоследствии, Герой Советского Союза генерал – полковник Василий Митрофанович Шатилов в своей книге «А до Берлина было так далеко», в главе «На земле Украины» о тех днях: «…У западных границ, вблизи будущего театра военных действий, развертывались новые соединения Красной Армии. Одним из них и была 196-я Днепропетровская стрелковая дивизия. В весеннем, утопающем в садах и парках Днепропетровске совсем не чувствовалось приближения войны. Люди были заняты сугубо мирными делами: варили сталь, строили дома, нянчили детей,собирались в летние отпуска….». Начало войны застало В.М. Шатилова и всю 196 стрелковую дивизию в летних лагерях. Вот что он вспоминал далее:
«…Ранним утром 22-го меня разбудил настойчивый стук в дверь маленького лагерного домика.
– Товарищ майор, вас срочно вызывает в штаб командир дивизии, услышал я голос запыхавшегося от бега связного.
Через несколько минут я узнал о начале войны. Не ошибка ли это? Но ошибки не было. Это война, приход которой все ждали, и которая подкралась неожиданно.
Прошли считанные секунды, и над спящим еще мгновение назад белопалаточным городком поплыли тревожные звуки трубы. Вначале люди приняли тревогу за учебную, и в шуме, который был вызван подъемом и сбором, звучали веселые нотки. Но как только в лагере узнали о нападении фашистов, все изменилось. Вмиг посуровевшие красноармейцы и командиры занимали места в строю…
В полдень мы слушали выступление В.М. Молотова, который сообщил о вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу страну. В частях после этого прошли митинги. Выступавшие бойцы и командиры говорили о том, что не пожалеют жизни за свою Родину, отдадут все силы на разгром врага. И все выступавшие просили командование как можно скорее направить дивизию на фронт.