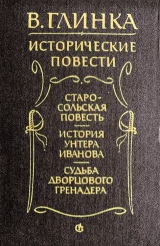
Текст книги "История унтера Иванова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Ну, ничего! Будет все так, наверное теперь будет. Недолго осталось ждать такой счастливой ночи…
Для следующего ночлега разбили лагерь у села Михайловского на берегу неширокой Непрядвы. Поевши, кто разлегся с трубкой у огня, кто забрался спать в палатку, кто чинил одежду или конское снаряжение. Оглядев лагерь, Красовский накинул шинель и сказал, что отлучится часа на два.
За лагерем он увидел сидевшего над речкой Иванова. Охватив колени руками, ефрейтор смотрел на черные, недавно вспаханные поля, на чуть видную деревеньку и лес за нею, озаренные вечерним солнцем.
– Все тоскуешь, милок? – спросил Красовский.
– Никак нет, господин унтер-офицер! – вскочил на ноги Иванов, подумавший, что начальник искал его. – Чего прикажете?
– Приказов пока нету, а чем сидеть, пройдемся малость. Тут место недалече знаменитое, и дотемна еще время хватит.
– Не Куликово ли поле?
– Знаешь? Ходил когда?
– Был раз мальчишкой… Браток у меня грудью недужал, так матушка туда молиться ходила, нас обоих брала. По осени в годовщину, как татар здесь разбили, Дмитриевская суббота зовется, крестный ход на самое поле снаряжается. Панафиду по убиенным отпоют, потом молебен. Вот и с нашей Козловки поп с причтом да иконы две носили. Целую пятницу шли, ночевали вон там, кажись в Буйцах, – указал Иванов на деревеньку.
– Поправился браток?
– Помер на ближнюю весну. Трое нас братьев осталось. Не знаю, живы ли…
– Ужо узнаешь, – уверил Красовский.
Они пошли в затылок по узкой тропке, приметно вившейся над опушенными нежной листвой прибрежными ивовыми кустами. Потом Красовский свернул в поле, зашагал вдоль оврага.
– Видать, вам тут не впервой, – заметил ефрейтор.
– Четвертый раз хожу…
– Отец сказывал, – вспомнил Иванов, – будто мужики здешние много железа ржавого выпахивают – сабли, топоры, шапки железные, рубахи кольчатые. А другой раз и серебро да золото – перстеньки, пряжки. Видать, хоронены были неглубоко.
– Татар так зарывали, чтобы только волки не растаскивали, – ответил Красовский, – и коль пашут тут четыреста пятьдесят лет, то насыпи сровняли, камни повыбрали, вглубь соха пошла. А про русских писано, что их по чести погребали. Князь Дмитрий Иванович для того восемь ден с войском тут стоял. Наших будто пятьдесят тысяч побито, а татар вдвое боле, да еще коней сколько… Ты под Бородином-то побывал?..
– Как же, с Екатеринославским полком не раз в атаку скакали, – отозвался ефрейтор.
– Вроде Бородина и тут было, – продолжал Красовский. – Не малое решалось: быть ли Руси дальше под татарами. Три поля таких: здешнее, Полтавское да Бородинское. Бывал ли в Полтаве?
– Никак нет.
– И мне не довелось. А сюда каждый год хожу. Первый раз верхом приехал, а после пешком стал, будто на богомолье.
Они прошли еще версты две полем, оставили в стороне деревню. Унтер молчал. Иванов шел следом. Солнце спустилось к горизонту, тень легла в овраги, два из которых пересекли, перепрыгивая через бежавшие в них ручьи. Наконец Красовский остановился и огляделся.
– Вон там русские полки переправлялись, – указал он на обозначенный кустами берег Непрядвы. – Всю ночь шли – пехота по мостам, конница бродами. Лежал густой туман, и велено было, чтоб тихо. А татары вон где лагерем уже стояли, – махнул Красовский на холмы, замыкавшие равнину с другой стороны. Там на вечернем небе розовел высокий деревянный крест. – Перейдя реку, наши полки построились фронтом к врагу и, когда туман рассеялся, молча, медленно пошли вперед, – рассказывал унтер. – А оттуда, так же раскинув фронт, шли навстречу татары. Так и сходились два войска во всю ширину поля. Сколько тут?.. Верст десять? Строились плечом к плечу, потому что собралось до ста тысяч русских ратников. Московские и ярославские дружины, суздальские и белозерские, владимирские и костромские, муромские и углицкие – всех не запомнишь, но пол-Руси тут было…
– А вы откуда же все так узнали, Александр Герасимыч? – не утерпел Иванов.
– Из книг, братец. В нонешнем году вышла «История» знаменитого сочинителя Карамзина про то самое время. В ней прописано, как тут было. Ты грамотный ли?
– Никак нет.
– Жаль. Будет малейший случай – выучись. На любом деле от того польза. А книгу читать станешь, то и забудешь, чем печалился…
Красовский снял бескозырку и перекрестился на силуэт креста над курганом.
– Знаешь ли, зачем сюда каждый год хожу? – спросил он.
– Чтоб убиенных помянуть?
– Справедливо. Но еще и за другим. – Унтер повернулся к спутнику: – Насмотришься за год такого, отчего на душе черно да мерзко, а придешь на сие поле, где люди за родину смертно бились, и подумаешь, глядя на землю эту и на крест, что над могилами их поставлен, – значит, сыскивалась в народе нашем сила, когда доводили его до крайности… Авось и впереди в России что хорошее будет, не одна мука да слезы. Понял ли?
– Не больно… – откровенно отозвался Иванов.
– Ну, ничего… Пойдем-ка, дотемна овраги перейти надобно.
5
Дорога, по которой двигалась команда, становилась все оживленней. Табуны коней и гурты убойного скота, телеги с купеческими товарами и фуры с помещичьими перинами с рассвета дотемна тянулись в одном направлении с конногвардейцами. На третий день после ночевки близ Куликова поля к полудню вдали на пригорке показалась Лебедянь. Остановив команду перед Пушкарской слободкой, Красовский приказал ставить палатки в поле у дороги.
До открытия ярмарки оставалась неделя, и, отправившись вечером в город, Красовский узнал в «Парижской гостинице», где всегда приставал их поручик, что начальства еще нет. За тем же походом сторговал бревна для коновязи, жерди и солому для навеса. Назавтра он наблюдал за устройством лагеря, а потом разрешил половине кирасир ежедневно отлучаться в город, наказавши перед уходом показываться ему, раз на ярмарку наезжает немало офицеров. Еще строже велел Красовский смотреть в оба тем, кто по пять человек оставался дневалить у коновязей. Сюда всяких воров собирается тьма, – того и гляди, сведут из-под носу лучших коней.
Иванов уходил в город во вторую очередь. Одетый и выбритый по форме, он утром явился унтеру, но услышал:
– Жди малость, вместе пойдем. Я тут все знаю и тебе покажу.
Получить такой приказ было лестно. Ровно строгий ко всем по службе, Красовский явно расположился к ефрейтору. Может, Елизаров наказал поберечь замученного бароном человека, а может, самому пришелся по душе.
Когда шагали по улице слободы, а потом мимо кладбища в горку к заставе, Красовский рассказал, что Лебедянь, подобно всем здешним городам, строилась как крепость-острог для охраны тогдашних границ от татар. Потому и на холме стоит над Доном, окруженная слободами Казачьей, Стрелецкой, Пушкарской, в которых жили ратные люди. Расположен город средь богатого черноземного края, меж губерний Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, и потому удобен для больших ярмарок, бывающих здесь четыре раза в год. Лебедянская оборотами уступает только Нижегородской-Макарьевской и Курской коренной ярмаркам, а самый большой съезд здесь на весеннюю Троицкую ярмарку, которую открывают 18 мая.
Прошли по единственной мощеной улице, что тянулась от собора. Улица звалась Дворянской, но на ней стояли больше купеческие каменные дома с крепкими амбарами и кладовыми во дворах. За растворенными воротами суетились приказчики у подвод с товарами. Из двух трактиров и «Парижской гостиницы» слышались раскатистые господские голоса и звон посуды. Не раз встречались офицеры, которым конногвардейцы снимали фуражки и делали фрунт.
– Другой раз боковыми улицами ходи, – сказал Красовский. – Ноне для первого раза здесь повел.
Дошли до торговой площади. Она была очень велика и вся застроена каменными и деревянными лавками. За ними виднелись купола и белые стены монастыря. Главная улица лавок прямо за Дворянской, как бы ее продолжение, звалась Панскими рядами. Тут все было нарядно, горело на солнце свежей краской вывесок и аккуратных навесов, свежими тесовыми мостками-тротуарами. В лавках увидели горы товаров. Разноязычные торговцы – русские, немцы, армяне, бухарцы – вынимали из ящиков и мешков и раскладывали на тесовых полках и столах штуки шелков и сукон, шкурки сафьяна и ковры, хрусталь и фарфор, пистолеты и седла. В ближних проулках, куда также вели мостки, плотники достраивали два балагана: один под парусиновой круглой кровлей, другой целиком дощатый – театры, где будут петь и представлять чего-то для господ, как объяснил Красовский. Сюда, в Панские ряды, когда откроется торговля, простой народ пускать не будут. Ему на потребу по сторонам Панских шли Бабьи ряды с лавчонками попроще и без мостков для покупателей. Там тоже раскладывали и развешивали товары. И по ним прошлись гвардейцы, поглядывая на кожи, глиняную посуду, косы, топоры, сбрую, разноцветные набойки и ситцы. Наконец ближе к Дону увидели огромную пустую площадь, на которой пойдет главный конный торг.
Через нее дошли до берега, откуда открывался широкий вид на луговую сторону Дона, на Казачью слободу и лежащее перед ней в свежей зелени широкое Попово поле, где каждый год устраивают скачки с призами и большими денежными ставками.
На обратном пути Красовский наказал ефрейтору подождать около крыльца казенного места, где за окнами горбились над бумагами писцы. Здесь рядом с Ивановым топтались несколько мещан, видно просители. Вскоре унтер вышел, провожаемый толстомордым детиной в форменном зеленом фраке. Отмахнувшись от сунувшихся к нему мещан и мельком взглянув на Иванова, канцелярист истово расцеловался с Красовским.
Потом завернули в стоявший за одной из церквей длинный деревянный дом, половина окон которого была забрана досками и закрашена в цвет стен. У крыльца Красовский достал из кармана тетрадку вроде той, в которую вносил дорожные заметки.
– Вирши лучшие другу в подарок списал, – пояснил он ефрейтору.
И отсюда вышел очень скоро, сопровождаемый тощим человеком в подряснике, с жидкими волосами, заплетенными косицей. Радостно и любовно засматривая в лицо унтера, он размахивал давешней тетрадкой, приговаривая:
– За Мерзлякова да за Жуковского особливый тебе поклон. – А затем обратился к ефрейтору: – Милости прошу, господин кавалер, гостевать с ментором своим.
Когда пошли дальше, Красовский пояснил:
– Други мои здешние – с семинарских времен сотоварищ, на одной скамье учены, одной лозой пороты, а ныне дьякон вдовый, да сын его, канцелярист, недавно женатый и отделенный. Упредил их, что как вахмистр приедет, то свиданию нашему время наступит. Поговорим, виршами и пением утешимся да и пропустим малость. In vino Veritas [16]16
В вине истина (лат.).
[Закрыть]. Ужо, коли хочешь, возьму когда в сию компанию.
– Я вина вовсе не принимаю, Александр Герасимыч.
– И малой толики? Rara avis [17]17
Редкая птица (лат.).
[Закрыть]– кирасир непьющий.
Гнездовский с Елизаровым приехали вечером. Поручик встал в гостинице, а вахмистр пришел в команду, поговорил с Красовским, принял от него людей и лошадей и завалился спать.
Утром, когда Иванов, выкупав коня и сам искупавшись, возвратился в лагерь, Красовский собрался идти в город. Он вылез из палатки в новом белоснежном колете, сверкая галунами на обшлагах и воротнике, с длинным рядом крестов и медалей на груди, неся в одной руке бескозырку, в которой лежали трубка, кисет, кошелек и синий шелковый фуляр, а другой поддерживая палаш в отодранных до ослепительного блеска ножнах.
– Каким вы женихом нонче! – восхитился Иванов.
– Отбываю, братец, от казенных двуногих и четвероногих, чтобы вкусить беседы и пития в округе, мне дружеском. Если что случится, то обрящете меня в дому, где дьякон Филофей квартирует, – сказал унтер и, распихав по карманам в фалдах колета содержимое бескозырки, надел ее набекрень, подхватил палаш и молодцевато зашагал по дороге в город.
В этот день Елизаров осмотрел всех лошадей на выводке и после нее подтвердил приказ Красовского насчет усиленных дневальств у коновязей. Добавил, что вот-вот начнут пригонять заводских «неуков», а своих лошадей продавать. Потом кликнул к себе Иванова и сказал:
– А твоя, Александра, и верно вся стать расправилась. Ровно живой воды нахлебался. – Вахмистр отечески ударил Иванова по груди. – И Красовский тебя одобряет. Так ведь я-то знал, кого беру… Скоро теперь, братец, с тобой поквитаюсь…
– Покорно благодарю, Семен Елизарыч! – радостно ответил ефрейтор.
Задавши корм своему рыжему, Иванов гадал, в чьи-то руки достанется этот красивый и послушный конь, к которому успел привыкнуть. Да стоит ли про то печалиться, когда в ближние дни здесь, в Лебедяни, пойдет у господ игра и на карту поставят не одну крепостную семью… Вспомнился Иванову барин, отставной капитан Иван Евплыч Карбовский, что сдал его в солдаты не в зачет, когда не было положено с его вотчины рекрута. Оторвал от родных, от невесты, когда не ждали, только потому, сказывали дворовые, что продул соседу в карты сто рублей и надобно было рассчитываться, слово дворянина, вишь, дал. А рекрутская квитанция – те же деньги…
Так надо ли тому барину шапку сымать, встретивши на ярмарке, куда каждый год ездит? Может, помер уже господин Карбовский? И десять лет назад у него от обжорства да перепоя кровь в голову кидалась, отчего ревел по-бычьи и епифанский цирюльник целый ковшик ее отворял, чтоб прочухался… Да как не поздороваться, увидавши, когда про всех родных расспросить возможно… А не встречу, то все одно вскорости узнаю про них. По вахмистровым нонешним словам видать, что будет ужо такой праздник…
В эту ночь была очередь Иванова стоять старшим над дневальными около коней. Перед тем как залечь спать, Елизаров сказал ефрейтору:
– Ты, братец, коли Красовский не в себе придет, помоги ему в палатку забраться да особо горланить не давай. Только раз на двое суток отпросился, то раньше навряд покажется. – Вахмистр покрутил головой: – Не усмотрел я, что с палашом пошел.
– Потеряет, опасаетесь?
– Того не думаю, а не рубанул бы кого спьяна. Да авось сотоварищи-питухи свяжут, ежели что…
Елизаров ошибся. Унтер возвратился в лагерь на рассвете. Прогоняя утреннюю дрему, Иванов обходил коновязи, когда услышал далекую, еще на улице слободки, твердую строевую поступь, сопровождаемую лаем нескольких шавок. Потом к шагам примешался звон шпор и колец палашных ножен.
«Трезвый идет», – решил ефрейтор.
Но когда вышел на линейку к палаткам, то с удивлением увидел, что Красовский марширует мимо повертки с большака, где кирасиры настлали через канаву мосток для проводки коней.
– Александр Герасимыч! – окликнул негромко ефрейтор.
Красовский остановился, повернулся вполоборота и бессмысленными, все время мигающими глазами с минуту смотрел на лагерь. Потом зашагал прямо, чудом прошел по самому краю мостка и тем же деревянным шагом подступил вплотную к ефрейтору.
– Всех перепил и перепу… передне… путировал, – вымолвил он с натугой, чужими губами. – Говорили – ночуй. А чего я там не видал? Пух да пауки… – Он оперся на рукоять палаша и продолжал, обдавая Иванова перегаром: – Дьякон хоть хил, но последний мне суфлерствовал Мерзлякова своего, а копиист всехвальный давно под столом… Однако нет пиита славней Державина!..
Зевес быкам дал роги,
Копыта лошадям,
Проворны зайцу ноги,
Зубасты зевы львам…
А нам что, окромя памяти? А?.. Показывай дорогу. Гуси в глазах крылами машут…
Иванов взял унтера за локоть и повел к палатке. Тот шел послушно и молча, но у самого входа вдруг уперся рукой в переднюю палку-подпорку и сказал, тараща осоловелые глаза:
– Кабы Даша за стеной пела, которая нонче там водворилась, то до завтра сидел бы, право…
Ефрейтор помог Красовскому выпростать из тугих петель медные пуговки колета, расстегнул поясной ремень палаша, снял бескозырку, сунул ее в непослушные пальцы и сам не свой смотрел, как, согнувшись, исчезла за парусиной широкая белая спина.
– Даша, – шептал Иванов. – Кого помянул?! Дашенька, свет мой…
Вот как бывает: гонит и гонит от себя человек тяжкое воспоминание, обозначенное дорогим когда-то именем, а оно вот – чужими устами произнесенное, прямо в сердце кровью ударит, и уже снова его не заставишь уйти, тут оно, жжет, как уголь раздутый…
Ярмарка шумела так, даже в лагере конногвардейцев под горой целые дни слышался ее немолчный гул: тысячеголосо ржали кони, мычали быки и коровы, кричали разносчики и пьяные гуляки, били барабаны и ревели трубы в балаганах, лаяли растревоженные городские и пришедшие со стадами собаки. Мимо, по дороге, ехали в оба конца господские экипажи и телеги, верховые, шли пешеходы. Прибыла первая партия из двадцати трехлеток с Беловодских заводов. Одного за другим продавали старых коней. К удовольствию Иванова, его рыжий остался в десятке задержанных для разъездов и привоза фуража. По два раза в день в лагере показывался поручик Гнездовский то один, то с покупателями, приказывал выводить старых и молодых коней, смотрел их под седлом, чаще всего искусного наездника Красовского. Заводские трехлетки – не степные неуки, которых надо обламывать, чтобы под всадником не бесились. Эти хоть не знают кавалерийской выучки, но под верхом ходили спокойно.
Боясь конокрадов, поручик навел еще большую строгость: разрешил отпускать в город только треть людей, приказал, кроме дневальных, днем и ночью обходить лагерь вооруженным рундом, а к темноте всем быть на поверке. Несмотря на это, многие кирасиры свели в слободках знакомства, прознали, в каких кабаках водка крепче и закуска дешевле, где живут веселые бабы. Первый кутила Алевчук, спавший в одной палатке с Ивановым, не раз звал его к какой-то Софронихе, но ефрейтор отшучивался. Не тянуло его и на ярмарку. Чего там не видал? Господ? Толкотни? На Петрушку деревянного глядеть за грош? Или как собачки на ковре в сарафанах пляшут? Вот кабы надеялся односельчан встретить, то другое дело… Но крестьянину весной за сто верст на ярмарку ездить не след.
Единственное, что привлекало Иванова, был торг конями. Два раза ходил любоваться на верховых и рысистых красавцев, приведенных заводчиками себе на прибыль и на славу. Однажды пошел с кирасирами за Дон, на Попово поле, где табунщики объезжали молодняк, выбранный покупателями. Сходил раз и зарекся. Дикого конька, испуганного, дрожащего, упирающегося из всех сил, притащили на свободное место арканами два верховых табунщика. Еще трое ловко спутали ему ноги, повалили, надели недоуздок и оседлали грузом из двух мешков с песком, пуда по два в каждом. Потом распутали ноги и погнали на корде. Двое держали ременную корду, а двое бежали сзади, настегивали, чтобы шибко шел кругом, не забирал в стороны. Через час мокрого, дрожащего, обессиленного коня расседлали и отвели в загон. А других таких же неуков в это время гоняли по второму, третьему разу на корде под тем же грузом. При следующем приеме выездки, происходившем тут же, на оседланного уже обычным седлом коня махом прыгал пятипудовый табунщик и сразу начинал молотить по обоим крупам нагайкой. Скоро бешено несущийся конь пропадал вдали, чтобы через часа два возвратиться – весь бело-желтый от мыла, еле переставляя ноги, покорный, сломленный. И такая гонка под всадником тоже возобновлялась раза три, на чем выездка считалась законченной.
Выбравшись из толпы, Иванов пошел в лагерь. Нет, это зрелище не по нем. Хорошо знал, что половина этих коней уже погублена, разбита на ноги, запалена, и горе тому, кто их купит. А если и выдержит здоровье, то как не возненавидеть коню людей?..
Часто в свободные часы ефрейтор сиживал на лавке, сделанной кирасирами около лагеря. Гнал от себя мысли про будущую полковую жизнь, которая, как ни кинь, близится. Грелся на солнце да глазел на дорогу, всматриваясь в прохожих и проезжих. Вдруг кто из Козловки покажется? Здесь, где потише, верней узнаешь.
Однажды, уходя в город, к нему подсел Красовский.
– Все домовничаешь? Может, денег нету? – спросил он. – Так будто Елизаров говорил…
– Есть, Александр Герасимыч, да своим семейным побольше хочу отвезть, – ответил Иванов.
– Так у меня возьми на гулянку, хоть рублей пять, в Петербурге с жалованья отдашь. Сходи погуляй, девку сыщи, чтобы развеселила. А то со мной идем. Дружки мои рады будут, и соседку тамошнюю, ежели повезет, увидишь, собой прекрасную и поет как ангел, experto credite [18]18
Верь опытности (лат.).
[Закрыть]– я в сем толк разумею…
– Покорно благодарю, мне и тут хорошо, – отвечал Иванов. – А кабаки мне, право, без вкуса и на Попово поле глядеть не хочу.
– На что там глядеть? – кивнул Красовский. – Чисто солдат коверкают, как на себе испытали. Не выездка вовсе, а плохая приездка. Такие кони потом наездников неопытных бьют да кусают… Ну ладно, мудрец, прощай до утра…
Однако ефрейтору в тот же день довелось снова увидеть Красовского. Вскоре по его уходе в лагерь приехал поручик, и тотчас Иванова кликнул вахмистр:
– Знаешь ли дом, где Красовский наш в городе куролесит?
– Было однова, что при мне заходил, только не знаю, там ли нонче, – нашелся сказать Иванов.
– Ступай, сыщи его да вели к их высокоблагородью в гостиницу явиться. Хотят, коня одного чтоб сегодня же спробовал.
Дом, где жил вдовый дьякон, нашел сразу, но на двери висел замок. Заглянул в окно – неприбранная комната, на столе ковшик, куски хлеба, книги. На лавке – подушка и войлочек. Когда стоял в раздумье, откуда-то донесся сильный женский голос, певший под звуки фортепьяно. Такую музыку ефрейтор не раз слыхивал из офицерских квартир в казармах.
«В задних покоях поет, – решил Иванов. – Может, и унтер там. Да как к ним попасть?»
В садовом заборе, что примыкал к дому, виднелась калитка. Ефрейтор взялся за ее железную щеколду, и тотчас совсем близко раздалось грозное ворчание собаки и мужской голос спросил:
– Чего, служба, надобно?
Сквозь круглый глазок калитки на Иванова смотрел кто-то, и он ответил:
– За унтером Красовским начальство послало. Не тут ли?
Калитка открылась. Дюжий парень в накинутом на плечо армяке держал за ошейник большого мохнатого пса, который при виде Иванова разом успокоился и завилял хвостом.
– Ступай за угол, под окошком его кликни, – сказал парень.
Перед ефрейтором лежал запущенный сад. Вдоль глухой боковой стены дома шла вглубь дорожка. Иванов по ней завернул за угол и увидел садовый фасад в шесть окон. Против него за круглой клумбой серела старая скамейка. Здесь голос звучал уже в полную силу, и красота его повелительно остановила Иванова.
Все окна, выходившие в сад, были задернуты кисейными занавесками, кроме одного, у которого профилем к ефрейтору сидел Красовский, держа в руке потухшую трубку. По выражению лица с закрытыми глазами было видно, что и он благоговейно слушает. Низкий, легко и плавно лившийся голос возносил хвалу и восторженно ликовал на каком-то звучном, неизвестном Иванову языке. Но вдруг пение и музыка оборвались.
– Александр Герасимович, к вам кавалер пришел, – сказала невидимая ефрейтору женщина.
Красовский, открыв глаза, взглянул в сад:
– Ну, чего, Иванов?
– Пусть сюда идет, – приказала женщина. – Угостим его.
Теперь ефрейтор сквозь занавески смутно увидел лицо, обрамленное темными локонами, светло-лиловое платье и поклонился в ту сторону.
– Покорно благодарю, сударыня, – сказал он. – Да господин поручик наказали Александру Герасимычу сряду к себе прийти.
– А, чтоб его! – окончательно очнулся Красовский. – Иду сейчас. Куда? В трактир?
Когда шли рядом по улице, унтер спросил:
– Слышал?
– Как же, дохнуть боялся. А на чьем языке оне пели?
– По-итальянски.
– Молитву?
– Почувствовал? – обрадованно воскликнул Красовский. – «Аве Мария» зовется, гимн духовный. Великий немецкий музыкант сочинил, Бахом звался… Понимаешь теперь, как можно часами такое пение слушать и про питье да еду забыть?..
– Где же выучились? Или не русские? – спросил Иванов.
– Землячка твоя, под Крапивной родилась. Ты ротмистра Пашкова в полку застал?
– Как же. Они в отставку вскоре после войны пошли.
– Вот-вот. За первым мирным ремонтом мы с ним сюда ездили. А дальше, брат, не стану сейчас, на ходу, рассказывать, но как от поручика освобожусь да в команду приду…
Но Красовский в этот вечер возвратился поздно и не видел ефрейтора. Зато назавтра, оставшись в команде за Елизарова, уехавшего куда-то с ремонтером, унтер вечером присел к Иванову на лавочку перед дорогой и без вопроса начал такой рассказ:
– Так вот, на обратном пути в Орле ротмистр Пашков, из коляски неловко выпрыгнув, ногу сильно подвихнул, на их общую судьбу. А надо тебе знать, что он итальянской и французской речи обучен, сам знатный певун и у лучших музыкантов уроки брал. С больной ногой в постеле лежа, сначала красавицу свою в окошке соседнего дома увидел. А как пение ее, все невидимым соседом, услышал, то и вовсе голову потерял. Потом, с палочкой в первый раз вышедши, в театре тамошнем, где оперу давали, ее с мужем встретил. Театр графа Каменского очень плохой, только с горя посещать можно. Крепостные актеры безголосые, оркестр уши дерет. Но на другое утро из окошка супротивного все напевы услышал, в точности повторенные, ибо слух у певицы совершенный. Amantes amentes [19]19
Влюбленные – что безумные (лат.).
[Закрыть]в Древнем Риме говорили. Как он ей из своего окошка вторить стал, то сошли оба с ума. А муж у нее – судейский чиновник, на взятки жил и пьяница. Вот ротмистр, все разузнавши, призвал его и прямо: «Отступись от жены, я ее увезу навсегда, и ты ее не поминай. Сколько возьмешь?» Тот сряду говорит – десять тысяч. Пашков поторговался для виду. Сошлись на восьми. Заплатил и расписку взял, будто получил от него муженек взаймы пять тысяч. Так другой чиновник ротмистра научил, чтобы супругу нежному руки связать. И отправились мы все в Петербург. Я все так знаю потому, что, можно сказать, свидетелем был – по заводам с ремонтером ездил, а Елизаров команду вел. От Орла и я с вещами ротмистра уже сзади трюхал, раз Дарья Михайловна в костюме казачка дворового с ним вперед понеслась… А к пению я с детства привержен, в семинарском хоре обучен, так что, когда она русское певала, и я иногда вторил… Ну, а в Петербурге Пашков рассчитался за ремонт, вышел в отставку полковником, и сряду в Италию укатили. Думал, и не свидимся боле, а в сем феврале в Петербурге меня кликнули. Оказывается, дядя полковников богатый здесь помер и тетка отписала, чтобы ехал, его наследником делает, раз сама больна, на ладан дышит. А у него-то, видно, от заграничных музыкальных учителей и прочего в кармане стало не густо. Отец же, хотя помещик богатейший, но сыном недоволен как раз за Дашу и ничего не дает. Поехали они в Тамбов к тетке. А она меж тем так поздоровела, что сама конным заводом правит, приказчиков за бороды дерет и сюда на торг собралась. Вот и попал мой полковник впросак. Тетка-вдовица требует, чтобы при ней для форсу в мундире с орденами все время состоял, и наследство обещает, а он по певунье своей тоскует и между теткой и ею мечется…
– А что ж дальше будет? – спросил Иванов.
– Кто же скажет? – пожал плечами Красовский. – По-моему, плюнуть бы на тетку должен… Да ведь деньги большие…
– А стража от кого же ее бережет? От барыни? От тетки той?
– Aurea dicta! [20]20
Золотые слова! (лат.).
[Закрыть]Я и забыл сказать, что еще супруг Дашин им в письмах грозится с дружками нагрянуть – жену отбивать, раз по бумагам его законная, а расписка долговая вгорячах без должных свидетелей писана. Только я того не думаю, раз за три года, сказывают, вовсе спился.
– А они каковы к мужу своему?
– Лучше в омут, говорит, чем с ним на час. Она-то, его подлость знаючи, и боится, не ворвался б с головорезами, здесь же, на ярмарке, нанятыми. Подхватят ее, да и выкупай снова полковник. Для того и поставили караульщика. А тебя как пес встретил?
– Будто своего.
– Колет белый да конем, как я, пахнешь, вот и поверил, раз я там свой человек и каждый раз его приласкиваю.
В конце второй ярмарочной недели начались скачки на Поповом поле, и Красовский позвал Иванова пойти посмотреть.
На берегу Дона собралась большая толпа, но рослые гвардейцы хорошо видели через головы ранее пришедших зрителей.
На том, низком берегу выделялся широкий круг в версту длиной, с которого был снят дерн и земля посыпана желтым песком. У круга стояла сколоченная из теса открытая беседка с полотняным навесом. На ней разместились военные и статские господа и нарядные барыни. По сторонам беседки стояли десятки колясок, в них восседали целые барские семьи. Перед беседкой конюхи водили лошадей, на которых уже сидели наездники-подростки в разноцветных рубахах.
На углу беседки ударил сверкнувший на солнце медный колокол. Между двумя мачтами с флагами перед беседкой начали выстраиваться, равняясь, пять всадников.
– К самому времени пришли, – сказал Красовский. – Видишь, посередке в кресле в перьях толстуха? Она и есть тетка полковника, и он около ней вьется. Вон в нашем-то мундире…
Второй удар колокола – и всадники понеслись по кругу.
– Прибавь, соловая!
– Зелена рубаха, не сдавай!
– Дай, дай, вороненькая! – кричали кругом.
– Ох, мать честная, хорошо рыжая идет! – охал Красовский.
На третьем заезде из всех зрителей не кричал, кажется, один Иванов. Он не отрываясь смотрел на группу господ не из самых важных, стоявших перед беседкой. Там, среди военных и статских, толкался высокий барин с большим брюхом, в сером широком сюртуке и зеленом картузе. Хотя черт лица было не разобрать, но ефрейтор не сомневался, что узнал эту красную рожу, эти неуклюжие руки и ноги… Жив, значит! Ни водка, ни обжорство, ни бабы, ничто его не берет…
Сказав Красовскому, что пройдется по рядам, выбрался из толпы. Нужно было двигаться, остаться одному. От вида этого орущего обжоры разом встали в памяти места и люди… Защемило тоской и тревогой: как кого найдет? И найдет ли?.. Скорей сыскать себе дело. Хоть поехать с Минаевым за овсом, наломать руки и спину тяжелыми кулями…
Но, когда пришел в комнату, Минаев уже возвратился из лабаза, и овес перенесли в его палатку. Лагерь млел под полуденным солнцем, и, видно, кроме дневальных, все не ушедшие в город спали. Но нет! Из вахмистерской палатки слышалось щелканье счетов, потом Елизаров высунулся с очками на носу и окликнул:
– Красовского не видал?
– Давеча на скачку вместе смотрели, господин вахмистр. Там его и оставил, – отрапортовал Иванов.
– Как после обеда отдохнешь, то сыщи его, вели к поручику под вечер явиться. Себе теперь парадира выбирает, посмотреть на аллюрах под Красовским хочет.
Поел, прилег в палатке. Когда жара начала спадать, натянул снова колет и пошел в город. Из-за Дона надвигалась черная туча. И слава богу – воздух освежит, пыль прибьет, а от коней мух и слепней отгонит. Скачки, понятно, уже кончились, народ разошелся. Повернул к дому Филофея. На этот раз дьякон был у себя. В порыжелом подряснике, босиком подметал веником крыльцо.








