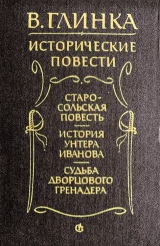
Текст книги "История унтера Иванова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
2
Хотя одновременно с генералом Арсеньевым запросы такого же характера получили всего четверо командиров гвардейских полков, но и в остальных частях корпуса было немногим меньше солдат, умерших за 1817 год. Число их везде колебалось между восемью и десятью процентами списочного состава. Причины проявления монаршего человеколюбия заключались в том, что император Александр был удивлен означенным в рапортах количеством самоубийств. Всегда много умирало солдат от цинги, чахотки, лихорадки, поноса, немало кончалось в госпиталях после наказаний шпицрутенами и фухтелями, но самоубийцы в прежние годы считались единицами. Появление их во всех полках гвардии было чем-то странным, не свойственным солдату, каким представлялся он императору. Что за Вертеры такие в серых шинелях? Люди благородные, случается, кончают жизнь самоубийством от неразделенной любви, от разочарования в дружбе, от невозможности уплатить карточный долг. Но существам низшим – солдатам и мужикам – такие чувства не свойственны. Пусть-ка ответят господа полковые командиры, каковы причины сего поветрия. Видно, за солдатами нет должного присмотра, он недостаточно занят службой, раз может доходить до такой крайности…
Осенью предстоит ехать на конгресс в Аахен, встретиться там вновь с Меттернихом, а он неизменно, при каждом свидании, делает как бы вскользь замечания, по которым ясно, какая у него отменная агентура в Петербурге. Возьмет и скажет теперь: «Позвольте выразить вашему величеству сердечное сочувствие. Как я слышал, множество солдат вашей победоносной гвардии лишают себя жизни…» Или как-нибудь еще в этом роде. Бог знает что! Эти самоубийства положительно неприличны. В них есть нечто дерзкое, пахнущее бунтом против законных судеб своего сословия…
И, встревоженный такими размышлениями, император приказал запросить объяснения от командиров частей, где больше всего значилось самоубийств. Такими оказались прославленные жестокостью генералы Левашов, Желтухин 2-й и Арнольди. Но они же были лучшими знатоками строевых тонкостей, и деликатный Александр Павлович, чтобы не обидеть их, распорядился направить подобные же запросы генералам Арсеньеву и Бистрому 1-му. В их полках значилось меньше самоубийств, но император не жаловал этих генералов за вредную независимость мыслей и хотел увидеть, как оправдаются по такому щекотливому пункту.
Следует помнить, что всем цифрам, касавшимся умерших солдат, представляемым в то время по начальству, должно верить с некой оговоркой. Оборотистые командиры наживались между прочими статьями дохода и на покойниках, не сразу показывая их в рапортах и отчетах. Они предпочитали еще некоторое время получать следуемое живым казенное продовольствие, денежные и вещевые отпуски. Такие выгодные мертвецы назывались на языке чиновников «запасными душами», и документальная отметка их смерти задерживалась порой на целые годы.
Разумеется, этот прием обогащения, меняя отдельные цифры, не мог изменить общую картину. Если когда-нибудь будет написана правдивая история медицинского состояния русских войск в XIX веке, то исследователь неминуемо должен будет обратить внимание на то, что в 1816–1818 годах среди нижних чинов гвардии прошла настоящая эпидемия самоубийств, перекинувшаяся затем в армейские части. Она названа тогдашними военными лекарями «лишением себя живота в припадках меланхолии».
Чаще всего гвардейцы вешались на чердаках казенных построек, в конюшнях, в темных закоулках полковых дворов или топились, бросаясь среди бела дня на глазах у прохожих в серые воды Невы, Невки или каналов, если доводилось идти близ них в одиночку. А то просто пропадали без следа и слуха, махнув ночью в прорубь Фонтанки или Мойки, близ которых располагались многие казармы. Мелькнет мимо задремавшего часового у полковых ворот неясный силуэт в накинутой шинели и бескозырке блином, и не окажется на утренней поверке еще одного служивого.
Немедленная смерть была для этих несчастных единственным верным избавлением от мучительного и унизительного существования солдата царской гвардии, являвшегося неизбежным, но растянутым на несколько лет умиранием. Для самых терпеливых и выносливых, находившихся в расцвете физических сил, непосильной мукой было каждодневное чередование караулов и учений, во время которых по многу часов подряд они должны были выстаивать в полной неподвижности или делать разнообразные, но столь же неестественные движения, непрерывно напрягая все мускулы. От солдата требовали, чтобы грудь была постоянно выпячена, голова задрана, локти, колени и носки вывернуты. А пригоняемая в обрез одежда и амуниция заставляли страдать от тесноты нелепо узких, с высокими воротниками мундиров, от обтяжных брюк и тяжелых киверов, от многочисленных ремней, резавших плечи, грудь и поясницу. Форма эта почти не менялась во все времена года и была одинаково мучительна в жару и в мороз.
При этом за каждую действительную или показавшуюся начальнику малейшую ошибку в повороте, в равнении, в ширине шага, в положении рук и движении ног следовала оскорбительная ругань или избиение различной силы, начиная с командирской зуботычины до прогнания сквозь строй. Редкостью было учение, на котором «нижних чинов» не били бы кулаками, палками, обухами тесаков, шомполами, розгами или шпицрутенами. Недаром в тогдашней солдатской песне говорилось:
Я отечеству защита,
А спина всегда избита…
Кто солдата больше бьет,
И чины тот достает…
А в свободное от учений и караулов время солдат должен был непрерывно заботиться о чистоте и опрятности своего внешнего вида – усов, бакенбард, одежды, обуви, оружия, амуниции. Требуемого начальством щегольского состояния всего этого можно было достичь только часами полировки, побелки, вощения, фабренья, бритья, расчесывания. Их приходилось урывать от сна, всегда желанного, всегда недостаточного, а деньги на такое содержание своей наружности нужно было брать из грошового жалованья, из того, что зарабатывал каким-нибудь мастерством или работой на стороне. Ежегодно осенью, после маневров, солдат отпускали на два месяца, и они брали артелями ломку на дрова старых барок, вывоз строительного мусора с построек, мощение улиц или подгородных шоссе. Немалая часть заработанных этим тяжким трудом гривенников шла на покупку мела, клею, воска и мыла, хотя куда бы нужнее употребить их на улучшение пищи во взводных котлах.
Из продовольствия казна отпускала солдатам только крупу и муку да деньгами на полфунта мяса или рыбы в неделю. А жиры, овощи и соль должно было покупать на артельные суммы, составлявшиеся из жалованья, наградных за удачно проведенные парады да из оплаты артельных заработков. Следует ли удивляться, что при скудной пище, получаемой солдатами, они бывали постоянно голодны и преждевременно старели, что цинга и чахотка считались обычными болезнями в любом полку.
Таковы были условия жизни русских солдат вскоре после походов 1812–1814 годов. И для множества ветеранов страдания этой повседневной каторги усугублялись пониманием полной ненужности в боевой практике всего того, чему их теперь непрерывно учили на плацах и манежах. Они, отстоявшие родину от врага, пересекшие Европу, освобождая народы от ига Наполеона, привыкли в те годы уважать себя и боевых своих товарищей. Им невозможно было примириться с каждодневной руганью и побоями за недостаточно плавный шаг или недовернутый локоть при ружейном приеме. Этих героев, израненных под Бородином, Лейпцигом и Парижем, оскорбляло, когда образцом будто бы главнейшей, необходимой солдату науки становился вчерашний новобранец. Тяжко было им, совершавшим недавно подлинные подвиги, превращаться в вертящийся по команде манекен, не смеющий шевельнуться, когда ему на учении выбивают зубы. Вот почему среди самоубийц было особенно много старослужащих, участников недавних кампаний, кавалеров боевых орденов и медалей.
Такой же была служба и в лейб-гвардии Конном полку, о жизни которого мы еще долго будем рассказывать. Только, как во всякой кавалерийской части, здесь к пешей экзерсиции со всеми ее щегольскими тонкостями, то есть к стойке, поворотам, маршировке тихим и скорым шагом по метроному, прибавлялись еще приемы и рубка палашом, езда в одиночку и строем, уход за конем, которого не только корми и чисти, но еще выщипывай ему гриву, подрезай хвост, подпаливай щетки на ногах, добиваясь того же нелепого единообразия.
И в Конном полку, как в других, солдаты спали на двухъярусных нарах, в тесных, сырых и полутемных казармах, при недавней постройке которых много своровали подрядчик и принимавшие здание чиновники, а теперь на скудном освещении и отоплении богател смотритель. Правда, здесь благодаря честности Арсеньева, ничего не наживавшего от командования полком, в довольствии нижних чинов существовал несколько лучший порядок. Командиры эскадронов не смели запускать лапу в артельные деньги, что бывало нередко в других частях, казенный провиант доходил в котлы сполна, затхлых круп и муки не принимали, мясо и рыбу выборные артельщики покупали сами и в единственном из всех стоявших в Петербурге полков гвардии существовали огороды в Стрельне, урожай с которых квасили и солили впрок на зиму. Но и здесь по двенадцать часов в сутки шли тяжелые занятия, ничего не дававшие, кроме достижения единообразного движения сотен людей, тешившего взор царя, его братьев и наиболее приближенных к нему генералов. Деятельность этих носивших военные мундиры царедворцев состояла в непрестанном утверждении, что подлинное военное искусство, достойное монархов, заключается в совершенном познании всех тонкостей шагистики, всех темпов, на которые делились приемы военной экзерсиции, и всех деталей снаряжения и обмундирования.
И в Конном полку солдаты, или, как их именовали в тяжелой кавалерии, кирасиры, в каждые четвертые сутки ходили в караулы, при отправлении в самый ответственный из которых, во внутренний дворцовый, надевали полную парадную форму. Она состояла из узких сапог-ботфортов, такой твердой и толстой кожи, что ноги в них сгибались с трудом; из лосин, то есть замшевых рейтуз, для лучшего облегания натянутых на голые ноги сырыми, даже если предстояло идти в караул по морозу, и белого суконного мундира-колета, сидевшего как облитый, с высоким воротником на четырех крючках. На руки надевали замшевые перчатки с большими крагами, а на голову водружали кожаную каску с высоким гребнем конского волоса, застегнутую тугим подбородником из медной чешуи.
От такой парадной одежды, делавшей человека неповоротливым, через час по приходе в караул начинались неминуемые страдания, называвшиеся у современников «кирасирскими муками». Узкие сапоги, высыхавшие на ногах лосины, тесные перчатки и воротник настолько стесняли кровообращение, что, стоя на постах, люди только и думали, как бы дотянуть положенное время и, придя в караульное помещение, снять каску, перчатки, расстегнуть крючки воротника, ослабить поясную портупею палаша, сесть на лавку, опереться спиной о стену. Прилечь при белом цвете одежды нельзя было и подумать. Да к тому же в любую минуту караул могли вызвать в строй по тревоге, а всякое движение было замедлено и затруднено донельзя, – дай бог вовремя встать с лавки и застегнуться.
И в Конном полку десятки солдат – рослых красавцев, собранных из деревень и сел всей России, – лежали в лазарете с ознобленными на парадах и в караулах ногами и руками, с иссеченными спинами и отбитыми фухтелями (то есть обухами палашей) легкими, с нажитым на царской службе ревматизмом, почти с одинаковой тоской и страхом ожидая смерти или возвращения во фронт.
А в 3-м эскадроне, прославленном последний год как строевое совершенство, люди были еще забитей, еще несчастней, чем в других, от жестокой взыскательности командира, для которого они были только бессловесным материалом, предназначенным доставить ему благоволение начальства и чин полковника.
При этом репутации барона Вейсмана завидовали, на производимые им учения сходились молодые офицеры, желавшие постичь, как создавались «образцовые» кирасиры, ласкавшие глаз высшего начальства, кирасиры, на горькой судьбе которых целиком оправдывалось тогдашнее изречение: «Из трех рядовых сделай одного ефрейтора». Ведь по официальной статистике 1820-х годов, в Конный полк, где считалось 1150 нижних чинов, ежегодно поступало 115 отобранных в армии хорошо обученных молодцов, а в отставку за год уходило около пятидесяти. Значит, 60–70 умерших солдат в одном кавалерийском полку являлись годовой нормой.
Так жила русская гвардия после Отечественной войны и заграничных походов, прославивших на весь мир русского солдата и взрастивших в нем национальную гордость и человеческое достоинство.
Так жила русская гвардия, когда император Александр разъезжал по конгрессам Священного союза или совершал далекие вояжи по своей стране, а ею полновластно правил граф Аракчеев, жестокий и ограниченный лицемер, умело угождавший вкусам царя и водворявший во всех ведомствах мертвящее торжество невежественной бюрократии.
3
Доложив барону о визите в манеж полкового ремонтера, Жученков, естественно, умолчал, что в тот же день к нему самому наведался вахмистр ремонтерской команды Елизаров. Он доводился Жученкову кумом и зашел попросить, чтобы посодействовал назначению на лето к нему в подчиненные одного-двух кирасир. При этом Елизарову, конечно, желалось получить самых отборных людей, потому что ремонтерская служба, завидная по своему вольному течению, требовала силы и хорошего знания коня.
Однако Жученков, хоть и рад был услужить куму, вовсе не хотел делать это в ущерб своему эскадрону, и так поредевшему от командирского рвения. При ежедневных нарядах и постоянных караулах на не занятых в них людей ложилась уборка всех коней, и поэтому каждый человек был у вахмистра на счету. Но, ходатайствуя перед бароном об откомандировке Иванова, вахмистр, по своему разумению, не наносил ущерба эскадрону, так он был уверен, что не сегодня, так завтра ефрейтор руки на себя все-таки наложит. Хлопоча об его судьбе, Жученков радовался, что делает добро сразу троим: от себя отводит взыскание, что недосмотрел за самоубийцей, его самого избавляет от верной смерти и Елизарову отдает отличного кирасира. А что кум скажет ему спасибо за Иванова, вахмистр не сомневался, потому что они все трое знали друг друга близко и не первый год.
Чтобы сиволапые рекруты с их первичным обучением на плацах не портили вида в столице, пополнение гвардии в те времена совершалось переводами из армейских полков уже обученных, исправных и видных собой нижних чинов. Обычай этот так укоренился, что то же делали и во время войн с Наполеоном. Пять с половиной лет назад, осенью 1812 года, в Тарутинском лагере Жученков, Иванов и Елизаров были переведены в Конную гвардию, первые двое – из Екатеринославского кирасирского полка, а третий – из Литовского уланского, попав только втроем из всей партии переведенных в этот самый третий эскадрон. Нынешние вахмистры были и тогда уже унтерами, а Иванов – рядовым, служившим всего четвертый год и делавшим первую кампанию.
Еще в Екатеринославском полку Жученков на мирной стоянке и на марше приметил этого видного и голосистого кирасира. А под Тарутином, где попервости чувствовал себя чужаком среди гвардейцев, он с Ивановым мог душу отвести. И дальше, на трудном походе, в холоде и голоде, вовсе с ним сжился. Ведь много легче, если рядом человек, про которого знаешь, что в бою и по службе не подведет, последней коркой поделится, а то и могилу выкопает поглубже, чтобы волки не растаскали костей твоих по оврагам.
Не мягок душой был Жученков, но за полтора года походов Иванов стал для него таким человеком. Поэтому особенно тяжко было видеть вахмистру последние месяцы, как загонял ефрейтора в гроб проклятый Вейсман, а теперь радовало, что вовремя нашелся, как его выручить.
А у Елизарова с Ивановым велся с тех же лет особый счет. Близко уже от Парижа, в бою при Фер-Шампенуазе, когда конногвардейцы вместе с другими полками не раз носились карьером на таявшие под их палашами каре французской пехоты, случилось Елизарову с Ивановым вывозить из огня раненного пулей в живот поручика своего эскадрона Захаржевского. Подхватив офицера с двух сторон, они только выдрались из жаркой свалки, как осколком гранаты убило под Елизаровым коня и самого вторым осколком ранило в ногу выше колена. Другой бы кирасир оставил раненого унтера в поле и сам повез дальше поручика. Кто бы и что ему за это сказал? А Иванов, видя, что унтер сможет поддержать раненого, мигом спешился, отдал свою лошадь и помог перетянуть платком кровоточащую ногу. Сам же, снявши седло и оголовье с убитого коня, вскоре догнал раненых, ехавших шагом, и довел до самого перевязочного. Не сделай он так, кто знает, что сталось бы со спешенным раненым Елизаровым на равнине, где развертывались и скакали в атаку полк за полком.
Унтеру тот день пошел на пользу – за привоз раненого поручика его произвели в вахмистры, а благодаря ране, что, и заживши, мешала хорошей выправке в седле, в 1815 году перевели старшим в ремонтерскую команду.
Елизаров не забыл Иванову его добра. Пока был в эскадроне, чем мог мирволил, а после перевода в Стрельну, где женился и обзавелся хозяйством, взял за правило звать его и Жученкова на пироги в именины и другие праздники, причем посылал за ними казенную одноколку.
Такие дни бывали истинным праздником для всех троих, пока Иванов не попал в переделку к барону. Принявши эскадрон, Вейсман сразу облюбовал ефрейтора за красоту фигуры и ловкость в строю и назначил его флигельманом. Стал приказывать каждое воскресенье являться к себе на квартиру для особо тщательного обучения приемам, выправке позитуры и шагу, которые все казались проклятому немцу недотянутыми до полного совершенства, без конца гонял босиком перед собой по паркету, ругал и грозился. Он так затиранил беднягу, что из веселого здоровяка и запевалы Иванов превратился в угрюмого, худого, а под конец совсем не в себе человека, который все норовит уйти в угол да сидеть неподвижно, уставясь куда-нибудь в казарменную стену. Оно и не мудрено, когда редкое воскресенье возвращался от барона без синяков на лице и всегда в таком изнеможении, что еда ему не в охотку и глядеть на мир тошно. А в будни тоже не меньше других доставалось флигельману на учениях то кулаком, а то и серебряной литой рукоятью баронского бича.
Два раза за последнюю осень случилось им встретиться в Стрельне за штофом и пирогами. Гостей звали по воскресеньям, так что Иванову доводилось приезжать после утренней «поправки позитуры». Еще за столом он малость оживлялся и после него подтягивал песням товарищей, а как тряслись обратно по Петергофской дороге, то молчал ровно мертвый, глядя неотступно куда-то в темень. На святках же и в Симеонов день наотрез отказался от гостевания, – видно, тяжкой ему стала даже короткая эта передышка от эскадронной муки. И хотя сиживали за тем же столом другие гости, а все не хватало вахмистрам давнего товарища. Не раз гадали, как его выручить, да что придумаешь? Пытался Жученков назначать ефрейтора малость чаще в караулы – авось барон облюбует другого флигельмана на подмену. Ан заметил чертов немец и велел Иванова вовсе в караул не посылать. Лишился и этой передышки бедняга. Пошло еще быстрей к петле или проруби.
Зато теперь Жученков знал, что, попавши в ремонтерскую команду, проживет целых полгода «как у Христа за пазухой». А что случится, когда воротится осенью в полк с конским пополнением, того солдату и загадывать не след – что будет, того не миновать.
Еще три дня Вейсман сказывался больным, и Жученков в полдень и вечером являлся к нему за приказаниями. Раз, входя к эскадронному командиру, он встретил поручика Гнездовского.
– Здорово, вахмистр! Сладились мы с бароном! – сказал ремонтер, и Жученков окончательно успокоился за судьбу Иванова.
А назавтра в каморку вахмистра, отгороженную тесовой стенкой от эскадрона, вошел насупленный Елизаров.
– Спасибо, куманек! Отпустили нам с немцем твоим орла! – сказал он, садясь на хозяйскую койку. – Алевчука хворого барон поручику моему сосватал. Отсюда, видно, крест да гроб везти придется.
– А Иванов как же? – всполошился Жученков.
– Тоже в мою гвардию идет. Двоих калек за милость отдаете.
– Ну и хитер! – восхитился Жученков. – А твой чего же Алевчука брал?
– Так почем ему знать, что Алевчук в могилу глядит? – возразил ре монтерский вахмистр. – Он помнит, что был тако справный кирасир в эскадроне. А на что его нонче похожим сделали, то ему взглянуть невдомек. Надул нас немец, да и ты с ним заодно. Опоенную клячу за скакуна всучили, барышники.
– Тут, кум, я ей-ей ни при чем, – заверил Жученков. – Я барону про одного Иванова докладывал, Алевчука он своим умом дошел отдать. Да он, гляди, еще отдышится. За три дня, что на учения не гоняем, куда приглядистей стал.
– Хорош же был! – фыркнул Елизаров. – Ноне встретил – краше на погост носят. А еще скажи, Иванов-то из Тульской взят?
– Из Тульской, кажись. А что?
– Эка «что»! Нам из Лебедяни с ремонтом где шагом плестись?
– Ну?
– Вот и «ну»! Как будет знать, что ему вскорости снова к барону на муку вертаться, то не надумал бы сбечь.
– Куда сбечь-то? – возразил Жученков. – Эку заграницу нашел! Солдат не игла, сквозь землю не провалится. Первый встречный барин к капитан-исправнику стащит. А коль достигнет своих мест, так односельцы, чтобы горя не нажить, локти назад скрутят.
– Все так, да у них, у дураков, рассуждение иное, – наставительно сказал Елизаров. – Родные, мол, места повидаю, раз до их рукой подать. Ночами ехать стану, днем в леске пережду. Пока поблизи искать будут, скроют меня сродственники, пожалеют свою кровь. А опосля одежу другую вздену и подале проберусь. Так-то, глядишь, все у него в глупой башке гладко прикинется, да с ночлега какого захватит пару самолучших коней – и поминай как кликали! А мне и за него, дурака горемычного, и за коней казенных отвечать. Его беспременно поймают и по команде представят, а трехлеткам заводским, за которых до двухсот рублей плочено, куда как просто на исправницкой конюшне прижиться…
– Вот потому, Елизарыч, что тебе за него отвечать, Иванов никуда и не денется, – убежденно сказал Жученков. – Сам знаешь, может ли он тебя под беду подвесть?
– Оно вроде и так, – согласился Елизаров. – Да вспомнил нынче, как в третьем году Левенков сбёг, тоже не новобранец, и опять от Тулы недалече. Ладно у нас дневка случилась, так суток не прошло, как земская полиция его доставила, будто барана, на телеге скрученного, и конь, на мое счастье, к грядке привязан. До деревни своей не доехал, как взяли. Ровно чумеют, как в родные места попадут… А с чего, скажи, Левенкову бежать было? Чем худо в команде моей служить? Вот и думается: Иванову куда против него солоней пришлось, так не сдурел бы.
– Оттого, что больно солоно, я к тебе его и определить надумал, – сказал Жученков. – Чтоб ты передох человеку дал.
– Ладно. – Елизаров встал. – Сам его жалею, да и за свою шкуру забота берет.
Прошла еще неделя. Иванов и Алевчук числились в откомандировке, но продолжали жить в эскадроне. С утра уходили в амуничник, в кузницы или еще куда, исполняя поручения Елизарова, готовившего свою команду к походу.
– Эко счастье чертям привалило! – завидовали кирасиры.
Но им тоже нечего было пока бога гневить. После генеральского внушения Вейсман стал много тише. Хотя и ругался, и давал зуботычины, но до прежнего живодерства не доходил.
Наблюдая в эти дни Иванова, вахмистр Жученков с досадой замечал, что по-прежнему сторонится людей, ест без охоты и во сне, соседи сказывают, ворочается да охает. Зато Алевчука прямо не узнать – кирасир прибаутками смешит, припевать стал, хотя как громче возьмет, так и закашляет.
«Попытаю, нет ли особой причины», – решил Жученков.
В тот же вечер, когда в эскадроне остался гореть один фонарь-ночник и над нарами пошел густой храп, вахмистр выглянул из своей каморки и вполголоса кликнул Иванова. Ефрейтор тотчас явился – видать, сна ни в одном глазу. Вахмистр велел ему сесть против своей койки на сундучок, в который на ночь прятал списки людей и коней, тетрадку нарядов и прочую эскадронную канцелярию.
– Ты что же, Александра, ровно ворона мокрая ходишь? Или не рад ремонтерской? – спросил Жученков, глядя при скудном свете сальной свечи на ставшее особенно скуластым от худобы лицо Иванова, на костистую грудь под рубахой.
– Как не радоваться, Петр Гаврилович? – отозвался Иванов. – Каждый день по сту раз спасибо тебе даю, знаю, чьими заботами.
– Не про то, братец, – остановил вахмистр, – а дознаться хочу, что у тебя еще на сердце. Может, и тому помочь сумею. Денег, к примеру, нету. Дал кому из кирасиров, а не отдает. Я от себя скажу – крепче воздействует. А то не болен ли часом? Так объявись мне – к бабке сведу, в Коломну, куда искусней лекарей наших любую болезнь понимает, самого не раз пользовала.
– Покорно благодарю, здоров и деньги есть, – отвечал Иванов. – Сам дивлюсь, чего б не радоваться? – Он виновато усмехнулся. – А все у сердца сосет. Все не поверю, что то горе отошло, все опасаюсь, не отменили б командировку. – Он тревожно всмотрелся в Жученкова. – Не потребовал бы обратно во фрунт.
– Эх ты, дура! Как барону потребовать, когда приказ по полку отдан! – успокоил вахмистр. – Иди-ка спать, не думай боле. Пусть Елизарыч за тебя ноне думает.
Разговор оказал на Иванова очевидное воздействие. На другой день он подбивал старые сапоги, на третий стирал рубахи – начал готовиться к походу. А еще через вечер в такое же позднее время, но уж без зова снова вступил в каморку вахмистра.
– Намедни спросили про надобность, – начал он смущенно.
– Надумал? – повернулся к вошедшему Жученков, сидевший за столиком, кладя на счеты расход овса.
– Надо деньги французские обменять, – вполголоса сказал ефрейтор, – а как то делают, не знаю. Научи, сделай милость.
– Неужто с походу сберег? – удивился вахмистр и глянул на дверь, хорошо ли притворена.
– С Парижа… Французы там однова подарили, – ответил Иванов. Он вынул из-за пазухи платок, развязал и положил на край стола вязаный кошелек желто-красного шелка.
– Сколько же тут? – осведомился Жученков.
Иванов достал из кошелька бумажный пакетик, а из него стопку золотых монет.
– Ну и кремень ты, братец! – подивился вахмистр. – Другие, что с похода привезли, давно до гроша прогуляли, а он – на-ко! – Жученков попробовал золотой зубом, поднес к свече. – Добрые наполеоны. Такие обменять не хитро… Да на что они тебе в дороге? – Вахмистру вспомнились опасения кума. – Отдай лучше на сохран Елизаровой жене. Баба твердая, безотлучно в своем дому.
– Хочу, Петр Гаврилович, отвезть отцу с матерью, – ответил Иванов. – А то братьям отдам, коли родителей бог прибрал.
– Вот что задумал! – сказал Жученков. – Близко родных мест путь, что ли, пройдет?
– Говорили, кто уж езживал, будто через Богородицк нам идтить, а село мое от него двадцать верст. Вот и думаю: придется ли еще когда такую близь ехать? Авось Семен Елизарыч пустит на одну ночку кровных повидать. Ай нет? – Иванов вопросительно смотрел на вахмистра.
– Может, и пустит. Чего на одну ночь не пустить? – подал надежду Жученков. – Никак десять наполеонов твоих? Завтра же и сменяю. Верных сто рублей серебром твои будут. А кошель каков знатный! Кольца, видать, золоченые. За что ж, расскажи, французы тебя дарили?
– У француженки одной… – начал Иванов и запнулся, увидев, что вахмистр улыбается.
– Ну и хват! – рассмеялся Жученков. – Будто все на глазах был, а поди-ка! Видно, богатая была?
– Не за то, Петр Гаврилыч, – ефрейтор совсем смутился. – Мальчонку ейного из воды вытащил.
– Где же, когда?
– Да в саду гуляючи, Тюлюри зовется… Шли мы там раз с Самохиным, вдруг вижу – девочка лет пяти взяла совсем махонького паренька, только, видать, на ноги встал, да с натугой поднявши и посади на край чашки такой большой, каменной. В землю врыта, и вода в ней плещет, как у нас в Петергофе. А тот-то малец сряду, как девчонка руки отняла, и брык назад себя в воду. Я скорей к ним да и вытащил. Он и захлебнуться не поспел, обмок только да ревет, закатывается. Тут нянька аль мать к нему кинулась и ну голосить, да старый барин, дед, может, тут же рядом сидел, книжку читал, – тоже меня благодарит, обнимает.
– Вымок сам-то? – осведомился вахмистр. – Глыбоко было?
– Пустое! Рукава да грудь малость. Солнце жаркое, высох.
– А Самохин что же, в эскадроне не сказывал? – удивился Жученков. – Ты-то скромник, известно…
– Христом богом его просил, угощение поставил, – улыбнулся Иванов. – Боялся – за колет не взыскали б. Строгость там была, помнишь, чтоб все как на парад. Часа два на солнце сидел, руки ровно палки выставивши, рукава натягивал, чтоб ни складочки. Тут же в саду, покудова сох, все серебро и проели, которое разные господа мне насыпали, как на крик француженки сбежались. А золотые старик прямо в кисе подал. Я в полку только разглядел, каково богатство…
– И не видал больше бабенку? – подмигнул Жученков.
– Ни разу, – покачал головой Иванов. – Ходил туда четыре воскресенья, хотел старику деньги вернуть. Должно, по ошибке столько дал, раз одет был небогато. Так нет, не встречал больше.
На другой день Жученков, чтоб не было греха, перехватил в цейхгаузе приехавшего из Стрельны кума и, пересказав разговор с Ивановым, спросил, менять ли.
– Меняй, – решил Елизаров. – Раз прямо просится, то не сбежит.








