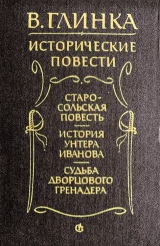
Текст книги "История унтера Иванова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Только теперь, в ночных раздумьях, дошел Иванов до мысли, что, может, вовсе не для покрытия карточного проигрыша сдал его в набор Иван Евплыч. Может, уже тогда приглянулась его Даша проклятому Кочетку? И снова почти что наяву стало грезиться страшное – вроде того, чем маялся в Лебедяни: смертная разделка теперь уже с обоими недругами, от которых зависят все его близкие… Что придумать, кроме работы, чтобы скорей засыпать, чтоб крепче спать без таких снов? Разве запить, как иные кирасиры?..
Видно, эти размышления выказывались на лице ефрейтора, раз Жученков однажды вечером спросил:
– Что ровно туча ходишь? Заболел? Ай деньги твои скрали?
– Су мнения разные берут, Петр Гаврилыч, – признался Иванов.
– Говори все толком, как на духу, – приказал вахмистр. И, выслушав сбивчивый рассказ, ответил решительно: – Не будь бабой, Александра. Поздно ворочаться, раз на такое решился. Знают теперь старики, что ты живой, их помнишь, увидать надеются, еще помочи твоей ждут. А раз так, то и налегай на заработки. При том же и свою старость помни, чтоб в отставку идти не с пустыми руками. Коли так и дале в эскадроне будет, то, скажи, чего не служить? Моли бога, чтобы Пилара нашего сберег… Насчет же Степки будь надежен, отольются ему ваши слезы. Рано ль, поздно ль, а уходят его мужики, какие ни есть тихони… – Вахмистр помолчал, собрался с мыслями и добавил: – А щеток, понятно, себе в убыток не отдавай, впрок делай, раз хлеба не просят… И еще вот что: сказывают, будет с той недели при канцелярии школа грамоты, так ты в нее ступай. Знаю, что буквы читаешь, вот и доходи до твердости. Барон тебя в унтера прочит, и я тебя ему похваляю, однако, по новому закону, унтера грамоту твердо знать должны, и мне тогда по письму помогать станешь. А для успокоения сходи-ка у Николы вечерню послушай. Не нашему солдатскому хору чета.
Слова вахмистра подействовали на Иванова, как хорошая баня. И верно, как баба, раскиснул!.. Вечерами стал ходить на занятия, где учитель из писарей обучал, как Красовский, чертить буквы на песке. Было там и еще важное: учили писать цифры, обозначать десятки и сотни, а к рождеству обещали показать сложение и вычитание. Учился изо всех сил. В унтера выйти – есть из чего стараться, сряду жалованье двадцать рублей в треть, в три раза больше прежнего.
И тут же встретил купца из Апраксина.
– Чего ж, кавалер, носу не кажешь?
– Несподручно, ваше степенство, мне по тридцать копеек.
– Так давай снова по сорок, раз такой ндравный.
– По сорок пять для кого-то на Васильевском наш фурштадтский унтер берет, – соврал Иванов, рассерженный развязным купцом.
– Так и я дам по сорока пяти. Неси завтра же сколько есть…
Лето этого года ничем не отличалось от прежних. То же стояние по избам под Стрельной, где стругал копеечные ложки. Потом – трехнедельный сбор всей гвардии в лагере под Красным и маневры, тоже, как всегда, заранее рассчитанные, с обязательным ночным стоянием в «главных силах», около оседланных лошадей, одетыми в. «боевую» форму, с наступлением на неведомого противника сомкнутыми колоннами и отступлением под прикрытием фланкеров. Все – как нравилось царю, и вовсе не было похоже на войну, которую так хорошо помнило большинство участников.
10
В октябре всю столицу всколыхнуло случившееся в Семеновском полку. С 1812 года полком этим, одним из старейших в гвардии и всегда образцовым по строю и дисциплине, командовал молодой генерал Потемкин, человек честный и такой добряк, что у семеновцев, где и офицеры подобрались под стать командиру, начисто вывели телесные наказания, и служба от того нисколько не пострадала. Однако царский брат Михаил, назначенный двадцати пяти лет от роду командовать бригадой, в которую входили семеновцы, счел такой порядок вольнодумством. Слыханное ли дело – солдат не бьют! Экие нежности! После ряда придирок он добился от царя замены генерала Потемкина армейским полковником Шварцем, известным своей грубостью и жестокостью. К октябрю 1820 года Шварц уже год с лишком «подтягивал» семеновцев: без конца учил заслуженных кавалеров наряду с молодыми солдатами позитуре и строю, по полдня не спуская с плаца, повторяя взводные и ротные эволюции, заставлял заниматься этим и в праздники, а за малейшее упущение ругался, грозил, приказывал солдатам плевать друг другу в лицо. Постоянными учениями Шварц лишал их времени, употребляемого на заработки, без которых не свести концы с концами, тем более что сам полковник требовал такого щегольства и чистоты одежды и амуниции, что приходилось многое прикупать на свой счет.
И вот теперь, 16 октября, шефская рота, состоявшая из заслуженных ветеранов, заявила своему командиру, что просит довести до начальства жалобу: не могут долее переносить несправедливостей и обид полковника Шварца, просят расследования.
Конечно, в других гвардейских полках давно толковали о страданиях семеновцев, узнали и об их «возмущении». В тот же день, когда оно произошло, Иванов, как всегда занятый службой и щетками, краем уха услышал перед сном толки о случившемся, догадки, что будет дальше. Одни говорили, что полк этот особенно любим царем, его шефом с юности, и что семеновцы не бунтуют, а просят законного разбора несправедливых поступков командира. Да еще, слыхать, все офицеры полка готовы показать за них, а не за Шварца. Другие отзывались, что оно все так, да навряд обойдется без суда над солдатами, а на офицеров, которые за них вступятся, тоже управу сыщут…
Так судили и рядили еще день, а утром 18-го вдруг штаб-трубач сыграл на плацу тревогу, и по эскадронам побежали вахмистры, приказывая снаряжаться «при полной боевой» и, оседлав коней, выезжать на плац. Через полчаса полк на рысях пошел по Почтамтской, мимо Зимнего дворца, по Миллионной и на Царицыном лугу сошелся с кавалергардами. И везде видели народ, бежавший в одном с ними направлении, но, только остановясь, услышали, что говорили горожане. Иванов, стоявший на фланге эскадрона, из разговора двух мастеровых понял, что начальство арестовало шефскую роту семеновцев как зачинщиков бунта, и приказало идти в крепость. Они и пошли беспрекословно, как были в шинелях и фуражках, без оружия. Но тут другие роты первого батальона решили, что нельзя их отпускать одних. «Куда голова, туда и ноги», – говорили они. И все пошли следом. Вот тут начальство и приказало поднять кирасир по тревоге, испугалось – что-то будет?! А семеновцы, как овцы, спокойно и тихо прошли по Фонтанке и через Троицкий мост в крепость под арест…
Постояв недолго на Царицыном лугу, кавалеристы тронулись по набережной и увидели только хвост батальона, перевалившего середину плашкоутного моста через Неву. Проехав дальше, завернули у Прачечного моста и возвратились на Царицын луг. Командиры полков съехались, поговорили и повели полки по казармам.
Со следующего дня запретили отлучки со двора всем солдатам гвардии. Но в полк все равно доходили вести из города. Ведь писарей посылали в штаб корпуса, семейные вахмистры и унтера жили вне казарм, торговки, сидевшие у казарменных ворот, тоже что-то болтали, и кирасиры слышали обрывки офицерских разговоров. В полку знали, что наряжено следствие, идут допросы, но для окончательного поворота дела ждут известия, как отнесся к нему царь, находящийся за границей, а пока и оба батальона, которые никаких возражений против Шварца не делали, разослали, один – в Кексгольмскую крепость, другой – в Свартгольм.
С месяц надеялись гвардейцы на царскую милость любимому полку, а потом узнали, что семеновцев приказано судить и примерно наказать как бунтовщиков.
– Ну, а со Шварцем как поступят? – услышал Иванов вопрос корнета Плещеева, обращенный к поручику Бреверну у дверей конюшни во время утренней уборки.
– Увольняют в отставку, чтобы никуда более не определять.
– Вот так наказание за то, что загубил чудесный полк! – возмутился Плещеев.
– Тише! Silence! [45]45
Молчание! (фр.)
[Закрыть]– цыкнул на него Бреверн.
Ефрейтор поторопился отойти от офицеров. На душе стало еще черней. И правда, вот так наказание за то, что три тысячи человек сделал несчастными и стольких еще сквозь строй погонят!
Вечером этого дня Иванова кликнул в свою каморку вахмистр, угостил сбитнем, пирогом и сказал, понизив голос:
– Молчи, Александра, ноне, как рыба. Время такое – лишнего не скажи. Радуйся, что в эскадроне дышать можно, и все…
В декабре стало известно, что десять человек из шефской роты Семеновского полка жестоко биты шпицрутенами. Всех солдат первого батальона разослали без выслуги в Сибирь и Оренбургский край. Пошли в армейские полки и те, что вовсе безвинные томились в финляндских крепостях. Четверых офицеров отдали под военный суд, а остальных перевели в армию без права на отставку. Вместо старого полка сформировали новый, из армейских солдат и офицеров. Долго так и говорили: «новый Семеновский полк».
На масленой вахмистр позвал Иванова к своей куме – вдове, торговке, жившей на Прядильной. Употчеванный блинами, едва встал от стола, Жученков остался еще гостевать, а ефрейтор пошел в полк.
Смеркалось. Горланил праздничный народ. Пьяный фонарщик никак не мог приладить к столбу лесенку и окликнул Иванова:
– Эй, служба, подержи, будь милостив, чтоб не убиться…
Долго он укрывался своей рогожей, обдавая ефрейтора запахом тухлого конопляного масла, еще дольше высекал огонь. Наконец-то засветил тусклый огонек и закрыл дверцу фонаря. В это время кто-то толкнул Иванова плечом, так что чуть не сронил и фонарщика.
Ефрейтор оглянулся и со спины увидел человека в заношенной ливрее и меховой шапке. Его костюм и походка показались знакомы.
– Эй, дядя! – окликнул Иванов. – Чем толкаться, поздоровайся лучше.
Человек обернулся. Да, это был старик, который сделал ему надписи для щеток. Но теперь глаза смотрели злобно и борода давно не брита.
– Аль болел? – спросил Иванов, освободясь от фонарщика и догнав знакомого.
– Чего с иудой здоровкаться? – сказал старик, глядя исподлобья. – Иуды и есть! Предали братьев своих семеновцев. На глазах замучат брата родного, а вы морду отворотите, трусы поганые!
– Да что ты, дяденька, помилуй! – опешил Иванов. – Что ж мы сделать могли?..
– Кабы возроптали все разом, то кто б вас тронул? – сказал старик. – Что скажешь?.. Трусы и есть. Вас тысячи большие, а судей сколько? А моего Васю-мученика скрозь строй гнали да еле живого в Оренбург. А за что? Кого убил, ограбил?..
– Да кто ж таков Вася?
– Кто? Племянник родной, и крестник, одна души моей подпора на всем свете. Унтер-семеновец, как ты, кавалер, брат твой, за правду битый… Неужто совесть вас не мучит, каинов?.. Тьфу!.. – Старик злобно плюнул на сапоги Иванову и почти побежал прочь.
«А может, и правду говорит? – думал ефрейтор. – Кабы все полки разом… Да кто-то скомандовать должен… Нет, нестаточное дело, бредит старик с горя…» – решил он. Но в следующие дни не раз спрашивал себя: «Неужто мы в ихней беде виноваты?..»
Он не мог забыть слова старика еще потому, что от кирасир нет-нет да слышал о том же. Людей точила жалость к семеновцам. Тишком говорили, что, может, следовало всем полком просить за них начальство.
Видно, среди солдат были доносчики, от которых начальство узнавало, что не перестают толковать о горькой судьбе наказанных, потому что ранней весной стало слышно, будто скоро весь корпус выступит походом в Западный край, как выражались офицеры, «поведут проветрить» полки на все лето. И опять на уборке в полутемной конюшне Иванов услышал разговор тех же двух субалтернов.
– Неужто целое лето протопчемся по белорусским трущобам? – сетовал Плещеев. – Будет ли там хоть какое-то общество?..
– Ты о другом подумай, – отвечал рассудительный Бреверн. – Удачно ли избрано место? Край скудный и весь недавней войной разорен. Урожаи этих лет плохие, и скота мало. А тут еще сорок тысяч гвардейцев на постое и столько же верховых и обозных лошадей. Почему бы не пойти под Москву или к нам – в Эстляндию и Лифляндию? Там есть общество, и туда комиссариату здешнему легче необходимое подвозить.
– Словом, одна дурь ведет за собой другую, – подхватил Плещеев. – Испугавшись призрака семеновцев, которых несправедливо засудили, выводят нас в самую скудную и скучную местность.
– Тс-с!.. Silence! – как в прошлый раз, зашикал Бреверн.
Весна 1821 года выдалась поздняя. Снег из Петербурга уходил как бы нехотя, но поход не отменили. С середины апреля начали проверку обмундирования, амуниции и оружия, осмотр повозок и ковки лошадей. Иванов, который поднаторел писать и считать, гнулся над эскадронными ведомостями и списками.
Выступили из Петербурга холодным утром 6 мая. Дороги даже под столицей оказались размокшие, тяжелые. Тащились шагом, по двадцать верст в день. Поручик Бреверн был кругом прав: когда через месяц вступили в Белоруссию, казалось, попали в другую страну – нищие деревни, тощие люди в обносках, жалкий скот, чванливые и бестолковые паны, с которыми трудно сговориться даже о том, что им явно выгодно.
Пятнадцатого июня пришли в назначенный квартирой полка городок Велиж, бедный и грязный, кучно построенный над Западной Двиной. Комиссариатский магазин оказался полон затхлых круп и муки с заметной примесью песку. Только овес порадовал, но вскоре открыли, что весы, на которых смотритель его отпускает, мошенские, с обвесом в пять фунтов на пуд. Постой для кирасир в городишке и окрестных деревнях был тесный и неудобный. Лучше бы стоять в палатках, чем в этих набитых еврейскими семьями домишках или в еще более нищих крестьянских хатах. Цены на овощи, масло и мясо, которые приходилось закупать для артелей, стояли выше петербургских. Харч был скудный и плохой, а занятия «выправкой» нижних чинов, приемами палашами и строем «пешие по-конному» продолжались ежедневно часов по шести. Только лошадей берегли. Их дородностью и блеском шерсти нужно было щегольнуть перед высшим начальством, а людского тела ведь не видно под казенной обмундировкой.
Наконец 8 сентября выступили к Бешенковичам, на царский смотр всей гвардии. Недельный поход шагом в полной форме – в касках и кирасах – был очень тяжел, стояли редкостно жаркие дни. Смотр прошел хорошо, и на другой день маневр удостоился царского спасибо. А еще через два дня офицеры всего корпуса давали императору обед в нарочно построенной над Двиной галерее. Икру и рыбу, вино и фрукты везли курьерскими тройками. Всем распоряжался молодой генерал Бенкендорф. В галерее сидело две тысячи генералов и офицеров. Гремела музыка, в очередь с ней заливались хоры полковых песенников.
Все надеялись, что тут же объявят поход в Петербург. С обратной дорогой и так выйдет больше чем полугодовая «прогулка». Но через неделю привезли приказ Конной гвардии занять винтер-квартиры в том же Beлиже. Снова начались для кирасир ежедневные пешие учения и один раз в неделю часовая езда сменой, а для артельщиков хлопоты с закупкой овощей, мяса или рыбы, возня с плутом смотрителем магазина. Много тревог и командирам эскадронов: если кирасиры хоть с трудом, а разместятся у обывателей, то как сберечь коней, привыкших в Петербурге к теплым конюшням? Квартирой 2-го дивизиона был назначен сам городок, и ротмистру Пилару повезло – удалось заарендовать пустовавший купеческий амбар, в котором требовалось поправить пол, сделать перегородки и кормушки, прорубить и застеклить окошки. Иванов в переписке и по хозяйству помогал вахмистру, с которым стоял вдвоем в каморке у еврея-сапожника. Хотя инструменты он привез с собой, но возиться здесь со щетками было совершенно негде, так что все лето пенял на судьбу, что ничего не зарабатывает.
Подходил к концу редкостно теплый сентябрь, когда перед строем прочли приказ о производстве трех ефрейторов в унтер-офицеры. Первым в списке стоял Иванов. В этот день после вечерней уборки коней и артельного ужина новый унтер прилег на свой топчан с приятными мыслями о прибавке жалованья, когда в каморку втиснулся Жученков, распространяя запах вина и жареного мяса.
– Вставай, Александра, надевайся почище да ступай к барону, – сказал он, садясь на свое ложе.
– Что ж там стряслось, Петр Гаврилыч? У меня и галунов еще нету, – испуганно сказал Иванов.
– Не бойся, барон знает, что тут не сряду укупишь. Хочет он тебя князю, генералу отставному, предоставить, который сына нам в юнкера привез. По-ихнему еще рано, только отобедали. Барона нашего впервой куликнувшим увидишь. Князь-то с бароновым отцом в одном полку служили, вот и хочет папашину другу угодить. Я с докладом пришел, а барон и спроси: «Кого, вахмистр, дядькой к князю молодому поставим, чтоб службу и обращение знал?» Я тебя и назови. А барон говорит: «Вот, князь, в одно слово с вахмистром», – видно, раньше тебя нахваливал… Ох, стащи сапог проклятый, Александра! Только руки, гляди, отмой да ступай скорей. Колет чистый с крестами вздень… Ну, умаялся, братец, за день с конюшней окаянной!..
Когда Иванов вошел в одну из двух комнат, что занимал барон Пилар у какого-то купца, господа сидели за накрытым столом. Барон в застегнутом на все пуговицы вицмундире и с немного сбитой прической обмахивался платком. Рядом с ним с бокалом в руке улыбался лысоватый круглолицый барин, – видно, старший князь. А за самоваром разливал чай бело-розовый, как девушка, чернобровый тонкий юноша в синем сюртучке.
– Честь имею явиться, ваше высокоблагородие, – переступив порог, доложился Иванов.
– Вот он, князь, самый тот унтер, – сказал барон чуть затрудненным языком и отнесся к Иванову: – Желаю тебе поручать молодого юнкера всему строевому и езде обучивать.
– Рад стараться, ваше высокоблагородие!
– Как тебя звать, кавалер? – спросил старый барин.
– Александр Иванов, ваше сиятельство.
– Тезка твой, – кивнул барин сыну. – А родом откуда?
– Тульской губернии, Епифанского уезда, села Козловка.
– И земляк еще! – рассмеялся князь. – Мы-то, раз Одоевские, то, знать, туляками тоже когда-то были.
– Сего унтера я рекомендую со всей душой, – сказал ротмистр. – Слышал ли, Иванов, как я тебя князьям аттестую?..
– Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие!
– И старайся похвалы оправдать. А пока можешь уходить.
– Позвольте мне, господин барон, его чем-нибудь угостить, – приподнялся юноша.
– Он не пьет вина вовсе, – сказал ротмистр. – Так ли я говорю, Иванов?
– Так точно, ваше высокоблагородие.
– Но можете угостить пироги. И время уже ему спать. Будешь, Иванов, субботами мне про успехи сего юнкера докладывать.
– Слушаюсь, ваше высокоблагородие!
Молодой князь стал сам увязывать в салфетку куски пирога, яблоки, конфеты. Потом, подойдя к Иванову, подал ему да еще погладил по плечу, приговаривая:
– Кушай, братец, на здоровье.
– А салфетку куда ж, ваше сиятельство? – шагнул к ним старый лакей, служивший при столе.
– Оставь, Никита, я хочу ему подарить, пусть на салфетке ест, – отмахнулся молодой князь.
– Ничего, любезный, салфетку твою завтра мой унтер в целости доставит, – сказал ротмистр.
Проходя переднюю, Иванов видел, как денщики и второй княжеский слуга расставляли в соседней комнате складные кровати, – видно, приезжие остановились у барона.
– Ну, не съели тебя? – спросил Жученков, сидевший у двери их домишка, покуривая трубку.
– Такие князья добрые, что не видывал, – ответил Иванов. – Гостинцев молодой надавал. Угощайся, Петр Гаврилыч.
– Ешь сам, братец, меня там таково славно употчевали, что ничего не хочу. Разве вот яблоко схрупать? Да конфетину возьму, мальчонке хозяйскому завтра дать.
Скоро они лежали на топчанах, и Иванов чувствовал давно не испытанную славную тяжесть в желудке – все убрал, что принес.
«Как его учить? – думал он. – Неужто всю школу рекрутскую барчонку вдалбливать? А как непонятлив аль непослушен окажется? Князек, поди, балованный. Тут у барона виноват выйдешь… Опять же, когда учить его? А другое нужное когда делать?»
Назавтра пошел относить салфетку, и князь Иван Сергеевич, так звали отца, кликнув к себе, наказывал, чтобы учил сына со всей строгостью, как простого кирасира. А молодой князь согласно кивал и сказал, что завтра же можно приступить, раз сегодня портной снял с него мерку и к утру обещал пригнать колет и рейтузы.
– Хочу, чтобы первое время все солдатское носил, – пояснил Иван Сергеевич. – Да тут и заказать, пожалуй негде. Пусть в Петербурге у хорошего портного обмундируется, чтобы родню визитировать.
Потом Никита накормил Иванова пирогами и поросенком с кашей и дал с собой уже в бумаге немало хорошей еды, которой тот поделился с Жученковым и с хозяйскими ребятами.
– От таких господ и мне, Александра, видать, польза окажется, – сказал, жуя, вахмистр.
– А когда ж учить его, Петр Гаврилыч? – спросил Иванов. – И так едва успеваю с кирасирами да с письменным делом управляться.
– Само собой, что месяца на два, пока юнкера в ранжир не поставят, надобно тебе льготу давать, – рассудил Жученков.
На другой день вахмистр принес баронов приказ заниматься с юнкером с утра до обеда, а потом сидеть за писаря.
Обмундировка к субботе не поспела, учение началось с понедельника. Утром Иванов приехал на оседланном по всей форме коне на задворки дома, занятого ротмистром. Выглядевший еще тоньше в плотно охватывавшем грудь колете, юноша ждал учителя вполне готовым к уроку. Напоказ ему Иванов медленно расседлал и снова оседлал своего Петушка, приговаривая, что, как и почему надобно делать и что как называется. Повторил все три раза и просил князя делать то же. Юнкер смотрел и слушал, не развлекаясь, повторяя старательно, и нисколько не боялся коня. Потом снимали и надевали уздечку, закладывали в рот Петушку трензель и мундштук. Повторив это несколько раз, перешли к чистке коня. Иванов показал, как работают щеткой и скребницей, хотя и без того шерсть Петушка играла шелковым глянцем. И то же заставил повторить юнкера уже на одной из княжеских упряжных лошадей.
Скоро унтеру стало ясно, что с этим учеником ни одно слово не пропадает даром. Пол дневного урока – два часа прошли незаметно. Об этом сказал князь Иван Сергеевич, заглянувший на задворки. Тут Иванов велел юнкеру на глазах у отца разнуздать Петушка, привязать за чумбур к забору и надеть ему торбу с овсом.
После часового перерыва, когда обоих кормили – юнкера в комнате, а унтера на кухне, – Иванов показывал позитуру и стойку, как делают фрунт и снимают фуражку. Пояснил, что надо делать с руками, ногами, животом, и юнкер все повторял, редко в чем ошибаясь.
В обучении седловке и чистке коня, в без конца повторяемых стойке, поворотах и маршировке прошла неделя. Потом начались уроки езды. Как всем новобранцам, Иванов сначала показал юнкеру требуемую крепость посадки. Сел на Петушка без седла, на одну попону, подложив под колени и локти по прутику, а старый князь погнал коня на корде по кругу. Когда сделал десять кругов рысью, столько же галопом и остановился, все четыре прутика остались на своих местах. Значит, ни колени, ни локти не теряли уставных положений. Вот к чему должен был стремиться юнкер, обучение которого езде также началось без стремян и поводьев. Теперь ему пришлось куда труднее, чем с выправкой, но и тут старался изо всех сил и раз от разу держался на коне уверенней и крепче.
Иванов по своему опыту знал, как болят после первых уроков ноги от бедра до колена, называемые у кавалеристов шлюссами. Но знал также, что для успеха надо повторять все снова и снова, укрепить мускулы непрерывным упражнением. Однако, видя, что от занятий ездой ученик его явно похудел, и услышав, как однажды, садясь на коня, тихонько охнул, унтер сказал в конце урока:
– Может, дадим вашему сиятельству отпуск от езды на недельку? Займемся приемами палашом аль еще чем?
И услышал в ответ:
– А новобранцу, тезка, ты отпуск дал бы? Я хочу все пройти, как мне от солдат требовать придется. А что охнул давеча, то не обращай внимания. Папа тоже тревожится, что плохо сплю, но, право, я уже сильней стал, даже колет в плечах тесноват…
Действительно, не только посадка на коне, но и походка у юнкера стала другая, более мужественная и твердая.
– Ну, Саша, теперь я и ехать могу, – сказал как-то Иван Сергеевич, смотря на сына во время езды уже на седле с ногами в стременах и с поводом в руке, – ты истинно стал на кирасира похож. Жалко от тебя уезжать, но сам знаешь, дела ждут.
Что им не хотелось расставаться, Иванов видел и без слов: все свободное время отец с сыном проводили вместе. О чем-то беседуя, гуляли по окрестностям, читая по вечерам, сидели обязательно рядом, наперерыв угощали друг друга за столом. Отца беспокоило, что сын похудел, и он не раз повторял при Иванове:
– Сам, Сашенька, хотел в Конную гвардию. Потерпи, дальше легче будет.
– Да я, право, здоров, папа, не беспокойтесь, – отвечал юнкер. – Вот и тезка меня хвалит, значит, скоро всему выучусь.
– Уж тезку твоего будем потом благодарить, – улыбался Иван Сергеевич. – Ты пока смотри, чтобы его кормили, вон какой тощий.
В начале ноября старый князь уехал на почтовых, оставив сыну за камердинера и повара Никиту да кучера с коляской и тройкой лошадей. Перед отъездом он переселил сына в один из соседних домов, чтобы не стеснял барона, который, однако, продолжал еженедельно проверять все, чему «дядька» выучил юнкера.
Рекрутскую школу Одоевский усвоил в совершенстве за два с половиной месяца, которые для Иванова были счастливым временем. Такого отношения господ к слугам он еще не видывал. Ни старый, ни молодой князь никогда не повышали голоса на Никиту или кучера, не то чтобы грозить или ударить, что всечасно делали почти все офицеры. От сослуживцев Александр Иванович отличался еще тем, что дома был все время занят – то читал, то играл на гитаре, то писал письма отцу и какому-то родственнику.
– Ты приходи, пожалуйста, тезка, к нам вечерами, – звал он Иванова, – вахмистр говорил, что ему в переписке и счетах помогаешь, так неси ту работу, у нас всегда пописать можно.
Князь говорил это так искренне и радушно, что унтер с бумагами шел вечером на кухню к Никите, который у свечи, по обычаю многих лакеев, вязал на спицах чулки, и подсаживался к столу и проставлял в фуражных ведомостях колонки цифр или строчил списки кирасир. А его утренний ученик, подойдя, смотрел из-за плеча, нет ли ошибок, и спрашивал Никиту, чем угостит тезку.
Через три месяца, в середине января, барон Пилар в присутствии своих субалтернов сделал Одоевскому экзамен и нашел знания его столь полными, что похвалил Иванова. В этот день Никита сготовил парадный обед, на который пожаловал командир эскадрона с офицерами, а после их ухода на кухне пировали вахмистр Жученков, Иванов, Никита и кучер. Когда уже кирасиры собирались уходить, Александр Иванович кликнул унтера и подарил пять золотых десятирублевиков. Как тот ни отнекивался, но сунул в руку.
– То от папа за мою науку, – сказал юнкер, – а от меня – вот что, – и поцеловал «дядьку» в обе щеки. – И хоть учение кончено, но гостем, надеюсь, будешь и дальше… Будешь ведь?
– Кто от хорошего откажется, ваше сиятельство, – ответил Иванов.
Он продолжал вечерами заходить в княжескую кухню, где предлагал Никите сделать что-нибудь по хозяйству и, слушая его, узнавал все новое о чудной семье князей Одоевских. Выходило, что и в московском доме никто не бил прислугу, не кричал на нее. Никита, который долго состоял лакеем Ивана Сергеевича и сызмальства при молодом князе, помнил еще деда нынешнего юнкера.
– Вот лютой был! – вспоминал камердинер. – Чуть что – в плети, в колодки, а девке косу долой – и в скотницы. Верно, от него сынок такую противность к тиранству получили.
Иногда Александр Иванович звал унтера в свою комнату и расспрашивал о походах, сражениях и Париже, про петербургскую службу, про тех кирасир, которых видел ежедневно на учениях.
«Рассказать ему про Вейсмана? – думал Иванов. – Чтоб знал, какие звери бывают. Или про семеновцев?.. Да нет, пускай сам узнает… Зачем раньше времени такого печалить».
Ближе к весне у молодого князя завелся приятель, как и он только что начавший службу, юнкер 4-го эскадрона Александр Ефимович Ринкевич, статный веселый барчук, сын вятского губернатора и состоятельного помещика. Он бойко болтал по-французски и пел приятным голосом. Молодые люди сходились вечерами, чтобы посмеяться, вспомнить родных и долбить данное ротмистром «Наставление», написанное генералом Уваровым, которое полагалось знать наравне с уставами. Оно состояло из четырех глав: о выездке, уходе за лошадью, езде и владении оружием, занимавших пятьдесят страниц убористого писарского почерка. Часто, сидя на кухне, занятый в помощь Никите растиранием в ступке сахара или чисткой медной посуды, Иванов слышал, как Ринкевич спрашивает:
– Ну, отвечайте, князь, как надлежит обнажать палаш?
И Одоевский отвечал без запинки:
– «Вынимать палаш надлежит в три темпа. Перенося правую руку через левую, схватить рукоять и вынуть на полторы ладони…»
– Э, вы все знаете. А теперь из другой главы вы меня.
– Ну, как должно сидеть верхом? – спрашивал уже Одоевский.
– «Сидя верхом, должно иметь вид мужественный и важный, держать себя прямо, сколько можно развязней и без малейшего принуждения…» – тараторил Ринкевич. – Уф! Довольно! Прикажите подать хоть чаю, раз Никита другой влаги нам не подносит.
Последние слова относились к тому, что, ссылаясь на приказ старого князя, Никита отказывался по будням подавать юнкерам вино. Зато когда Александр Иванович уходил вечером к Ринкевичу и немного там выпивал, то, возвратясь, изображал опьяневшего и требовал, чтобы Никита его раздевал и укутывал одеялом.
– Ох, не доведет нас до добра Александр Ефимыч! – вздыхал Никита. – Хоть бы фортепьяна была, то Сашенька больше б дома сидел. Пойду по городу слухать, авось сыщу какую.
И нашел напрокат в каком-то чиновничьем доме фортепьяно, которое Иванов с тремя кирасирами перенес в дом, снятый князем. Александр Иванович сначала говорил, морщась, что играть на нем нельзя – так расстроено от треньканья чиновницы. Но Никита и тут не уступил – разыскал молодого еврея, который полдня тянул так и сяк струны каким-то ключом, а после этого князь сел и заиграл такое певучее и задушевное, отчего Иванову на кухне разом дух перехватило, и даже Никита опустил на колени свой чулок.
Зима в том году проходила почти без морозов, но с такими метелями, что по утрам тропки к конюшням разгребали целыми взводами. Сбежал снег, просохли дороги. В полку только и говорили, что про обратный поход. Петербург казался землей обетованной не только офицерам, но и кирасирам.
– Ладно, – ворчал вахмистр Жученков, – ужо как во столичный караул раз-другой сходят, то и Велиж добром помянут…
Приказом от 1 мая князь Одоевский и Ринкевич были произведены в эстандарт-юнкера – еще на ступеньку ближе к офицерскому чину. Тут даже Никита не поскупился – выставил к парадному ужину полдюжины бутылок. Приглашенные, все тоже юнкера – князь Долгоруков, Лужин, граф Комаровский и, конечно, Ринкевич, – шумно и весело провели вечер. Едва они ушли, как хозяин заснул за столом так крепко, что Никита с Ивановым раздевали словно бесчувственного. А назавтра праздновали у Ринкевича, и князь остался там ночевать.








