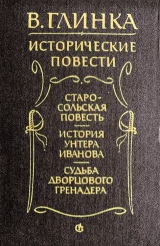
Текст книги "История унтера Иванова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
– Здравия желаю, ваше превосходительство! – вытянулся у двери Иванов.
– Здравствуй, приятель, – отозвался генерал, снимая очки.
Он кивнул Красовскому на стул, тот присел неглубоко и, указав на ефрейтора, заговорил:
– Вот, Семен Христофорыч, молодец, про которого вам третьего дня докладывал, Александром Ивановым звать. Он самый задумал сродственникам помощь оказать, и по мне похоже, что дело ему по плечу, – парень упрямый, и gutta cavat lapidem [39]39
Капля долбит и камень (лат.).
[Закрыть]. Но в эскадроне на сто честных всегда один вор может сыскаться. Occasio facit furem [40]40
Вором делает случай (лат.).
[Закрыть], то бишь, – плохо не клади, вора в грех не вводи. А потому просьба всепокорная, как мои рубли в бюре держали, так и ему дозвольте вам, что заработает, носить. – Красовский перевел дух, откашлялся в кулак и продолжал: – И второе. Хотя до того годы пройдут, но не грех заране подумать. Ежели накопит он столько, что занадобится помещику отписать насчет выкупа отца с матерью, то как солдату за то взяться? А ежели столичный генерал барину письмо пошлет, то вовсе иное дело. Небось ответит живо да подумает: «А вдруг генерал тот к царю самому вхожий…» Так ли я говорю, Иваныч?
– Так точно, Александр Герасимыч, – отозвался ефрейтор.
– Все понял, – наклонил голову Ставраков. – Можешь сюда приходить, в присутствие, а то вечером на квартиру, в Михайловский замок. Со двора зайдешь, там всякий укажет. А еще Красовский сказывал, что ремесло какое-то знаешь?
– Щетки всякие делаю, ваше превосходительство.
– Ну, так сделай платяных десяток да через месяц, когда из Москвы вернусь, принеси, я их лекарям здешним рекомендую.
– Покорно благодарю, ваше превосходительство!
Ставраков вздел опять очки и взялся было за перо, но тут же положил его и ткнул пальцем в бумагу на столе.
– Нонче утром дежурный по гошпиталю лекарь рапорт принес, – сказал он. – Помер вечером арестант, что за побег осужден, вашего полка кирасир. Знавали его?
– Алевчук? – спросил Красовский. – Неужто тут помирал?
– Да, Алевчук Василий, от роду тридцать лет, – подтвердил генерал, глянув в рапорт. – Здесь и арестантский барак есть, для подследственных. А его после приговора в тюрьму не перевели, совсем плох оказался. Ну, коли знали, то сходите в мертвецкую, там и поп рядом живет, можно панихиду отпеть, всё однополчане.
– Мы вчерась тут горланили да плясали, – огорченно тряс головой Красовский, когда шли к часовне, – а он в ста шагах от нашего игрища, может быть гогот наш слыша, последним вздохом хрипел… Невредимым поход до Парижа прошел, чтобы сгинуть вот где…
В темноватой мертвецкой на полу стояли в ряд четыре некрашеных гроба. Около одного на полу сидела понурая баба с таким же бескровным, застывшим лицом, как то, на которое неотрывно смотрела, откинув с него холстину покрова. Красовский по очереди открывал лица остальным. С трудом, более по высокому росту, узнали Алевчука, которого помнили по Лебедяни веселым зубоскалом. Плоское тело утонуло в широком гробу. Обросшее щетиной серое лицо с синими запавшими веками казалось никогда не виденным. Но припухлость под левым глазом и сейчас почудилась Иванову. Постояли, перекрестились, закрыли холстину.
Панихиду отслужить не удалось, – поп ушел в город.
– Умер арестантом, aqua et igni interdictus [41]41
Лишенный воды и огня (лат.), то есть поставленный вне закона.
[Закрыть],– сказал Красовский, выйдя на двор. – А гробы одинаковые, что у него, что у верных сынов отечества. Солдат с арестантом по одному разряду. Впрочем, вспомним поэта: «Надежней гроба дома нет, богатым он отверст и бедным, и царь и раб в него придет…» Так пойдем, тезка, выпьем за упокой его души вчерашних остатков.
Зашли в канцелярию, где Никандр укладывал в корзины для отправки в замок канделябры и посуду. Выпили, закусили и расстались.
Шагая в казармы, Иванов думал в сотый раз: «Понятно – знал, что, когда в полк вернется, опять в чахотку его вгонят. Но зачем, зачем за моими деньгами полез?.. А тут я его…»
Через неделю Красовский пришел проститься – получил назначение на Беловодские конные заводы в Харьковской губернии.
– Первый раз за себя ходатайства у генерала просил, – сказал он Иванову. – Больно неохота в полк ехать, людей фрунтом калечить. Хоть самому не бить, да смотреть, как бьют.
– А что же в городничие или смотрители лазаретные не просились? – удивился Иванов.
– Какой из меня, брат, городничий? – усмехнулся Красовский. – Разве что мордой обывателей стращал бы. Qualis vita, finis ita [42]42
Какова жизнь – таков и конец (лат.).
[Закрыть]– как жил до сих пор, так и кончать надобно… Что поп, что городничий – одного поля ягода, с народа соки сосут. Да не просто и место городническое получить. Насчет же смотрителя, то, поговоривши с Семеном Христофорычем, сам от сего отказался. По чину малому могу идти только в помощники, а при хороших начальниках места такого сейчас нету. Обещает генерал что-нибудь схлопотать, если на заводе не уживусь. Так буду пока коней под генеральское седло выезжать да молодняк готовить без такой муки, как в Лебедяни видел… А ты к генералу наведывайся. У него чужим деньгам счет самый прочный. Сейчас в бумажку увернет как-то ловко да к своему завещанию с надписью: столько-то рублей солдата такого-то.
– Вы все у него жили? Ничего, что в отъезде?
– В его квартире ночевал, а у полковника Пашкова дневал, пение и музыку слушал.
– Приехали они? Благополучны? Барыня здорова ли?
– Здоровы оба. Уезжают завтра в Италию. Папенька да тетенька ничего не дали, а набрали снова с управителя своего сколько могли. Вот люди будто добрые, никогда слугу пальцем не тронут, а от супруга Дашиного спасаясь, мужиков полковник своих преспокойно ad bestias [43]43
Зверям на съедение (лат.).
[Закрыть]– управителю оставляет, который, всяк разумеет, яко сто пьявиц, кровь их сосет. Высказал обоим все сие намедни под горячую руку bona fide [44]44
От чистого сердца (лат.).
[Закрыть], по совести.
– А они?
– Он посмеялся, а она растревожилась, сказала: «Я и сама все то же думаю…» Даже ее пожалел.
9
Служба и щеточная работа шли своим чередом, хотя ремесло в зимние месяцы не так спорилось, несмотря что завел собственный фонарь со свечкой. Ротмистра Пилара утвердили командиром эскадрона, после чего стал разве малость поосанистей и построже. Добряка и повышением не испортишь. Однако всем кирасирам приказал выучить полностью свое имя, отчество и фамилию, чем доставил немалые труды.
– Кто твой командир эскадрона?
– Его высокоблагородие господин ротмистр и кавалер барон Фердинанд Фердинандович Пилар фон Пильхау…
Прошли рождественские праздники с долгими службами в холодной церкви, после которых с трудом согревались в скудно топленных казармах. Прошел и крещенский парад, на котором ознобило ноги много конногвардейцев, хотя стремена были обернуты сукном. Морозу было 10 градусов, и три часа стояли на Дворцовой площади в кожаных касках, колетах, лосинах, тесных ботфортах, пока шел молебен в дворцовом соборе и крестный ход для водосвятия на Неве. А потом еще царь объезжал войска, и мимо него шли церемониальным маршем. Кто застудил горло или грудь, грелись в казармах водкой и салом, замерзшие ноги оттирали снегом, да не всем помогло – из третьего эскадрона двоих отвели в лазарет.
И все же самой тяжелой из строевых обязанностей был внутренний караул в Зимнем дворце, который несли в парадной форме в очередь с кавалергардами. Каждому кирасиру приходилось ходить в него раз в месяц, но этих суток ждали как страдания, несмотря что государь редко жил в Петербурге, караул проходил спокойно и стояли в светлых, хорошо отопленных залах. Еще когда шли во дворец, стараясь, как заводные куклы, не гнуть ноги в коленях, то исподволь посмеивались над собой. А на постах, в полной неподвижности, все тело тяжко маялось от застоя крови. Когда приходила смена и, сойдя с поста, отстоявшие два часа часовые возвращались в тот зал, где имели право сидеть на банкетках, то чуть не падали от изнеможения и боли в онемевших суставах. Недаром после этого караула, проводимого вовсе без сна, полагался полный суточный отдых.
В январе пришла перемена в начальстве – перевели из полка генерала Арсеньева. В приказе по гвардейскому корпусу значилось, что назначается командовать драгунской дивизией под Москвой. Все офицеры понимали, и разговоры их доходили до кирасир, что это царская немилость. Доконали генерала недруги, раз не захотел угождать первым мастерам строевого искусства – братьям императора, юным Николаю и Михаилу, которые пороху не нюхали, а теперь играли в живых солдатиков на плацах и манежах. Ну ладно, не угодил, так дали бы хоть бригаду армейских кирасир, а то более двадцати лет служил в Конной гвардии, в знаменитых боях ею командовал – и ступай в какие-то драгуны!..
Разом постаревший, натужно кашлявший генерал еще месяц сидел в своем кабинете за канцелярией, сдавая полк царскому любимцу полковнику Орлову, ладно хоть коренному однополчанину. По конюшням, цейхгаузам и эскадронным помещениям генерал под предлогом болезни избегал ходить, Орлов с полковым адъютантом оглядывал все только мельком, для порядка приемки. Он-то знал, что Арсеньев все, что мог, делал для полка и копейки с него не нажил.
Десятого февраля выстроили в манеже все эскадроны, и генерал в драгунском уже, схожем с пехотным, зеленом мундире вышел прощаться с полком. Увидев его, похудевшего, ссутулившегося, услышав знакомый голос, которым хрипло выкрикнул, чтобы простили, кому чем досадил по службе, но помнили, как их любил, многие старослужащие зафыкали носами, а сам генерал, оглядевши строй родных ему белых колетов, махнул рукой и, не досказав выученной накануне речи, почти побежал из манежа.
Съехав с квартиры при полку, Арсеньев поселился в Галерной. Вскоре при встречах с его слугами конногвардейцы узнали, что прихворнул, но всяк думал, что, может, тянет время, не хочет отправляться к драгунам. Через два месяца стало известно, что, должно быть рассерженный таким упрямством, государь назначил генерала состоять по кавалерии, то есть оставил без места, на половинном жалованье. Наконец дошли слухи, что квартиру на Галерной сдают – Арсеньев отъехал в свою пензенскую деревню.
В марте Елизаров предложил вновь хлопотать Иванова в ремонтерскую команду, но ефрейтор отказался. Сейчас в эскадроне он жил без обиды, а ехать – значило четыре месяца не делать щеток. Уж раз поставил такую цель, то надо светлые месяцы не разгибаться. Всю зиму Иванов готовил товар на полковой спрос. То один, то другой офицер, вахмистр, писарь заказывали головные, платяные, сапожные щетки. За это время закрепил науку старого Еремина, кое-что постиг и сам, всматриваясь в форму, отделку, подбор волоса в чужих изделиях. Но к весне полковой спрос был исчерпан, и денег накопил всего двадцать рублей. Не время ли сходить к Ставракову, отнести его заказ?
Квартиру генерала с окнами на Фонтанку нашел без труда. Никандр сказал, что Семен Христофорыч не так здоров, и пошел доложить. Вскоре ефрейтор был введен в покоец, где за ширмами виднелась постель, а у бюро сидел хозяин в очках и с пером в руке, как в прошлый раз, но в ватном халате и осунувшийся лицом.
– Простыл, братец, в дороге, – сказал генерал. – Должность моя разгонная, так стараюсь больше по зимней дороге, на санях, бокам куда легче. Ездил недавно в Ригу, и продуло где-то… Ну, принес, что ли, показать труды свои? – Он кивнул на сверток, который Иванов держал под мышкой.
Рассмотрев принесенные щетки, Ставраков велел оставить всю дюжину. Спросил, почем надо за них брать, и тут же вместо полтинника отсчитал за каждую по семь гривен.
– Еще Александр Герасимыч просил, чтоб деньги твои у себя берег, – вспомнил генерал.
И тут сделал все, как говорил Красовский: взял лист бумаги, ловко свернул из него «карманчик», надписал имя и сумму – 28 рублей 40 копеек, цену щеток вместе с принесенными Ивановым на сохранение, – ссыпал туда деньги и наконец спрятал под ключ в бюро. А потом приказал Никандру накормить Иванова, так что тот ушел из замка веселый и с полным брюхом.
Теперь предстояло искать постоянное место для сбыта своего товара. Еремин говорил, что, живучи в Петербурге, сдавал щетки знакомым купцам. Но ведь если самому на рынок носить, все деньги тебе останутся без вычета купцу. Однако дело непривычное – самому цену называть, торговаться.
Жученков, которому рассказал свои сомнения, посоветовал сходить на Васильевский остров, где перед биржей как раз с весны, когда начинают приходить иностранные корабли, толчется много приезжих матросов и всяких торговых господ. Совет показался дельным, и утром ближнего воскресенья Иванов двинулся в путь, увязав в платок десяток головных и платяных щеток.
Только раз побывал он на этом рынке первой осенью после войны, отпущенный с другими молодыми кирасирами поглядеть незнакомую столицу. В памяти осталась полукруглая площадь с лужами, между которыми под мелким дождем несколько торговок, накрывшись рогожами, продавали диковинных рыб.
Сегодня все было иначе. Когда переходил наплавной Исаакиевский мост, солнце горело на синей воде, по ней бежали ялики, шлюпки. По-воскресному приодетый народ больше сворачивал в одну с ним сторону, и, когда обогнул последний дом набережной, открылось кишевшее людьми пространство между двумя красными башнями.
Оттягивая начало своей торговли, ефрейтор пошел вдоль гранитного парапета, притулившись к которому народ глазел на реку. Сыскал свободное место и тоже пристроился. Поблизости стояли два небольших корабля с похожими на русские красно-бело-синими флагами. Смоленые корпуса весело играли светом от дрожавшей под ними воды. Босые матросы в пестрых фуфайках таскали к борту мешки, спускали их в шлюпки с белыми, будто только окрашенными веслами, с которых, искрясь, стекала вода. А на сведенной к самой воде мощеной дорожке уже русские грузчики подхватывали мешки, укладывали на телеги и гнали коней в горку, покрикивая на зевак:
– Поберегись! Пади!..
– Первыми в нонешнем году голландцы пришли, – сказал кто-то рядом, и, повернувшись, Иванов увидел старика в заношенной ливрее и волчьей шапке. Лицо морщинистое, добродушное. – Сказывают, самы первые наши гости голландцы при Петре Великом были, – продолжал он. Потом осведомился: – Ты чего, кавалер, сюда? Купить, продать аль, как я, поглазеть от бедности?
– Щетки продать принес, – ответил ефрейтор и, достав из узла, показал образец своего умения.
– На совесть сделано, – одобрил старик. – Однако красы в работе нету. Крышку бы покруче изогнуть да углы скруглить. Сюда, друг любезный, товар такой носят, чтоб иностранца или нашего негоцианта богатого завлек.
– Неужто не пойдет? – огорчился ефрейтор. – Ведь и прошу не дорого.
– Не в цене сила, милок, – покачал головой старик. – А сделай ты, к примеру, на них рисунок памятный, петербургский, так тебе в два раза боле дадут и торговаться не станут.
– Как же сделать его?
– Хоть вырежь одное слово «Санкт-Петербург». Иль памятник Петру изобрази. Видал на табакерках? Ты грамотный?
– Буквы знаю, а писать не обучен.
– Ну, не печалься, может, и так сбудешь, – скороговоркой сказал старик, увидев кого-то в толпе, и отошел от Иванова.
«Что ж стоять, надо пробовать», – решил ефрейтор.
Не раз прошелся он в толпе, крепко прижав к боку пружинящий сверток и выставив в руке образец своего умения, но не решаясь выхвалять его, как делали другие разносчики. Впрочем, не бойко шла торговля у всех русских ремесленников, – здесь покупатели больше тянулись к заморским диковинам. Густая толпа окружила двух голландцев, ставших спиной к гранитному парапету, разложив перед собой товары.
– Загромоздили дорогу, мордастые! И чего хожалый смотрит? – брюзжал около Иванова тощий чиновник, несмотря на воскресенье со связкой бумаг под мышкой. – Навезут нечисти, а дуракам и любо!
От таких слов ефрейтор протолкался к голландцам. На смоленом брезенте высились пачки сухих табачных листьев, блестели длинные белые клыки, густо розовели нанизанные на шнурки рогатые колючки, отливали радугой большие раковины. А рядом на сухом сучке скалило мелкие зубы чучело большой синеватой змеи.
Продавцы в широких плисовых штанах, красных куртках и лакированных черных шляпах по-своему выкрикивали товар, тыча в него пальцами. Но среди иностранных слов ясно звучало: «рубль» и «полтинник».
Иванов постоял и снова пошел по рынку, уже заставляя себя повторять нараспев:
– Щетки щетинные, заказные, господские…
Но, видно, не было в нем нужной развязности – никто даже не взглянул на его товар. Уже отзвонили к поздней обедне на князь Владимире, когда надумал занять освободившееся место на нижней ступеньке биржевой лестницы. Тут рядом с седым квасником и застыл ефрейтор, выставляя напоказ свой товар. Два покупателя остановились, осмотрели щетки. Но, услышав цену – по сорок копеек серебром, – отходили. А Иванов знал теперь, что в Гостином за такие берут по полтиннику. Потом пожилой барин в плаще на атласной подкладке дал семьдесят пять за пару и нудно выговорил, что кавалеру надо сыскать разносчика, а то будто казна солдат не кормит.
Чувствуя усталость и досаду, решил уйти. Видно, и правда надо кому-то поручать продавать, раз такой неумелый. Но ему, значит, и часть выручки отдай… А жалко, что толком не расспросил старика, как лучше украсить поделки.
Уже на набережной впереди мелькнула волчья шапка.
– Эй, почтенный! – окликнул ефрейтор и, когда старик остановился, продолжал, подойдя вплотную: – Вот давеча ты про надпись говорил. Так показал бы, к примеру, как оно быть должно, а я тебя тут же отблагодарю.
– Ай не пошел товар? – Старик указал на узел Иванова и при этом дохнул водкой, чего давеча не замечалось. Глазки его теперь весело блестели, и под носом налипла добрая щепоть табаку. – И рад бы услужить, да недосуг, ей-богу…
– Сколько захочешь, столько и дам, – заверил ефрейтор.
– Экий богач! – толкнул его под бок дворовый. – Да не в алтыне дело, а послал барин с поручением, возврата моего ждет, я ж опозднился сильно – на корабли поглазел, приятеля встретил, угостились малость… Однако иди за мной. – И он, круто свернув, спустился по гранитной лестнице на пристань, от которой через Неву ходил перевоз.
Здесь за ветром было совсем тепло. Несколько яличников приглашали народ в свои ярко окрашенные лодочки.
– Дашь семитку на переправу, так на мост не пойду и дело твое сделаю. – Дворовый, сняв шапку, сунул ее под зад и сел на гранитную ступеньку. – Где щетка твоя? – А сам достал из кармана карандаш и листок бумаги, который разгладил на колене.
Иванов сел рядом и подал щетку. Старик положил бумагу на ее крышку, обмял по краям и прищурил один глаз.
– Вот хоть, к примеру, обозначим год от рождества Христова, – сказал он и замечательно красиво, как показалось Иванову, начертил посреди бумажки в длину четыре цифры: 1–8−1−9. Посмотрел, откинув голову, и накрепко обвел послюненным карандашом, где удвоив, где оставив одну первоначальную линию. – Вот набей медных гвоздиков, где в два ряда, где в один, и готово – они и под воском будто золотые заблестят. А в углах давай узорики пустим вроде лука со стрелой… – Он изобразил полукруги, пересеченные посередине прямой. Перевернул бумагу, снова обмял ее. – Второй рисунок потрудней будет, но выучи, раз буквы знаешь. – И стал выводить во всю длину бумажки: «St-Petersburg». – Это, братец, нашего города имя на французский манер. – Опять обмусоленный карандаш уверенными нажимами дорисовал надпись вчистую.
– Красиво, почтенный, пишешь! – восхищенно сказал Иванов.
– Пустое! – отозвался старик, но и сам, видно, был доволен. – То ль я делывал! Какие транспаранты для фейверков сочинял, с аллегориями да с девизами!.. – Он протянул Иванову щетку и бумажку. – На первый раз и довольно. По-русски коли захочешь надписывать, то любой писарь за гривенник сочинит. Однако за товар, с иностранным схожий, всяк больше платит.
– Ученость у вас большая, – почтительно сказал ефрейтор и полез в карман.
– Наук мной много превзойдено, – согласился дворовый. – Двух барчат при мне учили, так я ихние все уроки запомнил: мифологию и грамматику, натуральную и простую историю. Только, вишь, выше лакея не вздынулся. Ты какого звания до службы?
– Крепостной.
– Вот и я Кондрат из тех же палат. – Дворовый встал со ступеньки и вдруг насупился: – Ты, видно, воевать и работать горазд, я учиться был охоч и господам на совесть служил, а все нам жизни, окроме собачьей, не видать. – Он достал деревянную табакерку и нюхнул с сердцем большую щепоть. Весь сморщился, скривился, лицо собралось в сотни складочек, глаза подернулись слезой. Отпихнул поднесенный двугривенный и сказал: – Не след тебе на рынок ходить. Совестливый разве продаст с барышом?.. Да уйди ты с деньгами! – топнул он ногой. – Сказал, давай алтын на перевоз. – Старик покосился на подходивший к пристани ялик и закончил вопросом: – А на что тебе деньги? В артель внесть? Аль женатый?
– Холостой. В артель давно все отдано…
– Так начальнику злому дарить надобно? Я службу вашу проклятую знаю, у самого племянник гвардии унтер заслуженный.
– Нет, начальство у меня нонче божеское…
– На отставку скопить вздумал? Не заколотят, надеешься? – настойчиво сыпал старик.
– «Сказать ему?»– подумал Иванов.
– Отца с матерью у барина выкупить хочу, – понизил он голос.
Дворовый свистнул негромко, но выразительно:
– Эка задумал!.. Ну, давай бог!.. Однако водку-то пьешь?
– В рот не беру.
– За то молодец! – Старик нежданно чмокнул Иванова в щеку и устремился к ялику, из которого уже вышли пассажиры.
– Стой, почтенный, возьми за труды! – просил Иванов, идя следом и протягивая уже два двугривенных.
Но старик проворно сел на дальнюю скамейку и, снова радостно улыбаясь, оглядывал сверкавшую на солнце реку.
– Возьми хоть на шкалик, – тянулся к нему Иванов.
– Позволь, кавалер, – отстранил ефрейтора рослый купец.
Лодочник шагнул за купцом и оттолкнулся от пристани.
– Гвоздики медные в шорной купи да перво на досочке попробуй, не то вещь готовую спортишь! – повысил голос старик.
В полк Иванов пришел такой веселый, что встреченный кирасир Панюта спросил, не сто ли рублей поднял на дороге.
– Хорошего человека встретил, – ответил ефрейтор.
– Угостил, что ли? Так ты ж как турок!..
А Жученков, которому рассказал о встрече, заметил:
– Видать, понимающий дед. Пьян да умен – два угодья в нем.
Иванов исполнил совет – купил фунт мелких медных гвоздей и, копируя с бумажки, отделал все готовые щетки. Через две недели он снова пошел к бирже, надеясь встретить старика, поблагодарить хоть словом, но, сколько ни смотрел в толпе, не увидел. А щетки все продал за два часа. Блестящие надписи ровно чудо сделали – всяк платил, не торгуясь, по шесть гривен.
«Не спросил я, как барина его прозывают. Верно, богатый, раз фейверки пущали, – думал ефрейтор, глядя за реку на особняки Дворцовой набережной. – И как же занятно выходит: когда на верстаке у Еремина из гвоздиков буквы выкладывал, он на меня серчал, наказывал единой прочности достигать. А ноне умник теми же гвоздиками меня умудрил…»
На руках у Иванова оказалось десять с полтиной, полку скоро выступать «на траву», и он решил сходить к генералу сдать деньги, – в лагере всего трудней их прятать. И зараз поднесть пару щеток с новым украшением.
Как часто бывает в Петербурге, в середине мая вдруг задули холодные ветры и пошли дожди. Опытные горожане, не снявшие еще ватных шинелей и салопов, злорадно поглядывали на щеголей и модниц, дрожавших в обновленных вчера легких плащах, рединготах и пелеринах.
Отпущенного из полка после обедни Иванова крепко прохватывало ветром с Невы, когда шел по Мойке и Фонтанке. Прибавил шагу, думая о теплой кухне, где к тому же, наверное, сытно покормят. Когда свернул к воротам замка, увидел, что мостовая впереди густо застлана соломой.
«Неужто болен? – встревожился Иванов. – Да нет, тут много чиновных господ проживает…»
В кухне, куда вошел из сеней, было тихо и холодно, печь сегодня не топилась. Под окошком сидел старый повар. Он молча смотрел на ефрейтора, пока прикрывал за собой дверь, снимал фуражку и крестился на образа. Потом сказал тихо:
– Преставился наш генерал, – и слезы побежали по щекам в седой щетине. – Преставился наш отец Семен Христофорыч…
– Да как же? С чего же? Когда? – спросил Иванов.
– Нонче на зорьке, – отвечал повар. – Только одевать кончили. Братец ихний в ночь прискакали, последний вздох приняли.
– Да ведь не старые были…
– Всё со службы. Во Псков ездили, смотритель там заворовался. Никандра сказывал, на солнышке припекало, они в коляске сертук расстенули. Вот и обдуло. Да ты садись, служба…
– Нет, что же, я пойду, – сказал Иванов.
– Садись, от нас не евши никто не уходит.
– Кусок в горло не пойдет, дядя.
– Ну, как хошь. А то и я б с тобой поел. Вторые сутки крошки во рту не бывало. Никандру давеча за стол звал – не могет, плачет. Ивану Христофорычу только чай пустой подавали. А с третьего дни щи стоят добрые. Право, поедим-кось. Ноги вовсе не идут, а к поминкам стряпать надобно. Генерал завсегда наказывали, чтоб всякое звание ежели зайдет, то кормить досыта…
Повар опять заплакал и пошел к печке.
Через три дня Иванов шагал в хвосте процессии, медленно тянувшейся на Волково кладбище. Ефрейтору удалось сообщить в Стрельну, и сегодня рядом с ним шагали пять конногвардейцев, что пировали в госпитальном флигеле полгода назад. Похороны были парадные. Впереди несли восемь подушек с орденами, кисти траурного катафалка поддерживали офицеры с черным крепом на эфесах шпаг. За гробом, окружив Ивана Христофорыча, шла целая толпа генералов – товарищей и сослуживцев покойного, за ними сотни две офицеров, лекарей и фельдшеров. Потом вели под траурной попоной коня, маршировал оркестр перед батальоном пехоты с опущенными в землю ружьями. Наконец, брели седые инвалиды, в толпу которых затесались шесть белых колетов, ехали кареты богатых господ да по дороге пристали еще десятка три извозчиков, сообразивших, что на дальней дороге многие старики устанут и будут рядиться до кладбища.
– Чисто воинские похороны! Ни одной барыни, – заметил Елизаров, когда после салюта над могилой толпа стала расходиться.
– Еще суворовского орлика схоронили, – сказал, ковыляя перед гвардейцами, седой офицер в порыжелой шляпе.
– В нонешней службе тем орликам крылья подрезаны. Молодые манежные петухи ноне поют, – буркнул его спутник.
– Каков-таков возраст – пятьдесят шесть годов? – шамкал третий офицер, на деревянной ноге.
– Братцу немного очистится, – слышалось с другой стороны.
– Именья-то, говорят, всего десять дворов в Полтавской.
– Из греков, Ставраки отца звали, поручик в отставке был…
– Народ торговый, как же не нажил ничего?..
А Иванов думал: «Вот Красовский опечалится, когда узнает… И мне как не везет!.. Да что я! Неужто же манежные петухи боевых генералов осилят? Кого в отставку, кого на погост…»
На другой день в эскадрон пришел старый Никандр.
– Велел полковник тебе явиться, – сказал он Иванову. – Коли есть приятель, кому отлучиться можно, зови с собой. Со вчерашнего хорошая еда оставши, хоть сорок человек поминали.
Жученков отпустил ефрейтора, но сам идти отказался.
– Каб я на похоронах был – иное дело, – сказал он.
Теперь за бюро генерала сидел Иван Христофорыч.
– Получи, кавалер, – сказал он, протягивая знакомый бумажный «кошелек». – Я брата застал едва, а все не забыл он твое сбережение и на какое-то доброе дело червонец прибавил.
Иванов почувствовал, как перехватило горло.
– Таков всегда был, – продолжал полковник. – Меня из деревни шестилетком взял и в люди вывел, хотя сам тогда молод был, жил недостаточно. Копейкой солдатской одной не поживился…
На кухне за вчерашней кутьей и блинами Иванов услышал, что вся обстановка здесь казенная, дворцовая, а генералово имущество уже почти уложили в три сундука. Узнал еще, что Никандра и повара Иван Христофорыч увозит с собой в Москву.
Летом, когда лошади были «на траве», а люди квартировали около них по деревням вокруг Стрельны, Иванову не удавалось заниматься своим ремеслом. В тесной избе где сыщешь угол, чтобы разбирать и вязать щетину, клеить и полировать крышки, держать запас материала? Вспомнив рассказ Елизарова, начал вырезать деревянные ложки. Всего и надо, думал поначалу, липовые болванки, ножик да брусок, его точить. Потом стал выглаживать ложки куском битой бутылки. Наконец, понадобилось покрывать их лаком. И все-таки одну-две делал почти каждый день. Шли они по копейке, так что самое малое гривенник набегал за неделю. Деньги носил в новом чересе, пока вовсе не тяжелом, – там лежало всего полсотни рублей.
Когда после маневров возвратились в город и кирасиры разошлись на вольные работы, Иванов так налег на щетки, что к вечеру шею и спину ломило, будто от дворцового караула. Зато в полтора месяца сделал пятьдесят щеток. Чтобы самому не торговать, сговорился с купцом в Апраксином дворе, что будет носить в его лавку и получать сорок копеек за штуку. Быстро прошли две партии по двадцать штук, но, когда принес третью, купец сказал, что щеток у него в избытке и согласен брать только по тридцать копеек. Этак было совсем невыгодно – материала на каждую шло копеек на двенадцать. Взялся опять за ложки, которые охотно продавал сын Жученковой кумы, разбитной паренек, с уговором, чтобы каждая пятая шла ему.
До весны 1820 года Иванов занимался то ложками, то щетками и все время думал, что мало зарабатывает. Прошло полтора года, как принял решение, а накопил всего семьдесят рублей. Совсем было решился учиться шорному делу, благо в полку своя седельная и туда в науку иди, пожалуйста. Но мастера сказали, что два года положено работать на них, а уж потом начнешь получать деньги. Нет, это больно долго. Да толкуют еще, что шорников в городе и так много. Несколько кирасир варили ваксу – дело нехитрое: сажа, воск да сахару, кажись, малость. Но все варщики семейные, у ихних жен свои печи, а где ему в эскадроне?
Дни пробегали в долгих строевых учениях и манежной езде, в караулах, уборке и чистке лошадей, которых раз в неделю проезжали шагом и малой рысью. А свободные от службы часы сгибался на своем мастерстве. Иванов вошел в число кирасир, которые всегда были заняты. Днем он старался думать только о том, что делал, – так спорее идет и на душе спокойней, – а вот вечерами, когда уже лег на нары, когда кругом слышится храп соседей, было некуда деваться от мыслей, чаще горьких и печальных. Ну, удастся накопить несколько сот рублей, найдется, положим, честный барин, согласится купить на себя и отпустить на волю, – так ведь знать надо Ивана-то Евплыча! Как почует, что деньгами пахнет, так и заломит за двух стариков невесть какую дороговизну… Ну, а выкупил их, так что ж остальные, тот же Мишка? Их оставить на расправу Кочетку? А если Мишку с родителями удастся выкупить, то как брат Сергей и сестра Домна с детьми?.. Сколько душ всего, даже не спросил. Никак больше десяти. Разве на стольких наработаешь щетками да ложками… Так что же, не гнуть спину? А чем жить тогда? Мечтами про домик и торговлю?.. Нет, не лежит душа к такому.








