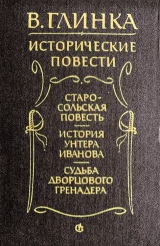
Текст книги "История унтера Иванова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
13
Утром 6 ноября Иванов заступил в наряд разводящим внутреннего караула в Зимнем дворце. День выдался самый будничный, государь был простужен, и потому к разводу не съезжались генералы, не назначено было никаких приемов, кроме обычных утренних докладов графа Аракчеева и барона Дибича на «собственной половине». В парадных залах, где на ковриках у дверей стояли парные конногвардейские посты, шла обычная утренняя дворцовая жизнь: разжигали березовыми лучинами печки и помешивали их истопники; протирали паркеты полотеры, убирали свои залы камер-лакеи, помахивая по золоченым рамам картин и по мебели перовыми метелками и тряпками; ламповщики разносили заправленные маслом лампы и заменяли сгоревшие свечи; неспешно проходя из залы в залу, присматривали за всеми гоф-фурьеры.
После полудня парадная часть дворца опустела и затихла. Только ветер налетал с небывалой силой со стороны Финского залива, сотрясал рамы, стонал в печных трубах, постукивал дверцами душников. Этот вой и стон были так сильны в залах, выходивших на Неву и Адмиралтейство, что почти заглушали шаг конногвардейцев, шедших сменять посты под командой Иванова. А к ночи ветер превратился в бурю. Бог весть откуда проносились по залам сквозняки, колебля язычки свечей в фонарях-ночниках, вздувая парусом спущенные шторы, колотя, как в лихорадке, печными дверцами, осыпая паркеты пеплом из каминов.
Кирасир Евстигнеев, которого в два часа ночи сменили у дверей яшмовой гостиной, сказал Иванову, когда шли по залам:
– Двадцатый год служу, а такого гама не слыхивал. Будто вся нечистая сила разыгралась. Как бы потопа большого не случилось. С церковной лестницы так холодом садит, что закол ел весь, ровно у воротной будки стоявши.
Идучи со следующей сменой, унтер увидел дровоносов, разносивших поленья к печкам, и успокоился: значит, подвалы, где лежат дрова, еще не залило. А в девятом часу дежурный гоф-фурьер, проходя мимо, сказал Иванову:
– Выдь, кавалер, в аванзал. Глянь-ка на набережную.
Из караульного помещения перед Белой галереей унтер вышел на верхнюю площадку Иорданской лестницы. Отсюда открывался более широкий вид, чем из аванзала, потому что окно на выступе фасада смотрело в сторону Адмиралтейства. Но то, что заняло гоф-фурьера, открывалось прямо перед дворцом, как бы под ногами Иванова.
Свинцовая, с белыми гребнями волн, страшная Нева как будто вспухла. Вот-вот выплеснется на мостовую через последние ступени лестниц, устроенных для спуска к лодкам. За зыблющейся серой массой тонкой черточкой выступала Стрелка Васильевского острова, будто прямо из волн вставали Ростральные колонны и здание биржи. А под окнами дворца, заполнив тротуар у парапета и всю проезжую часть, толпились тысячи зевак, привлеченных небывало грозным зрелищем. Господа и барыни, купцы и уличные разносчики, ремесленники и полицейские солдаты смешались здесь, прикованные взглядами к Неве, которая ежеминутно обдавала многих брызгами волн, разбивавшихся о гранит., В толпе стояли экипажи всех видов, ожидавшие этих зевак, и лишь немногие благоразумные отрывались от зрелища, садились в них и уезжали или пробивались сквозь толпу, чтобы уйти.
– Еще малость – и набережную зальет, – остановился около Иванова старый камер-лакей. – Твоя семья, служба, где жительствует?
– Холостой я, – отозвался унтер. – А у тебя, дяденька?
– Мое семейство, слава господу, в Бауровском дому, под самой крышей, в тресолях. Там, чаю, никакая вода не достанет…
«Как-то Яков с тетей Пашей? – думал Иванов, повернувшись, чтобы идти к караулу. – Она хворая, он колченогий… Аннушка, верно, у хозяйки своей не замокнет. Помнится, говорили, белошвейная во втором жилье. А из подвала как выберутся?»
И, будто отвечая ему, лакей сказал:
– У нас тута подвалы еще в ночь залило. А сухих дров – на одну топку по чуланам. Наплачутся истопники, как вода спадет…
Перед тем как уйти, Иванов глянул налево по Неве, к взморью. Под темным небом страшно ширилась свинцовая вода. Исаакиевский наплавной мост только что разорвало, и часть его с людьми и экипажами несло сюда, ко дворцу. Ветер гнал по реке корабли и лодки, плясавшие на волнах, как поплавки.
Снизу сквозь вой ветра донеслись крики – полицейские драгуны въехали в толпу и, видно, гнали всех с набережной.
Иванов подхватил палаш и направился к кирасирам.
Караул Кавалергардского полка, что сменял конногвардейцев, пришел во дворец еще посуху. Но пока сдали посты и поручик Бреверн построил и свел своих на площадку Салтыковского подъезда, пробежал ошалелый лакей и закричал, что вода хлынула на набережную и разом залила Адмиралтейскую и Дворцовую площади. Поручик приказал стоять «смирно» и пошел к окну, выходившему на большой двор, куда собирался сводить кирасир. Но и они из строя уже видели, что по дальней части двора ходит рыжая зыбь. А Бреверн увидел еще и часового пехотного караула на платформе под колоколом, стоявшего теперь по колено в воде.
– Viens ici [47]47
Иди сюда (фр.).
[Закрыть]– поманил он стоявшего на фланге караула корнета Лужина. – Ежели тут по колено, то каково на улице?.. Ну скажи, mon cher, что бы ты сделал, если б такое случилось с твоим караулом, как сейчас с егерями?
– Что ты меня про пехотную службу спрашиваешь? – уклонился Лужин.
– Не виляйте перед старшим по чину, корнет.
– Ну, перевел бы пост на крыльцо, а часового сменил досрочно, чтобы просушился.
– Без приказа свыше? Вас за то могут не похвалить… Cependant que devons nous faire? [48]48
Однако что же нам-то делать? (фр.)
[Закрыть]
– Это уж вам решать, господин поручик, как начальнику караула, – сказал Лужин и, по-мальчишески прищелкнув языком, встал в строй рядом с Ивановым.
По галерее от церковной лестницы кто-то отчетливо печатал шаг по каменному полу. Бреверн также поспешно занял свое место. И как раз вовремя. Перед караулом остановился дежурный флигель-адъютант полковник Герман. С восторженной миной вестника, принесшего слова небесной мудрости, он возгласил:
– Его императорское величество приказать соизволил сменившимся караулам оставаться во дворце. Конногвардейскому занять пустое ныне помещение при офицерской гауптвахте, а Измайловскому поместиться вместе со сменившими оный лейб-егерями.
Герман повернулся, чтобы уйти, но дорогу ему заступил капитан, начальник нового пешего караула.
– Разрешите, господин полковник, свести часовых из-под ворот, от будок и с платформы на ближние сухие места, – доложил он.
– Про то не имею приказа его величества, – отчеканил Герман и, вскинув голову, удалился по коридору.
– Каков мудрец господин флигель-адъютант! – пожал плечами капитан и повернулся к стоявшему за ним унтеру: – Беги, плыви, братец Семенов, сзывай часовых, пока пробраться сюда могут. Хоть все вместе будем.
– Слушаюсь, ваше высокоблагородие! – выкрикнул унтер и, скинув суму, тесак и шинель на руки подскочившему солдату, мигом оказался за дверью, сбежал по ступенькам крыльца и по пояс в воде пошел, будто поплыл, к воротам.
В отведенном конногвардейцам помещении при дворцовой гауптвахте с двумя окнами на Адмиралтейский бульвар оказалось всего три скамейки, на которых могли тесно усесться человек двенадцать, а в карауле было тридцать два кирасира. Но никто не ворчал. Забыв усталость, все теснились около окошек. Вот в сторону Невского проспекта пронесло торговую шхуну со сломленной мачтой. На палубе стояли три матроса с шестами, должно, чтобы отталкиваться от зданий, когда к ним донесет. На почти облетевшие деревья бульвара вскарабкались люди, кричавшие что-то матросам, верно, просившие взять их на шхуну. Что кричат изо всех сил, было видно по отчаянно раскрытым ртам. Ветер по-прежнему стонал и выл, гнал волну, свистел в щелях оконных рам. Брызги от бившихся в стену волн долетали до стекол. Следом за шхуной проплыло длинное прясло зеленого забора с бревнами, которыми недавно был врыт в землю. За ним, ныряя в волнах, проехал домишко в три окна, каких много на окраинах. Людей в нем не видать, но кошка металась в слуховом окне. Рядом перегоняла дом перевернутая черно-смоленая лодка.
Когда надоело смотреть в окна, кирасиры принесли из коридора еще лавки и столы, за которыми в обычные дни купеческие приказчики торговали снедью для караула и дворцовой прислуги. Теперь все расселись, и поручик разрешил составить в угол палаши, снять каски и перчатки, расстегнуть крючки воротников. Некоторые пытались дремать, другие толковали, будут ли тут кормить. Ведь расход обеда считали на один нонешний караул. Сетовали, что нечего закурить. При парадной форме у кого и были в касках спрятаны трубочки, так в обрез оказалось табаку. Тут поручик выдал из своего кисета на всех полную горсть хорошего турецкого табаку, и курильщики повеселели. Те, которым не сиделось, подходили к окнам, рассказывали, что видят. Вот один из цеплявшихся за ветки дерева свалился и потонул – судя по сивым волосам, был уже старик и закоченел на ветру, – а остальных вскоре снял военный катер, что ходко прошел на длинных веслах от Невского к Стрелке Васильевского острова. Мимо дворца плыли бревна, тесовые крыши, полицейская будка, целый мостик с перилами, на котором стояли три мужика в полушубках и молились на крепостной собор.
В караульню забрел ламповщик в ливрее, рассказал, что кухонные печи топятся из подвала, их залило еще на рассвете, так что варева никому, даже царю, не будет. А оказалось, наврал старый; может, хотел пугнуть солдат голодом: в полдень принесли миски с густыми мясными щами и хлеба вволю, – все, как положено в дворцовом карауле, только без каши. Наелись да и раскаялись. Стало еще труднее сидеть в тесных колетах и лосинах, – жмут живот, затекают ноги. Поручик Бреверн разрешил расстегнуться, – видать, надеялся, что никто из начальства не заглянет. Но, расстегнувшись, стали мерзнуть – в помещении все свежело, печка, может, который день не топленная, раз арестованных на гауптвахте не случилось.
Поручик ушел куда-то, привел истопника с вязкой березовых дров. Не иначе, как заплатил из своего кармана, чтобы согреть кирасир.
«Вот так немец!»– думал Иванов, слушая, как затрещала растопка.
Он сидел с краю скамейки, боком к печке, пока еще холодной, но белой кафельной, к которой можно будет прислониться колетом, когда нагреется. Ботфорты и лосины у него не такие тесные, можно бы подремать, но беспокоился, что делается на 7-й линии и на Торговой. Там тоже пол людских и кухни ниже улицы, да и господские комнаты невысоко. Да что и в полку? Конюшни всех эскадронов, должно, на заре залило, как и кузницы, кухни, мастерские, семейную казарму… Но беспокойней всего за 7-ю линию. Жена хворая, он колченогий, неловкий…
Кирасир Зайцев, весельчак, которому не сиделось на месте, ходил в помещение пехотного караула и прибежал звать товарищей поглядеть на диво. По двору в корыте плавает рыжая кошка с синей лентой на шее. В корыте укреплена палка с наволочкой, вроде мачты с парусом. А в окне наискось от караульного помещения видать старуху барыню, царицыну отставную прислужницу, которая по кошке слезы льет, руки ломает и лакея шлет ее спасать. Несколько кирасир пошли смотреть, что будет, и скоро возвратились – вытащил лакей кошку, хотя по грудь в воде холоднющей на середину двора прошел и кошка со страху лоб ему расцарапала. От дворцовой прислуги Зайцев прознал, что пустил кошку плавать старухин внук, мальчишка озорной, который у бабки гостит.
Иванов слушал всех вполуха и дивился: как в такое бедствие могут гоготать? Или чтобы про страшное не думать?.. Что за потоп небывалый! Неужто и дворцовые комнаты погодя зальет? Вон брызги на стекла летят, волны об стену бьют. Толкуют Бреверн с Лужиным и с егерским капитаном, сидя в соседней, офицерской комнате, что все горе от ветра с залива. А как еще скрепчает да суток двое задует подряд?.. Кого пожалеть надо, то поручика Бреверна. Сидит, разговаривает, а у самого, поди, нутро изболело: год, как женат, недавно родилась первая дочка, и молодая с ней и с матерью на Английской набережной в первом этаже квартирует – туда Иванов не раз поручику коня отводил. Поговорит Бреверн, походит по комнате туда-сюда, потом в коридор, там пройдется, – видать, места себе не найти. Как принесли офицерский обед, то, кажись, все один корнет Лужин съел. Тому что? Молодой, холостой, отец с матерью, сказывали, в Москве… Ох, что же на 7-й линии?..
В час дня Зайцев принес весть, что вода не прибывает, а в три часа будто начала уходить – на дворе обнажились перекладины ограды вокруг платформы пешего караула. И верно, ветер ослаб, и за окошком вода стала понижаться почти на глазах. На бульваре увидели почерневшую от воды кору толстых лип. Потом под ближней открылось тело утонувшего старика. А дальше – раздутые животы двух лошадиных трупов и коляска со сломанным дышлом, упертая передком в ограду бульвара. Видно, как шарахнулись от хлынувшей на мостовую воды, так и застряли, тут и захлебнулись. Тел других седоков не было видно, – должно, они-то забрались на деревья.
В пять часов поручик Бреверн получил приказ вести караул в казармы. Когда вышли из дворца, начало смеркаться. Небо очистилось, огромные лужи стал прихватывать нежданный морозец. Кирасиры скользили по размокшей земле, спотыкались о вывернутые из мостовой булыжники и сбивались с ноги. Против угла Адмиралтейства стояла на мостовой баржа с сеном. Заборы, ворота, ящики и лари, сорванные с сараев крыши, бревна, кадки, лестницы громоздились на улице. Близ полкового манежа дорогу загородила разбитая лайба. Около нее суетился народ. Оказалась груженной вином, и обыватели, кое-как откупорив, а то и разбив бочки, черпают ковшами, кувшинами, бутылками, растаскивают по домам или тут же пьют стаканами, кружками, шапками. Двое кирасир, что шли замыкающими, малость отстали, попробовали горстью и хвалили – сладкое, вроде церковного.
Когда поравнялись с манежем, то увидели дневальных, маячивших под зажженными уже фонарями на площадке между статуями укротителей коней, где обычно никого не бывало. На спрос поручика отвечали, что на рассвете всех лошадей перевели в манеж.
– Ну, сразу от сердца отлегло, – сказал Евстигнеев, шедший сзади Иванова, и офицеры даже не цыкнули за разговор в строю. Видно, все чувствовали то же.
В эскадронном помещении было жарко и парно, как в бане. На веревках сушились рейтузы, колеты, сапоги, шинели. Кирасиры в одном белье сидели на нарах или перед печками, в которых, несмотря на поздний для топки час, пылали дрова. Тут же стояли прислоненные для просушки поленья и доски, набранные по дворам.
Пока Иванов стаскивал парадную форму, ему поспели рассказать, что в этот день случилось в полку. Шла утренняя поверка, когда воды Адмиралтейского канала начали заливать дворы. Из конюшен в первом этаже главного здания лошадей по колено в воде переводили в манеж, пол которого почти на сажень выше набережной канала. Но в конюшнях, стоявших у плаца, в это время вода дошла уже коням по брюхо. С трудом добирались туда кирасиры, отстегивали цепи от недоуздков и выгоняли упиравшихся животных, которым нужно было идти, а местами плыть к манежу. Четверо хороших наездников во главе с Жученковым не раз проделали этот путь, ведя за собой по нескольку коней в холодной, все поднимающейся воде. Но особенно отличился вахмистр 3-го эскадрона спасением офицерских лошадей. В их отдельной конюшне против всех правил дверь открывалась внутрь, и всплывшие половицы коридорного настила не давали кирасирам ее отворить. Два сорвавшихся с привязи жеребца бились в воде и калечили друг друга. Дневальный, молодой солдат, орал с испугу дурным голосом, сидя на перегородке между стойлами. Придя с несколькими кирасирами к конюшне по грудь в воде, Жученков приказал выставлять оконные рамы и первым протиснулся в невысокое отверстие. Открыть дверь им так и не удалось, и тогда, отвязав цепи от кормушек и севши на перегородки или на седельные полки, они около трех часов успокаивали коней голосом и заставляли тянуть головы вверх, чтобы не захлебнулись.
А сейчас, по словам рассказчиков, вахмистр находился в своей каморке, где натерся водкой, надел сухое белье и, побранившись, что мало оставил для приема внутрь, а кабаки нонче затоплены, залег спать, наказав не тревожить себя по пустякам.
Услышав все это, Иванов подумал, что хорошо бы сейчас сходить к той лайбе, из которой народ таскал красное вино, да напоить Жученкова. И, как бывает разве что в сказках, тут же перед ним предстал один из кирасир недавнего караула еще в парадной форме и с медным ковшом, полным вина.
– Прям причастное, Александр Иваныч, только что не грето, – сказал он с ухмылкой. – Нынче и вам, нахолодавшись, с пользой пойдет. А мы сейчас всех кирасир потчевать станем.
Не расспрашивая, как добыл, унтер, взяв ковш, пошел к Жученкову. Ради такого угощения и побудить не грех.
Вахмистр не спал. Войдя, Иванов в полутьме сразу увидел его в исподнем и в бараньей безрукавке, греющим живот о выходившую в его закуток часть печи.
– Ну, как караул прошел? – спросил Жученков, решив, если и рассмотрел ковшик, что унтер принес квасу или еще чего по своему вкусу. – Слыхать, у сенатской гауптвахты часовой на площадке потоп. – Вахмистр повернулся и стал греть бок.
– Так мы до воды сменились и во дворце отсиживались, – ответил Иванов. – Там накормили сытно, и поручик печку нам истопить заставил. Довелось ли вам его кобылку выручить?
– Живая, в манеже стоит, – отозвался Жученков, поворачиваясь к унтеру фасом. – Авось не простыла. Наказал Шитикову щетками да соломой ее растереть и попоной покрыть. Такая тварь умная, все ко мне на полку голову совала – чуяла, в чем спасение… Да что ты принес? По духу слыхать – виноградное…
– Церковное будто, – сказал унтер. – Хлебни, чтоб согреться.
– Ох, Иваныч, давай! А то морду ровно огнем палит, а зубы полевой галоп выбивают.
Вахмистр взял ковш, вытянул губы трубой и припал к вину. Только раз оторвался, чтобы перевести дух и сказать:
– Доброе питье, хотя водка все же пользительней…
А допивши, отер усы и, отдав посудину, погладил себя по горлу, груди, брюху, будто сопровождая вино, и заключил:
– Вот уж спасибо, брат!.. Теперь, поди, сосну толком, без дрожи. Ты меня укрой, окромя одеялы, еще шинелями, старой и новой, вон в углу висят… Такого сладкого с самой Франции не пивал.
– А скажи, Петр Гаврилыч, когда ты на полке сидел, то на что же надеялся? – закутав друга, как велел, спросил Иванов.
– Да ни на что, как в бою бывало. Делай, что присяга велит, – может, и выберешься. А коли скиснешь, так ведь сам на себя потом плюнешь. Трусов видывал? Ихняя вечная дрожь похуже моей нонешней…
Назавтра с утра всех женатых, чьи семьи квартировали вне казарм, отпустили из полка до вечера. А холостым объявили работу по вывозке утонувших животных, уборке дворов и помещений.
Как ни старались вчера, а все-таки в старых низких конюшнях трубачской команды и в обозной потонули 72 лошади да по сараям еще 40 коров, принадлежавших чиновникам и женатым кирасирам.
Немало коней побили друг друга или покалечились о двери, когда выводили из конюшен, и еще больше в манеже, куда многих пригнали даже без недоуздков, и они, ошалелые с испуга, носились, кусались и лягались, пока не переловили их и не обротали кирасиры. Так что сегодня в манеже не покладая рук работали оба полковых ветеринара со всеми эскадронными коновалами, промывая раны, укусы, накладывая мази, примочки и повязки.
На дворах кирасиры собирали и складывали в клетки расплывшиеся дрова, водворяли на места вывороченные водой камни мостовых и плиты панелей или помогали полковым мастерам – печникам, малярам, слесарям, штукатурам, которые приводили в порядок помещения первых этажей. Здесь топили помалу печки, ежели не развалились, ставили на попа, чтобы просыхали, половицы, сметали в кучки выдавленные водой оконные стекла. А на складе перетаскивали подмокшие кули с мукой, крупой и овсом, радуясь, что не надо канителиться с сеном, которое подняли блоками еще в октябре на чердачные сеновалы.
И все это делали как есть натощак. Только за полдень привезли солонины, масла и печеного хлеба. Жидкая каша едва поспела к четырем часам. Шутники утешались тем, что куда хуже пришлось семеновцам и измайловцам, которых чуть свет привели в соседние с Конной гвардией огромные провиантские магазины выносить на подводы кули муки, что лежали в верхних рядах и не поспели отсыреть.
Иванов работал изо всех сил, потому что после такого бедствия как не стараться? И еще – чтобы заглушить тревогу за игрушечника с женой. Утром встретил князя Одоевского и узнал, что на Торговой все живы-здоровы, хоть и натерпелись страху. От него же узнал, что семейство Бреверна спаслось в верхнюю квартиру. А в полдень встретил во дворе Никиту, который носил барину завтрак и рассказал, что вчера князь, бывший дежурным в полку, с рассвета хлопотал по переводу коней в манеж, потом, сменившись, побежал уже по глубокой воде на Торговую – хотел в такое время оказаться вместе с Грибоедовым и своими людьми. Да едва и не утонул, окунувшись по шею в какую-то колдобину на мостовой. А барин Жандр из окошка квартиры спас четырех утопавших, опустивши им прямо в воду случившуюся у него на кухне малярную лестницу… Никита сунул унтеру кусок пирога, которым тот поделился с Жученковым. Вахмистр нынче встал здоровей прежнего, только охрип малость.
Рассказанное Никитой и то, что слышал за день о страшном бедствии на Васильевском острове и Петроградской стороне, не давало Иванову покоя. За ужином даже выпил вина, чтоб скорей заснуть.
Те ловкачи, что на улице пробовали кагор с разбитой лайбы, и нынче подносили по кружке кирасирам своего эскадрона. Оказывается, вчера после прихода в казарму сбегали на место и притащили в чулан за входной дверью два трехведерных бочонка. На вопрос, как спроворили, они рассказали, что когда все еще в парадной форме подошли к барке, то проходивший флотский офицер приказал им не допускать растаскивать бочки. Они, обнажив палаши, встали, куда указал, а как ушел, то и покатили по бочонку в полк, чтобы своих кирасир согреть. Сунулись было по второму разу, да дежурный офицер встретил у ворот и прогнал обратно.
Утром Иванов попросился у вахмистра отлучиться до обеда.
– На Васильевский пойти? – прохрипел Жученков.
– Так точно.
– Чего вчера не сбегал? А мне невдомек, захлопотавшись…
Исаакиевский мост как раз сцепляли и только по одной его стороне пропускали пешеходов. На набережных, куда ни глянь, громоздились баржи и какие-то срубы. Из лавок, расположенных в первых этажах, молодцы таскали на подводы мокрые мешки и ящики, выметали битое стекло, выкидывали дохлых крыс и кошек. На 7-й линии дощатые тротуары и многие заборы исчезли. В садах клонились плодовые деревья, сломанные заплывшими бревнами, снятыми с мест беседками, сараями, банями. Из конюшен и хлевов выволакивали мертвых животных. Во дворе у будки Иванов увидел потонувшего пса на подернутой ржавчиной цепи. Несмотря на холод, размытые помойки и отхожие места распространяли смрад. Бедно одетые люди бродили по дворам, смотря под ноги, разыскивали что-то, несли мокрую одежду, одеяла. Исхудавшие, бледные лица мелькали перед Ивановым, шедшим посреди улицы, прыгая через ямы и лужи. На углу Большого проспекта остановился воз с печеным хлебом, и к нему со всех сторон сбегался народ.
Дверь Яковлевых была открыта настежь. Низ ее уходил в воду, на которой плавали разноцветные лоскутки бумаги. За такой же распахнутой соседней дверью плескалась вода и гремело железо. Сойдя по ступенькам, Иванов увидел за этой дверью женщину в подоткнутой юбке над мужскими сапогами. Она черпала ковшом воду, сливала в ведро, и на шаги унтера обернулась. Лицо было морщинистое, седые волосы выбились из-под платка, завязанного узелком на лбу.
– Здравствуйте, тетенька! – сказал Иванов.
– Здорово, соколик, – отозвалась она. – Аль кого ищешь?
– Мастерового, что тут жил.
– Что игрушки делал?
– Вот-вот.
– Захленулся твой мастеровой третёва дни. Все у него захленулись, соседки сказывали. Женка с дочкой больные лежали, в горячке, что ли, а он их вытаскивать зачал, только как вода с-под полу пошла. Всех тута и открыли, как вода ушла, все рядом лежали. Ты им родня, что ль?
– Нет, знаком малость был…
– А баба с дочками, что тут квартировала, все живы, на Пяту линию съехали. Ныне за тряпьем приходили. А я из суседнего дома, от хозяина подряжена воду вычерпать да печку топить. За полтину подрядилась, да и не рада. Печку разве растопишь, как наскрозь мокра?.. Корячусь второй день. Ведер сто на огород вынесла, а оттеда, что снесла, может сызнова сюда идет?
Иванову стало тяжко, душно. Слушая визгливый голос старухи, расстегнул крючки воротника.
– А дочка ихняя? – спросил он, надеясь, что ослышался. Ведь Аннушка жила у немки. Неужто как раз дома хворала?
– И дочка потопла, сказывали. Всех вчерась к Благовещенью свезли, ноне отпоют. Полета покойников с прихода набрали.
– Я войду к ним, погляжу, – сказал унтер.
– Гляди, коль охота, да баба, что тута жила, все уж перетрясла. Раз, говорит, все померши, так мы, как сродственники… Ну, раз так, то бери. Давеча ушла только.
– Врала она, никакие не сродственники. – Иванов шагнул в комнату. Воды здесь осталось совсем мало, не покрыло и подъема.
Первое, что увидел, были деревянные кровати без одеял и подушек. Сенники закатаны, видно, под ними шарили. Стол без скатерти сдвинут с места. Посудные полки пусты. На верстаке рваный шерстяной чулок и ржавые ножницы. В выдвинутом ящике лоскутки цветной бумаги, картона, нитки и проволока. На воде под ногами тоже цветные обрезки, золотые звездочки. А на подвешенных под потолок двух полках – рядами готовые игрушки: франты со шляпами, охотники, козлы и кони на пискучих гармошках. Эти воровкам не надобны… Вот от часов один гвоздик остался да карандашом обведенное место, на котором, должно, верней ходили. На образной полочке отодвинута боком икона – и туда залезли воровские руки…
Старуха с полными ведрами остановилась за его спиной.
– Хожалый вчерась с молодцами своими побывал, как покойников брали, да баба та нонче. Так после них разве что останется?..
Когда она пошла вверх, Иванов подставил табуретку, влез и заглянул за иконку. Там лежала пустая коробочка в виде сундучка. На донышке, хоть и расплывшееся от прикосновения мокрого пальца, выведено чернилами: «Про черный день». За коробочкой прислонены венчальные свечи. Почему убраны?.. Верно, от первой жены, Аннушкиной матери…
И дальше, в самом темном углу, за свечами, будто еще что-то. Сунул руку. Вторая коробочка, вроде табакерки, а в ней ассигнации накрепко свернутые, три по пятьдесят рублей… Вот так находка! Как во сне, ей-богу… Как ее хожалый и соседка не разглядели? Не далась, выходит, им в руки…
Взяв иконку и обе коробочки, Иванов слез с табуретки, засунул в нагрудный карман деньги, сыскал за пазухой платок, завязал в него все находки. Подумав, достал с полки по одной игрушке каждого сорта, увязал туда же и пошел было к двери. Потом вернулся и прихватил ножницы – пригодятся в ремесле. И память опять же… Может, свечи взять?.. Да несчастливая, видно, была бедняга. Вот и дочки нету. Никого нету…
Выйдя со двора, повернул к Малому проспекту. Голова шла кругом. Не заметил, как дошел и вступил в нижнюю церковь.
Длинными рядами на полу перед амвоном стояли гробы. Свечи у икон и низкие окна скудно их освещали. Все крышки забиты наглухо. Около нескольких понурились бедно одетые люди.
– Панихида была? – спросил Иванов ближнего старика.
– Была, на скору руку. Сейчас подводы пригонят с будошниками, чтоб на Смоленское.
Иванов смотрел на одинаковые крышки из свежего дерева.
«За что ж Анюте такая смерть?.. Эх, прозевал я свое счастье!..»
Он стал на колени, положил земной поклон, прочел, какие знал, молитвы. Сзади застучали тяжелые шаги, отдался под сводами громкий разговор. В церковь вошли полицейские солдаты.
– Берись, ребята, с того края… Носи, ставь поперек дрог, чтоб больше увезть. Привязывай крепче, чтоб не елозили, – басил квартальный, поспешно крестясь между приказами.
Иванов и несколько мужчин, стоявших около гробов, помогли выносить. На шесть пароконных дрог установили тридцать два гроба. Из них семь детских, маленьких.
По ямам размытых улиц долго тащились к дальней окраине Смоленского кладбища. Унтер шел около подводы, подпирал плечом на ухабах гробы. Помогал будошникам опускать всех в глубокую траншею, в которой их только малость засыпали. Из других церквей довезут остальных василеостровских, поставят на этих сверху.
Полицейские уехали, провожавшие разошлись. Еще сильней похолодало. Ветер прохватывал насквозь. Иванова затрясло, видно от промокших сапог. Бросил в яму несколько горстей земли, перекрестился еще и пошел, едва не забывши узелок, оставленный на ближней могиле, когда опускали гробы.
«Вот троих нету добрых людей, а те воровки – баба пьяная и девки гулящие – все целы… А женись я на Анюте, так хоть она бы жива осталась, голубка добрая…»– в десятый раз передумывал одно и то же.
На Большом проспекте парень продавал по копейке пироги с печенкой. Вдруг захотелось есть до боли в скулах, в животе. Купил два и стал жевать, спрятавшись от ветра под воротную арку ближнего каменного дома. Рядом стал тоже с пирогом старик в обдерганной шинельке и смятой шляпе, верно канцелярист. Жадно ел, дергая красным мокрым носом, двигая покрытыми седой щетиной щеками. Доевши, заговорил, пожимаясь:
– Ух, холодно, кавалер! Каково у которых угла не стало? А что коров потопло! Детки без молока оставшись…
Иванов, ничего не отвечая, жевал второй пирог.
– Видно, кого потерял, бедолага? – догадался старик.
От этого участия у унтера перехватило горло. Ладно, что проглотил последний кусок. Махнул рукой и зашагал своей дорогой.
Шел и думал: «А вдруг спутала старуха? Наплела соседка, чтоб тряпки забрать, и жива Аннушка у хозяйки своей… Но как бы тогда у гробов родительских ей не быть? И деньги бы, зная где, взяла. Не бросила бы иконку и свечи материнские… А мне куда ж те деньги девать? В полицию? Так украдут сряду же. Или к Благовещенью, на спомин души?.. А может, их бог от хожалого схоронил, чтобы вместо прежних, у Жученковых скраденных, на дело мое доброе пошли?..» Иванов даже остановился от такой догадки. Оглянулся, по солдатской привычке, чтобы не пропустить офицера… Нет, прохожие все простой люд. Пошел дальше. «С кем бы посоветоваться с основательным? Князь добёр, да молод. С Андреем Андреевичем? Барин рассудительный, законник… Эк колотит холодом! Хорошо бы и нынче вина виноградного хлебнуть, чтоб заснуть поскорей. Ну, горе! Экая напасть! Бедные, бедные!..»
В воскресенье сходил на Смоленское. Длинную могилу под некрашеным крестом припорошил первый снежок. Помолился за упокой рабов божьих Якова, Пелагеи, Анны и зашагал на Мойку.








