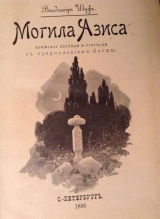
Текст книги "Могила Азиса. Крымские легенды и рассказы"
Автор книги: Владимир Шуф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
На другое утро, когда я вышел из шалаша, горная степь была ясна и спокойна; бледное небо загоралось отблеском золотой зари, и ни одного облачка не было на горизонте. Чабаны доили овец, пропуская их поодиночке сквозь маленькие ворота загона, и весело пересмеивались. Отара нетерпеливо толпилась у выхода, и звонкое блеянье раздавалось в чистом и прозрачном воздухе. Татарин мой уже оседлал лошадей, и я пошел проститься со своими новыми знакомцами. Когда я подошел к Осману, он посмотрел на меня украдкой, как-то боком,
молча кивнул мне головой и нагнулся над своею доенкой. Очевидно, ночные страхи еще не оставили его воображения.
Несколько месяцев спустя, мне случилось быть в Узен-баше, – той деревне, из которой был Осман. Я спрашивал про него; мне сказали, что он недавно умер. Меня проводили на старинное кладбище, разбросанное по склону горы, у подножья красивой мечети с высоким стройным минаретом. Свежая могила была завалена камнем, и белый столб с пестрой чалмою и надписью из Корана склонялся над нею, как старый мулла, молящийся за душу усопшего грешника. Бедный Осман! Я видел его невесту, прекрасную Шахсиме; она выходит замуж за пожилого, но богатого бахчисарайского татарина. В Узен-баше я вторично услыхал о старой колдунье Айше и решил непременно взглянуть на это чудовище татарского суеверья. Она ничем не отличалась от наших знахарок, – так же заговаривала кровь, давала любжу, лечила травами. Домик ее стоял вдалеке от деревни, ветхий, полуразрушенный. Татары ходили к ней ночью тайком – это считалось предосудительным. Айше была маленькая, сгорбленная старушка, с проницательными, злыми глазами, такими злыми, что, право, я принял бы ее охотно за ведьму. Она дала талисман для моей лошади, долженствующий предохранять от порчи и глаза. Про Айше мне рассказывали, что она белой тенью скитается по ночам и пугает проезжих всадников и пешеходов. Мой старый знакомый Асан, возвращаясь верхом с одной веселой свадьбы, видел Айше ночью под деревом, и она гналась за ним до самой деревни.
1 Джины – злые духи.
2 Ата – отец.
3 Девушка, право девушка.
4 Чурбаджи – ударь, господин.
5 Большой барабан.
6 Известный в Крыму борец.
7 Джайне – ад.
8 Яман-джин – злой дух, демон.
СВАДЬБА АБУ-БЕКИРА
Много богатых деревень в Крыму, но нет богаче Дерикоя. Много больших и красивых домов в Дерикое, но больше и красивее всех дом Абу-Бекира. И если сам Абу-Бекир стар и некрасив, то уж конечно он богаче всех дерикойцев. Его сады прекраснее садов Ирема1, и нет счета его виноградникам и чаирам2! Мечеть в Дерикое построил Абу-Бекир – какое благочестие! Водоем для общего пользования всей деревни поставил Абу-Бекир – какая благотворительность! И что же это за водоем! Он подобен прозрачному Тасниму, из которого пьют райские души. Тонкая, холодная струя бьет из серого гранита, испещренного арабскими письменами, и падает с тихим журчанием в каменный бассейн. В этом бассейне, как в зеркале отражается утром и вечером румяное лицо красавицы Фатиме, когда с кувшином на плече она приходит сюда за водой. Коваль Осман, который искуснее всех выделывает серебряные пояса с чернью, не раз из-за соседнего плетня высматривал Фатиме. Тонкая, стройная, – она, бывало, тихо спускается с крутого холма вместе с тремя своими подругами, и горячее солнце играет ослепительными лучами на золотых монетах ее шапочки и ожерелья, на галунах ее зеленого шелкового кафтана, на блестках вышитых красных туфель и на ее медном кувшине, а шаловливый ветер то и дело развивает серебристую ткань ее непослушной чадры, которая словно назло своей хозяйке, открывает хорошенькое розовое личико с черными бровями и лукавыми, смеющимися глазками. «И какая же красивая эта девушка!» – говорил про нее коваль Осман, хорошо знавший даже маленькую родинку на ее подбородке.
Но Фатиме заприметил не один коваль, знал ее и старый Абу-Бекир, который, молча покуривая длинную трубку, с резного балкона пристально следил своими бесцветными зоркими глазами за проходившей каждый день мимо его дома красавицей. Валлах! Где же бедному ковалю, беднее которого не было в целой деревне, спорить с таким богачом, как Абу-Бекир! Кто откажет в просьбе Абу-Бекиру. Он заплатил триста червонцев, и Фатиме стала его женою.
***
И какая же богатая эта была свадьба! Амет-шорник мне рассказывал, что целые два дня все были пьяны без просыпу. Но вот настал третий день. По всей деревне, по окрестным, холмам и ущельям раздавались веселые, дребезжащие звуки даулов, рожков и скрипок. Разбросанные по горным уступам дома Дерикоя были унизаны пестрой гурьбой народа, стоявшего на их плоских земляных кровлях. Мужчины, женщины и дети в красных и зеленых платьях, вышитых серебром и золотом, сидя и стоя, всматривались в даль, туда, откуда доносилась эта музыка, и слушали ее даже голубые, туманные горы, на синеве которых ярче белели дома и яснее виднелись разноцветные наряды толпы, озаренной лучами знойного солнца. Но вот звуки даулов стали явственнее, и на крайней улице деревни показалась кучка цыган-музыкантов с темными загорелыми лицами, сильно оттенявшими сверкающие белки их черных глаз. Сдвинув свои барашковые шапки на затылке, они на ходу усердно пиликали на скрипках и дули в рожки. Один толстый, приземистый цыган – знаете вы цыгана Джелиля? – так вот, этот самый цыган держал между двумя пальцами огромный бубен, лихо ударяя в него кистью правой руки. За музыкантами тянулся длинный свадебный поезд. Невеста, с ног до головы закутанная в широкое пестрое покрывало, в сопровождении двух пожилых женщин с открытыми лицами, ехала в экипаже, запряженном парою лошадей, и более трехсот всадников в залитых золотом и черных куртках скакали кругом на горячих конях и длинным хвостом извивались по улицам деревни. Множество пеших татар бежали по сторонам с восклицаниями, смехом и говором. Наконец, весь поезд остановился у дома жениха, родственники невесты устроили над нею род навеса из яркой ткани и под ним провели Фатиме по лестнице; в дом ее будущего мужа. Тогда все затихло. Музыканты разбрелись, всадники разъехались, и улицы опустели. Только на одной кровле стоял хмурый, как осенняя туча, коваль Осман и все еще глядел на двери Абу-Бекирова дома.
Вот уж две недели не спорилась работа у коваля Османа. Начнет ли насечку вырубать на стремени – стремя испортит, станет чернь на серебряную пуговицу наводить – никакого рисунка не выходит. А уж какой он был мастер! Все перед ним стоит Фатиме черноглазая, и видится ему, как целует ее старый Абу-Бекир. Наконец, стало ему невтерпеж и пошел он в станок к своему вороному Эмиру, – только и было у него богатства, что этот конь. Заржал Эмир, почуяв хозяина, обернул к нему свою морду с широкими, тонкими ноздрями, с выпуклыми, блестящими, как звезды, глазами, и насторожил уши. Осман потрепал его по мохнатой гриве, накинул седло ему на спину, подтянул подпруги и выехал за околицу. По каким горам и долинам носил его добрый конь, вряд ли и сам Осман припомнит. Шумело перед ним и синее море своими белогривыми волнами, и дремучий лес, растущий по горным склонам, встречал его своим смолистым благоуханьем. Раз остановился Эмир на всем скаку, и только тогда увидел Осман, что под его ногами темнела глубокая пропасть, на дне которой клубился и клокотал горный ручей, разлившийся от весеннего, талого снега. Пробовал и песню Осман затянуть, да только юркое эхо смеялось в ответ на ее печальные переливы. Повернул он назад и поехал шагом в деревню. Кремнистая дорога вилась узкой лентой, и справа в овраге за плетнем зеленело целое море фруктовых садов. Старые рябины, обвитые темными гирляндами плюща, мешались там с беловатыми стволами низкорослых и широколиственных фундуков. Местами попадались куртины миндальных деревьев, опушенных белым и розовым цветом; тонкое, одуряющее благоухание разносил тогда легкий ветерок, едва колыхая острые вершины тополей села; но он не освежал воздуха, накаленного лучами полуденного солнца. Прохлада таилась только там, в тени этой густой зелени, где катились и журчали серебристые струи невидимых ключей. Так и счастье Османа скрывалось под кровлей Абу-Бекирова дома, и ничто не облегчало его горевшего сердца.
Осман выехал за поворот дороги, откуда открывался вид на деревню. Множество кровель пестрело в лощине и по горным склонам, и прямая стрелка минарета высоко поднималась над ними. Осман ехал мимо низких сараев, где на жердочках висели пачки табаку, выставленные на солнце, мимо белых домиков, из ворот которых выглядывали иногда любопытные глаза детей и женщин. Около мечети, у ограды кладбища, он увидел кучку стариков с подстриженными седыми бородами. Они о чем-то спорили с толстым муллою в зеленой чалме. Осман переехал вброд маленькую, быструю речку, и сверкающие брызги воды целым столбом поднялись под ногами его лошади. Он бросил узду и долго смотрел, как Эмир жадно пил, остановившись в середине речки. Наконец, Осман выехал на берег, ударил коня ногайкой и вихрем взлетел на пригорок, где стоял дом Абу-Бекира.
Осман привязал лошадь к плетню, скрипнул калиткой ворот и пошел во двор. Мохнатая собака лежала в тени под мажарой, но и там ей было так жарко, что она не залаяла на чужого человека, входившего в дом хозяина. Зато прохладно было в большой комнате дома, едва освещенной одним маленьким решетчатым окном и низкою дверью, полуотворенной на резной балкон, закрытый от любопытных глаз зеленью сада. Вся комната была обвешена драгоценными, вышитыми шелками и золотом, чадрами, установлена блестящей медной посудой. На полу, устланном коврами и войлоком, вдоль стен лежали пестрые подушки, и большой, открытый очаг чернел в дальнем углу. В окошко смотрели темные листья черешен, орехов и яблонь, а тихое журчанье речки, протекавшей под самым домом, постоянно слышалось здесь, навевая сладкую дремоту. "Селям-алейкюм!", – сказал Осман, входя и прикладывая руку ко лбу. – "Алейкюм-селям!", – отвечал ему хозяин, сидевший с трубкой в зубах перед низеньким, шестиугольным столиком, уставленным сушеными грушами, каймаком и шербетом. Осман сел подле, и Абу-Бекир, хлопнув в ладоши, приказал жене подать гостю кофе. Фатиме, еще более прекрасная, чем прежде, свежая, как только что распустившаяся роза, с губами сладкими, как мед крымской пчелы, и темными, как апрельская ночь, глазами, появилась покорно на зов своего повелителя. Она молча поклонилась гостю, поставила перед ним чашку кофе на маленьком подносике и исчезла за дверью, как легкая тень от трепетных листьев мимозы, брошенная на мгновенье выглянувшим из тучи солнцем. Сердце Османа билось, как пойманная птичка в руках охотника, а дом Абу-Бекира казался ему раем пророка, но он не променял бы своей Фатиме на прекраснейшую из небесных дев. Да и хороши ли они еще, эти райские дивы, когда Коран установил для них тридцатилетний возраст? А Фатиме было только восемнадцать. "Так не нужно ли тебе, ага, седла с чеканкой или новых пуговиц на пояс? – Твои, кажется, поистерлись, – говорил Осман. – Я тебе такие сработаю, что и в самом Бахчисарае не сыщешь. А славный у тебя кофе, ага!". Но Абу-Бекир, несмотря на все свое гостеприимство, не предложил еще ни одной чашки молодому ковалю и ревнивыми глазами посматривал на дверь, которая, как ему показалось, подозрительно скрипела. "Ну, савлых нехал, счастливо оставаться, хозяин!" – сказал Осман, нехотя подымаясь, и, бросив последний взгляд в сторону, где исчезла Фатиме, со вздохом вышел из комнаты, провожаемый добрыми пожеланиями и ядовитой усмешкой старика.
***
«И за что такое счастье Абу-Бекиру? И дом у него хорош, и почет в людях, и жена молодая. А у меня, сироты, одна хата, и то наемная!» – думал Осман, проезжая на своем Эмире по узкой дорожке, извивавшейся среди черешневых садов и табачных посевов. Низко опустил Осман голову, ничего не видит что кругом делается, не замечает, что смеркаться стало и в полях густой туман клубится. Уже замигали вдали огоньки деревни, вдруг у самого желтого камня, в пустом месте, где и днем доброму человеку жутко становится, окликнули Османа. Смотрит он: сидит кто-то на камне, поджав ноги, и рукой машет – шайтан не шайтан, а все как будто неладное. Насилу разглядел Осман, что это цыган Джелиль, возвращавшийся в свою деревню с бубном в руках и скрипкой под мышкою. Коваль Осман по своей профессии водил знакомство с цыганами, среди которых много было искусных кузнецов, и даже говорил по-ихнему. "Здравствуй, шукар мануш3 – сказал он, подъезжая к Джелилю, – куда путь лежит?" – «Да вот в Ай-Василь иду, там на днях, говорят, свадьба будет». Джелиль не имел определенного пристанища. Родился он где-то в ногайской степи и ходил из села в село, промышляя, чем случится. Впрочем, он важный был музыкант, и никто не знал столько песен, как старый Джелиль, много видевший на своем веку. Шла про него молва, что он и ворожбой занимается и с шайтаном – не в худой час будь сказано –знакомство водит. Стал он про Абу-Бекирову свадьбу вспоминать и видит, что Осман насупился, как грозная туча. Догадался Джелиль, в чем дело, и говорит: "Эге, достум4, да у тебя здесь что-то неладно! Не отбил ли у тебя Бекир невесты? Да что печалиться по-пустому! Девка и замужем от доброго молодца не уйдет! Хочешь, я тебе такое снадобье дам, что в эту же ночь она к тебе за околицу выйдет?" Обрадовался Осман, стал просить цыгана. Сошли они оба в глубокую лощину. Джелиль достал из котомки котелок и жаровню, поставил их на камне; и огонь развел. А ночь была темная, месяц еще не всходил.
Тихо кругом, только и слышно было, как, загораясь, трещал валежник, и Османов конь фыркал, привязанный у разбитого грозой дерева. Но вот пламя вспыхнуло ярче и озарило усатое лицо Джелиля, который, склонившись над котелком, шептал какие-то непонятные слова. Страшно стало Осману; чудилось ему, что камни вокруг шевелятся, кусты движутся, и какие-то черные тени ходят по сторонам, не то от огня, не то от нашептыванья старого цыгана. Вдруг котелок закипел, белый столб дыма взвился кверху, и месяц осветил его, выглянув из-за соседней горы. "Готово! – сказал Джелиль, – на тебе этот корешок, брось его через плетень Абу-Бекирова дома, и выйдет к тебе Фатиме тою же ночью". Прыгнул Осман на своего коня, бросил цыгану последнюю монету, которая была у него в кармане, и поскакал в деревню.
Старого Бекира не было дома. Собрались к Фатиме соседки, сидят у огня, шьют, болтают и песни поют. Все молодые, румяные, волосы заплели в мелкие косы и лица чадрой не закрывают, – ведь никто из мужчин теперь не подсмотрит. И о чем тут речей не ведется под жужжанье ручных самопрялок! Не у одной односельчанки, чай, уши горят от недобрых поминок и пересудов, не один муж схватился бы за бороду, услышав, какие вести про его жену ходят, или как сама она его красоту и обычай расписывает. А пуще всех достается Абу-Бекиру. И стар то он, и сед, и целовать беззубым ртом не умеет. И злой же язычок, надо сказать, у его молодой жены! Разматывает она катушку, прицепленную к поясу, и такие узоры по мужнину лицу расписывает, что на любой чадре не хуже бы вышло. За то вот коваль Осман – другое дело. И силен он, и глаза у него хороши, и черные усы не общипаны. "Как пришел он к нам сегодня, – говорит Фатиме, – так у меня и сердце упало. Подаю ему угощенье, а сама и взглянуть боюсь. Потом все в щелку на него смотрела – такой красивый!" Взяла Фатиме сааз и такую сладкую и грустную песню про молодого коваля спила, что все ее соседки притихли. "Да полно тебе грустить, джаным, – сказала ей чернобровая Суадет: – и богата ты, и красива, и муж тебя балует." Вздохнула Фатиме, потом рассмеялась, вышла на середину комнаты, изогнулась, как тонкая камышинка, и стала кружиться вместе с Суадет под веселую плясовую песню товарок, – только звенели и переливались крупные червонцы на ее уборе. Потом поднялась возня, шум, смех. Фатиме выскочила за дверь и вернулась в широком мужнином чекмене, и тяжелых туфлях, которые, как лодки, сидели на ее маленьких ножках и шлепали по полу. Наконец угомонились подруги, накинули темные фередже на головы и разошлись по домам. Абу-Бекир все еще не возвращался. Фатиме вышла на резной балкон и стала смотреть в серебристую даль лунной ночи. И какая это была ночь! Синие, туманные горы подымались во мгле, и белые облака вились и дымились на их зубчатых вершинах. От глубоких ущелья веяло прохладой. Месяц ярким светом озарял вершины стройных тополей и темных кипарисов, нижние ветви которых терялись в тени и непроницаемой зелени густых садов. Тонкий, опьяняющий аромат фиалок и чобора разливался в теплом воздухе, и стрекотанье невидимых кузнечиков подымалось из травы, звенело в вышине; и наполняло всю эту душную, летнюю ночь странной, неумолкающей музыкой. Эта ночь походила на великую, таинственную ночь Алькадра5, когда совершается все необычайное, и немыслимое становится возможным. Было ли то действие заклинаний Джелиля, или сама любовь, полная чар и предчувствий, влекла Фатиме в густой сад, прилегавший к ее дому, но она медленно спустилась со ступенек крыльца и, легкая, как призрак, скользила к высокому плетню, прятавшемуся в чащи груш, черешен и слив, за которым притаился коваль Осман, только что перебросивший свой талисман за ограду.
***
А в это время, на бревнышке перед домом своего односельчанина, покуривая коротенькую трубочку, сидел Абу-Бекир. Два пожилых татарина о чем-то оживленно с ним беседовали, но в их речах чаще всего слышалось слово «рубль», как и у всех расчетливых и деловитых людей. Кругом по склону горы мигали огоньки в окнах белых домиков с плоскими кровлями, а впереди дымилась легким туманом и сверкала под лучами месяца серебристая речка с узким мостиком, перекинутым на другой берег. «Так не продашь своего чаира?», – говорил старичок с подстриженной седой бородкой и сморщенным лицом Абу-Бекиру, который, не вынимая трубки изо рта, сплевывал так величественно, с таким сознанием собственного достоинства, что сразу было видно, какой это богатый и значительный человек. – «И зачем же мне его продавать, – отвечал он, – когда я хочу его под табак пустить? Да знаешь ли, сколько он мне пудов даст?» – Абу-Бекир начал высчитывать. Глаза его собеседника разгорались: «Ама! Ну, хочешь пятьсот? Сейчас и магарыч запьем!» Но разговор их прервался, так как они заметили очень странную фигуру, которая к ним приближалась со стороны речки. Фигура, несмотря на свою толщину, выделывала такие уморительные коленца, пританцовывая и прищелкивая пальцами, что даже такие почтенные люди, как Абу-Бекир и его собеседники, не могли удержаться от громкого смеха. На плечах у приближавшейся фигуры, ярко залитой лунным светом, развивался старый, изодранный чекмень бурого цвета, вытертая барашковая шапка была сдвинута на затылок, а истоптанные туфли так болтались и шлепали, что удивительно было, как они держатся на ногах. Хитрые и злые глазки, горевшие, как угольки, и длинные порыжелые усы делали лицо этой странной особы очень похожим на лохматую морду шайтана. То был цыган Джелиль, которого, конечно, все тотчас же узнали. Он низко поклонился, приложил руку ко лбу, наговорил множество прибауток и, наконец, обратился к Абу-Бекиру: «Давай деньги – ворожить буду! Валлах, таллах, бисмиллах, – всю правду скажу!». Бекир, вероятно, обругал бы его, если бы в его годы и при его положении было позволительно ругаться, но Джелиль отвел его в сторону и стал ему говорить на ухо такое, что лицо Абу-Бекира сразу потеряло величественное и спокойное выражение. Он схватился за рукоять ножа, который торчал у него за кушаком, и через минуту они с цыганом исчезли за поворотом околицы, оставив в большом изумлении почтенных собеседников Бекира, которым он не сказал даже обычного «савлых».
Ах, эти досадные кузнечики! Они так трещать теплые ночи, что за их трескотней не слыхать ни шороха шагов по саду, ни страстных речей, ни поцелуев, звучащих иногда в густой, душистой траве под миндальными деревьями. Но все же тому, у кого чуткий слух, кое-что и тогда бывает слышно. Когда Осман прощался с Фатиме, ему показалось, будто в кустах соседнего орешника зазвучал злой, подавленный смех, словно сам шайтан смеялся там удаче какой-нибудь хитрой своей выдумки. Но Осман подумал, что ему почудилось, и, перепрыгнув через плетень, отвязал коня и поскакал по дороге. Долго он ехал, опьяненный счастьем, лаской, поцелуями и чудной тишиной этой ночи. Но вот он поворотил за высокий, обвалившийся и треснувший камень, и перед ним потянулось опять грустное, пустынное место. По сторонам теснились серые скалы, то черневшие глубокими впадинами, то ярко блестевшие своими голыми выступами на лунном свете. Дорога, ослепительно белая, как разостланная скатерть, была испещрена резкими, зубчатыми тенями растущих по бокам ее деревьев, ветвистые вершины которых неподвижно застыли в воздухе. И вдруг Осман заметил, что одна из этих теней движется и приближается к нему. Она сгустилась, выпрямилась, и Осману показалось, будто он видит женщину, идущую по дороге. "Кто бы это мог быть в такую пору, в таком глухом месте?", – думал он, и ему вспомнились страшные рассказы про колдунью Айше, которая скиталась по пустынным дорогам и набрасывалась на прохожих. Жутко стало ему, но он решился подъехать ближе и увидал молодую татарку, которая, низко опустив голову, шла к нему навстречу. Месяц ярко освещал ее стройную фигуру, и лучи его играли на золотых монетах и галунах ее наряда. Осману показалось, что две блестящих слезинки, словно капли росы, дрожали на ее темных ресницах. Он ее окликнул, но не получил ответа. Она только остановилась. Лошадь Османа захрапела и шарахнулась в сторону, но он ударил ее ногайкой и подъехал к женщине так близко, что стремя его касалось ее локтя. Она стояла неподвижно, опустив голову. Осман взял ее за подбородок и приподнял кверху ее лицо, желая взглянуть в него. Но от легкого движенья его руки голова женщины откинулась назад, и кровавая, глубокая рана открылась на ее перерезанном горле. Лицо ее находилось теперь прямо против месяца, и Осман узнал бледные, безжизненным черты своей Фатиме, которую он целовал нисколько минут тому назад.
«Так и зарезал ее Абу-Бекир», – сказал мне кофейнщик, мой старый знакомый, со слов которого я записал эту историю. «А видите ли вы того седого, как лунь, старика-шаира? Он часто приходит со своим сантуром ко мне в кофейню петь песни. Это Осман, который до сих пор не может позабыть свою несчастную Фатиме и ходит из села в село, из города в город, нигде не находя себе покоя. Да, может быть, вы не верите тому, что я рассказал? Если не верите, ступайте как-нибудь в месячную ночь на Ай-Васильскую дорогу: редкое полнолунье проходить без того, чтобы зарезанная Фатиме не явилась кому-нибудь из проезжающих. Такое страшное место!» – «А что же сталось с Абу-Бекиром?» – «С Абу-Бекиром? Э! Да он тогда же ушел в Турцию: туда много наших от солдатчины бегает. Только теперь наверно и он помер, – а в то время ему уже под шестьдесят было» – «А цыган Джелиль?» – «Ну, про Джелиля я вам как-нибудь в другой раз доскажу: с ним такое было, что и в самой страшной сказке не вычитаешь». Кофейнщик понес допитую мною чашку, чтобы наполнить ее снова, а я стал всматриваться в лицо старика-шаира, про которого я только что услышал такую странную историю. Короткая белая борода и седые усы закрывали его подбородок. Из-под густых бровей глаза горели странным блеском, устремленные куда-то вдаль. Вдруг глаза эти сверкнули необыкновенно: старик встрепенулся, схватил деревянные палочки и ударил ими по медным струнам своего сантура. Резкий дребезжащий звук пронесся по всей кофейне, и к нему присоединился дрожащий старческий голос, который излучал на мгновенье не иссякшую, почти юношескую силу и снова ослабевал, замирая на высоких нотах. Грустная песня лилась и звучала тоской безнадежной любви, безысходным горем, потом звенела восторгом торжествующего счастья, стихала в отрадном воспоминании о пережитых радостях и вдруг обрывалась страшным, потрясающим аккордом, который леденил ужасом сердце и заставлял вздрагивать слушателей. Так пел шаир Осман о своей незабвенной Фатиме.
______________
1 Сравнение арабских поэтов.
2 Чаир – огороженный, но еще не возделанный участок земли.
3 Шукар мануш – добрый человек, на наречии крымских цыган.
4 Достум – приятель, добрый человек, на наречье
5 Великая ночь Алькадра, которая упоминается в Коране.
АМУЛЕТ
Рассказ винодела
Я давно собирался навестить моего приятеля Б., хутор которого находился в нескольких верстах от Ялты. Почтовая тележка с рессорным сиденьем остановилась в облаках пыли и высадила меня у ворот покосившегося, колючего плетня, обсаженного низкорослыми деревьями. Плетень этот огораживал подошву зеленого холма, на крутизне которого стоял белый одноэтажный домик с балконом и решетчатой сушильней. Домик был покрыт черепицей и окружен молодыми, тонкими кипарисами. За ним по скату холма зеленели на дубовых кольях лозы виноградника, и виднелись темные кровли сараев. Внизу тянулась, спускаясь в овраг, грязная слободка, и над слободкой, над белым домиком, словно опрокинутая бухарская шапка, подымалась в отдаленье и синела своей лесистой вершиной гора Могаби. Едва я отворил ворота и взобрался на пригорок по дорожке, ведущей к хутору, на меня накинулись две злых, косматых собаки, но молодой татарин, выбежавший на их лай, отогнал их каменьями и проводил меня к небольшому крыльцу со стеклянною дверью. «Дома хозяин?» – спросил я у татарина, смотревшего на меня любопытными глазами. «Нету хозяина! – как бы с сожалением отвечал он. – Хозяин в Севастополь уехал.» – «Досадно, – думал я, – опять тащиться назад по этой жаре, глотать пыль и трястись в тележке?». Быть может, это было следствие усталости и раздражения, но я не жалел о том, что не увижу самого Б. Я собирался уже уехать назад, как за стеклом двери мелькнуло женское личико, дверь отворилась, и на крыльцо выбежала молодая девушка в синем обтянутом платье с широкими кисейными рукавами. Серые, живые глаза, пунцовые губки и белокурые волосы, падавшие на лоб, делали ее немного бледное лицо очень привлекательным. «Да вы не подождете ли? – весело обратилась она ко мне. – Семен Андреевич приедут завтра утром. Пожалуйте в комнату, – я сейчас прикажу вам самовар подать!», – и не дожидаясь моего ответа, она побежала распорядиться в кухню. Татарин отворил дверь, и я после минутного колебания вошел в просторную комнату с низким потолком, клеенчатым диваном, шкафом и круглым столом, над которым висела дорогая бронзовая лампа, странно оттенявшая простоту всей остальной обстановки дома. В окно виднелся голубой залив моря и синие, туманные горы. Скоро показался татарин с загорелым, красивым лицом, в серой куртке, подвязанной красным кушаком, и с ярко блестевшим самоваром в руках. На столе появились густые сливки и кизиловое варенье; но я должен был сам налить себе чай, так как молодая девушка, окружая меня всевозможным вниманием, сама не показывалась. На мой вопрос татарин с какой-то странной улыбкой, словно нехотя, ответил мне, что это экономка Б. Судя но имени, она была полька – звали ее Альбиной. Я не люблю полек – хитрые, неискренние, они умеют увлекать мужчин, затрагивая в них только грубую чувственность, но, признаюсь, я заинтересовался этой невидимкой, которая, как сказочная принцесса, оставляла меня одного в своем замке, в то же время наполняя его своим присутствием: на столе появлялись то сочные, белые или розовые, черешни, то сытный обед, то чай или кофе. Но предположения мои, в особенности о том, что хорошенькая Альбина была не только экономкой Б., кажется, были ошибочны. Вечером мне постлали постель в кабинете хозяина на жестком диване, над которым висели ногайка, кинжал и ружье в зеленом чехле. Мне не спалось. Душная южная ночь не приносила с собою прохлады, и досадные москиты, слетаясь на свет лампы, кусали лицо, шею и руки. Лукавые глаза Альбины, ямочки на ее розовых щеках, вспыхнувших во время короткого разговора со мною, и голубой корсаж, стройно охватывающий талию, вертелись передо мной и не давали заснуть. Я встал с постели и отворил окно. Темные деревья тихо шумели в саду, и вдали мигали бесчисленные огоньки города. Чтобы не проходить через другие комнаты, я вылез в окно и пошел по дорожке, спускавшейся под гору. С одной ее стороны тянулась дубовая рощица, с другой густой виноградник. Яркие звезды мигали на небе, и только стрекотание кузнечиков нарушало тишину молчаливой ночи. Где-то вдали, посвистывая, перекликались совки. Я люблю их однообразный, унылый крик. Он смутной тоскою отдается в одиноком, печальном сердце. Не свою ли милую, может быть утраченную, кличет к себе своим жалобным светом эта странная ночная птичка?.. Вдруг легкое ржанье послышалось мне в чаще соседнего кустарника, и я увидел оседланную лошадь, которая нетерпеливо переступала копытами, привязанная к дереву ременным чунгуром1. Очевидно, хозяин лошади, поставив ее вдалеке от строений, не желал, чтобы ее заметили. Кто знает, не на свиданье ли к хорошенькой Альбине приехал какой-нибудь удалой джигит из соседней деревни? Жгучее, ревнивое чувство зависти шевельнулось во мне при этом предположении, но я спешил успокоить себя догадкой, что, скорее всего, это приехал какой-нибудь знакомый к татарину, служащему на хуторе. Когда я проходил назад мимо дома, я заметил свет только в одном окне, которое было задернуто белой занавеской.
Едва я влез через окошко обратно в свою комнату, мни послышался с другого конца дома громкий крик, возня, стоны. Я сорвал со стены кинжал, сунул его за сапог и со свечей выпрыгнул в сад, чтобы узнать о случившемся, так как таинственная лошадь в саду, в связи с этим странным шумом, не обещала ничего доброго. Пробежав несколько шагов, я повернул за угол дома и увидел страшную сцену: один человек, оглушенный побоями, с красным от крови лицом, почти в бессознательном состоянии, барахтался в грязи у колес садовой бочки, а другой, сутуловатый, приземистый, в исступлении бил его ногами, бившего я узнал тотчас, несмотря на его всклокоченные волосы и налитые кровью, безумные глаза; это был мой знакомый айвасильский татарин Мустафа; лежал же на земле, кажется, прислуживавший мне хуторской татарин, – его лицо было до того избито, что нельзя было различить ни носа, ни глаз, ни рта. Он еще инстинктивно подымал окровавленный руки, пытаясь защититься от ударов тяжелых сапог Мустафы. Я хотел было кинуться на помощь к несчастному, но в это время увидел белую фигуру, уткнувшуюся в углу около лестницы. Это была Альбина. Заметив меня, она бросилась ко мне и порывистым шепотом умоляла, чтобы я защитила ее и спрятал куда-нибудь. Я поскорее загасил свечку и проводил Альбину в кабинет, но Мустафа уже заметил ее отсутствие и с ругательством бегал по нашим комнатам.







