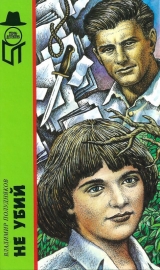
Текст книги "Не убий: Повести; На ловца и зверь бежит: Рассказы"
Автор книги: Владимир Полудняков
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Но и он больше ничего не уносил из дома и не поднимал руку на мать. Видно, пьяный-пьяный, а понял, что не она, так соседи, врачи или участковый отправят куда не надо. А ему и так не плохо. После больницы все продолжалось по-прежнему. Даже лучше стало. В шестьдесят восьмом мать оформила пенсию и подрабатывала – в столовой убирала. Денег побольше. Перешел на водку. Дороже, конечно, но и градусов побольше. Бормотуха, говорил, вреднее.
Прошло еще десять лет. Светлана Георгиевна постарела, стала совсем сдавать, но крепилась, держалась. Пыталась неоднократно женить сына, приводила знакомых старушек с их дочерьми. Одну-две встречи с Григорием они еще могли выдержать, но не более. Высокое самомнение и сознание собственной исключительности, какие-то фантастические представления о смысле жизни и его роли в ней, неудержимая тяга к алкоголю быстро сводили на нет интерес к нему потенциальных невест, и ни одна из них не захотела связать свою судьбу с этим взрослым, тридцативосьмилетним мальчиком.
Мать трудилась без выходных. Это позволяло ей реже бывать дома. Но главный стимул – содержать сына, не дать ему попасть в дурную компанию, а затем в тюрьму, – поддерживал ее силы, заставлял быть все время в поиске лишнего рубля. Она уже давно ничего себе из одежды не покупала, впрочем, так же, как и Григорию, которому наряды были ни к чему – никуда он не ходил, развлечений на стороне не искал. Находила кое-что прямо на улице: брошенные не очень старые вещи, отремонтированные, заштопанные ее умелыми руками, были вполне пригодны. Пустые бутылки, особенно часто попадающиеся в подъездах, на подоконниках лестниц, всегда обеспечивали ежедневный хлеб с молоком. Удавалось и неплохо подработать: расклеивать объявления для каких-то контор, подменить неофициально кого-нибудь в столовой. Работать где-то постоянно она не могла – не позволяло здоровье, да и сын часто давал поручения: найти то, принести се, узнать, где находится фирма, приглашающая специалиста. Визиты на предприятия удивляли кадровиков. Никто не понимал, почему вместо сына ходит престарелая мать. На этом заканчивались переговоры и выяснения условий будущего труда. Всем, и ей и им, было ясно, что подобный способ трудоустройства безнадежен. Такой работник, теоретик с запросами, никому не нужен. Обычно он ей говорил, что предлагаемая зарплата, его не устраивает. На ее разумные предложения получать хотя бы это, ведь он вообще ничего не имеет, отвечал, что работа тоже «не фонтан». Надо, мол, найти такое… такое… чтобы раз и навсегда. Для души и организма.
Систематические возлияния не могли не отразиться на его здоровье. Естественно, что желания нормально питаться уже не было. Вроде бы и не против поесть, а все остается на столе нетронутым. Но уж бутылка выжата до последней капли. Начал кровоточить геморрой, вспухла печень, вздулись вены на ногах. Не до спорта теперь, тем более не до свиданий. И опять у мамы новые хлопоты. К врачу Гриша не идет, а участковый врач появилась раза два, посмотрела, возмутилась тому, что здоровый лоб лежит за маминой спиной, и больше по вызову не пришла, не испугалась жалобы в поликлинику.
Семнадцать лет подряд Светлана Георгиевна держалась. Не в силах что-либо изменить, она уже не кричала, не плакала, не грозила. Молча готовила пищу, убирала, хлопотала. Лишь поздно вечером, затаившись в своей постели, закрыв глаза, вспоминала то далекое довоенное время и первые годы после войны. Ручонки и ножки сынка, его кудряшки, его милое лепетанье, когда стал ходить. Она засыпала в слезах и во сне продолжала видеть своего единственного сыночка – Гришеньку.
Два подвига в жизни она совершила ради него. Первый, когда спасла Гришеньку от смерти в блокаду. Второй, когда уберегла его от милицейских репрессий. И третий ей удалось совершить, последний подвиг. Многократные советы соседок по дому, разговоры со знакомыми, людьми на улице натолкнули ее на мысль обратиться к знахаркам. Несколько неудач не сломили ее волю, и, наконец, уплатив пенсию за два месяца, Светлана Георгиевна привела в дом средних лет женщину, черноглазую, с жестким лицом, в прошлом врача-психиатра, а теперь, с ее слов, «экстрасенса». Григорий, к удивлению матери, не артачился, посерьезнел. Чувствовал он себя скверно: два дня крутило в печени, не отпускала головная боль. Пробовал принять полстакана – все шло обратно. Женщина полтора часа беседовала с ним, один на один, в закрытой комнате. Она потребовала пройти диспансеризацию, сделать рентген, флюорографию и назначила вторую – последнюю встречу ровно через неделю, в то же время. Что она ему сказала, как убедила это сделать, Светлана Георгиевна не знала, но факт тот, что впервые в жизни Григорий предпринял неимоверные усилия и за пять дней выполнил заданное. А потом последовали еще полчаса уединения с нею, после чего Григорий уже никогда не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни одной капли спиртного, даже шампанского.
Все это случилось после семнадцатилетнего ежедневного пьянства, разрушительного и разъедающего. Казалось бы, началась новая жизнь: появился интерес к книгам, телепередачам. Появился вкус к еде, что увеличило расходы на питание. Но поскольку не надо было покупать водку, по бюджету это не ударило. Неизменным оставалось одно: Григорий Павлюченков не искал работу. Вернее, мечтал о ней, фантазировал о какой-то самостоятельной, индивидуальной деятельности, но так абстрактно и общо, что со стороны это выглядело странно: кто-то очень захочет иметь партнером этого замечательного парня, умного, энергичного, соображающего что к чему, умеющего из ничего сделать деньги. Этот подарок судьбы ждет предложений и, выбрав наилучшее, пожалуй, согласится. Только никто почему-то не звонил и не шел, а мать, которой он поручил выяснять у людей, где и что ему подойдет, не имела подобных знакомств и в итоге оказывалась в глазах сына главным виновником его безделья.
Светлана Георгиевна по-прежнему была главной добытчицей в доме. Всю пенсию забирал сын и выделял ей деньги на каждодневные покупки, чтобы продукты были свежие, сегодняшние. Хорошо, что у пенсионеров проезд бесплатный и она ездила по разным местам, чтобы где-то что-то купить подешевле. Сэкономив немного, старая женщина позволяла себе изредка купить кренделек или шоколадку и тут же съесть. Для нее это было не потребностью желудка, а ритуалом, чтобы вспомнить те первые счастливые годы перед войной и после нее.
Иногда к Григорию приходили женщины, всегда старше его, уверенные, дерзкие, не стеснявшиеся того, что сын тут же отправлял мать на улицу часа на два, на три. Как он их находил, было загадкой. Сам-то на улице почти не бывал. Наверное, по телефону. Они видели хорошую трехкомнатную кооперативную квартиру, чистоту и порядок, не богатую, без деликатесов, но сытную, свежую пищу. Наверное, строили какие-то планы. Но Гриша не давал им ни малейшего шанса на устройство семьи, и через очень короткое время связь обрывалась. Все было логично – он не мог обеспечить будущую семью и поэтому не планировал обзаводиться ею в ближайшее время.
Мама и в этом решила помочь сыну. Совершив невозможное – превратив пьяницу в бестабачного трезвенника, она была уверена, что теперь такой красивый, холостой, без детей парень не может не стать желанным мужем для порядочной девушки. Многочисленные знакомые доставали ей адреса, фотографии незамужних, разведенных, с детьми и одиночек, постарше и совсем юных, но Светлана Георгиевна не углублялась в изучение личных качеств претенденток. Все они были либо из общежитий, либо из коммуналок, и она понимала, что основной интерес у них – квартирный. Но однажды старая подруга Клава познакомила ее со своей внучкой Эльвирой, восемнадцатилетней девушкой, студенткой первого курса медицинского училища. Понравилась она Светлане Георгиевне своей скромностью. Правда, опять же не местная, без жилья. Она из Лодейного Поля, где с матерью имеет комнату, а здесь живет у бабки тоже в многолюдной, с пятью соседями, квартире. И дохода никакого не будет, разве проживешь на стипендию… В общем, Павлюченкова вполне осознанно пошла на это знакомство, несмотря на будущие материальные трудности, неизбежные для нее. Главное, чтобы у Григория была своя семья. Глядишь, появится у него самостоятельность и ответственность.
Такая большая разница в возрасте сына и будущей невестки ее не смущала. Гришенька-то для нее всегда оставался мальчиком. Да и случаев таких сколько угодно, очень часто это счастливые браки. Лишь бы все у них было хорошо. А Грише давно пора иметь своих детей. Не смутило ее, что в первый же вечер Эльвира осталась ночевать: дело молодое, понравились друг другу. На следующий день подали заявление в ЗАГС. Через месяц зарегистрировались. Свадьба была скромной и немноголюдной. Приехала мать Эльвиры, неразговорчивая, замкнутая женщина, посидела часок за столом сестра Светланы Георгиевны Екатерина, с которой они давно не встречались. Екатерина считала, что сестра неправильно воспитывает сына. Да и у самой-то у нее была масса проблем с детьми и внуками. Несколько оживили компанию две студентки, подружки невесты. Но и они сникли, так как никого из друзей Григория не было, за отсутствием таковых.
В первые же месяцы молодожены попытались изменить быт. Переставили мебель, завели попугайчика, стали ходить в кино и на прогулки. Как и раньше, основным и единственным источником финансов были пенсия и приработок Светланы Георгиевны. Но ведь она знала, на что шла, и радовалась, что Гриша расшевелился, начал искать работу. Он читал объявления, кому-то звонил, куда-то ездил. Говорил, что вот-вот будет что-то солидное. И действительно, через полгода стал подрабатывать. Не каждый день, но все же два-три раза в неделю, не деньгами, так продуктами какая-то фирма с ним рассчитывалась. Ей, блокаднице, такое даже больше нравилось. Пережив блокаду, она с трепетом относилась к любой еде, как символу жизни и спасения. Когда Светлана Георгиевна размачивала в чае кусочек батона трехдневной давности и с удовольствием его съедала, молодежь ее не понимала. В какое время мы живем, говорили они, неужели нельзя есть мягкое, свежее, а сухари – выбросить. Нет, отвечала она, все это стоит денег и труда. А чтобы сын или невестка действительно не выбросили остатки еды на помойку, она их прятала и незаметно вечерком или рано утром, когда они еще спали, потихоньку съедала.
Нет, скупой старая женщина никогда не была. На еду денег не жалела. В доме всегда были сыр и колбаса, мясо и рыба, а к чаю пряники, нередко вафельный тортик. Другое дело, каких усилий ей стоило найти это все подешевле, чтобы хватило на каждый день. Григория и Эльвиру это не интересовало, а мать уже давно жила в своем мирке, не откровенничая с ними. Заботиться о сыне и его жене Светлана Георгиевна считала своим естественным, неоспоримым материнским долгом. И потом, когда между супругами возникнут нелады, она все равно будет их опекать. Сама же свела их вместе, оправдывалась перед собой, пусть живут, как хотят.
Через год родился внук, слабенький, бледненький: сказался недостаток фруктов и витаминов. И на плечи бабушки легла еще одна забота. Приносить детское питание, – своего молока у Эльвиры было мало. Стирать пеленки, – в суете молодые не успевали. Готовить на всех также пришлось ей. Первое время после свадьбы готовила невестка, теперь же стало не до того. В семье накапливались усталость, недосып, раздражение. Денег не хватало. Светлана Георгиевна реже ходила на приработки, ведь в доме она была нужнее. Григорий стал упрекать ее, что больше тратит на еду. Пыталась она ему объяснить, что нет у нее времени, как прежде, ездить по всему городу, искать что где подешевле. Что надо побыстрее возвращаться домой. А все равно оставалась виноватой. Молча, безропотно уходила от скандалов, не обижаясь на явную несправедливость. Видела, что им тоже трудно, что без нее им трудно.
… Еще десять лет протянулось, кое-как прожито, вспомнить нечего… Подрос внук, Владик. К бабушке он был ближе, любил слушать ее бесхитростные сказки да истории из войны. От сына и невестки ни заботы, ни ласки, ни доброго слова. Слабела бабулька. Когда за семьдесят, время останавливается, жизнь сужается до очень мелких, одних и тех же повседневных задач. Григорий терпел присутствие матери, потому что она, как и все последние годы, была источником регулярных финансовых поступлений. Получая приличную пенсию, которой ей одной хватило бы на безбедную жизнь, Светлана Георгиевна давно уже не считала ее своей. Из рук почтальона деньги тотчас переходили сыну, и он считал, прикидывал, сколько выдавать на день. Изредка удавалось где-то что-то раздобыть, но совсем немного: то бесплатные ботинки по талону для блокадников, то гуманитарную помощь для пенсионера да наборы и деньги к юбилейным датам.
Светлана Георгиевна не думала о смерти. Чувствовала, знала, что осталось недолго, но ни разу не задумалась, как и что будет… Накоплений у нее не было, на черный день, на похороны, как это делали многие старые люди, не откладывала. Не было для этого никакой возможности – все сразу же уходило на семью сына.
Как только внук подрос и пошел в школу, ненужность бабушки стала очевидной. Он уже мог обходиться и без нее. Невестка работала медсестрой в больнице. Григорий хоть и не постоянно, но порой мог где-то подхалтурить. И в день зарплаты, когда на ближайшую неделю появлялся достаток, это становилось особенно ясным. Она видела мрачные лица сына и невестки и все понимала, – она им мешала жить. Если бы не пенсия, последняя ниточка, связующая ее с домом, возможно, однажды ее не пустили бы в собственную квартиру. В своем доме, со своим сыном она чувствовала себя чужой. Ему уже пятьдесят, можно сказать за экватором жизни, но никакой от него пользы ни себе, ни другим. Умные, грамотные люди – соседи, советовали Светлане Георгиевне разменять квартиру, ведь она собственник и могла бы ни в чем не нуждаться. А если захочет, квартира не пропадет, достанется сыну как наследство. Не согласилась. Лишь однажды заколебалась, когда лет пять тому назад сын с невесткой намекнули на дом престарелых. Но отвергла эту дикую мысль по причине очень простой, но для нее чрезвычайно значимой. Светлана Георгиевна заметила, что Эльвира начала меняться в отношении к мужу. Молодая, крепкая, она все увереннее держалась в доме, и уже видно было, кто тут хозяйка. Григорий, непьющий и некурящий, вдруг стал жаловаться на недомогание, тяжесть в печени и тягучую боль в ногах. Как-то в запале, не стесняясь свекрови, Эльвира сказала, как отрезала, что могла бы в свое время выйти за молодого и здорового и не нищенствовать столько лет. Григорий безвольно проглотил этот упрек, а мать насторожилась и подумала: чем дольше она будет с сыном, тем надежней сохранит ему здоровье и поддержит мир в доме. Это была для нее спасительная идея, – несмотря ни на что, она ему нужна!
Мать не определяла для себя такие категории, как долг, самопожертвование, даже слово любовь не упоминалось ею ни разу. Она жила для сына, не считаясь с мнением окружающих, осуждавших ее за наивность, безропотность, отсутствие гордости и достоинства. В ее сознании не было места для соизмерения отданного и получаемого. Не смогла бы она назвать, обозначить словами то, что побуждало ее жить, с точки зрения ближних и дальних, так неразумно.
Однажды в очереди за молоком и сметаной ей рассказала свою историю женщина, недавно потерявшая сына. Его, тридцатилетнего, на переходе насмерть сбила иномарка. Водитель был пьян. Он попытался скрыться и так, с концами бы, и исчез, если бы не врезался в трамвай. Его судили и дали пять лет. Родственники осужденного предложили ей крупную сумму, чтобы она написала заявление с просьбой смягчить приговор. И эта женщина согласилась. Сына уже не вернешь, говорила она, а у того мужика двое детей. Правда, от разных жен, а сам он не работает.
Светлана Георгиевна ничего не сказала, только подумала, что в память о погибшем сыне ни за какие деньги не пошла бы на такое предательство. Так невольно, без высоких слов она нашла в себе тот стержень, который держал ее стойко, без колебаний: дать жизнь ребенку – значит, уберечь его от греха, не дать пропасть и не предать. Ценой собственной жизни и благополучия. И считала себя счастливой. Ведь сын всегда был и есть самый красивый, не пьет, не курит, имеет семью и долгожданного ребенка, обеспечен жильем. А пока она жива, прокормятся. В этом она видела свое предназначение и свою значимость.
Павлюченкова Светлана Георгиевна, каких великое множество, никогда не пыталась теоретически осмыслить и практически обосновать свою жизнь. В этом была ее сила и слабость. Воспитав сына-потребителя, она не могла не видеть, не чувствовать, что ее забота обернулась бедой. Беспомощный и расчетливый, ленивый и эгоистичный сын был таким, потому что всегда имел возможность жить за счет матери и отца. Сумев при этом не допустить сына до края, за который запросто переступали и падали в пропасть люди подобных душевных качеств, она полагала, что уберегла сына для счастливого будущего.
Она жалела молодых, не только своих – любых. Знала, что теперь старых не очень-то жалуют, воспринимают как что-то лишнее, докучливое, присутствие которых приходится терпеть. Немного времени пройдет, и все они уйдут. Вон какие они слабые, передвигаются, как тени. А молодые еще не догадываются, не верят, что жизнь пролетит, как миг, и что сами скоро, ахнуть не успеют, станут такими же. В любом колченогом, с клюкой, старике, сгорбленной, подслеповатой и глухой старухе, при желании можно разглядеть черты погасшей красоты. Трудно поверить, видя слабость, ущербность больной старости, что многие из них в прошлом соблазняли и сами сгорали в огне любви. Трудно представить их красивыми, стройными, мускулистыми. Все зависит от того, какими глазами смотреть на них. Равнодушными или заинтересованными. Как на движущийся живой посторонний предмет или дошедшую до нас живую историю.
Жалость ее к молодым проявлялась самым неожиданным образом. Однажды в ее подъезде на лестнице, на ступеньках, расположились пятеро ребят лет шестнадцати. Три парня и две девицы. Трезвые, дерзкие, они сидели так, что пройти было невозможно. Увидев старушку, один нехотя наклонился в сторону, вынуждая таким образом переступить через него, и при этом ухмыльнулся. Светлана Георгиевна молча остановилась и посмотрела в глаза этому парню. Подружки хихикнули, а парни осклабились, ожидая привычных слов об уважении к старшим, о том, какая нынче распущенная молодежь, что сейчас позовут милицию и тому подобное. Но в глазах этой маленькой, чистенькой старушки, кроме жалости к ним, они ничего не увидели. Она сочувствовала им. Они были красивы, сыты, хорошо одеты, но им некуда было деться, нечем заняться. Наверное, их и дома не очень-то ждали. Они были одни, хоть и в компании. Павлюченкова спокойно, с интересом спросила, хотели бы эти мальчики и девочки, чтобы их будущие дети также сидели на лестнице и также бесцельно убивали время. Она была уверена, знала, что даже самый опустившийся человек – вор, наркоман, проститутка – не хочет, что бы его ребенок имел те же пороки, жил такой же жизнью. Но тут был другой случай. Они не хулиганили, не приставали, не были пьяными, просто сидели и не давали пройти. Подростки насторожились, ожидая обычного продолжения: криков и угроз. Но Светлана Георгиевна молчала. Тогда один из них грубо ответил, что они сами дети и о каких, мол, еще детях идет речь. Он покрутил пальцем у виска, но охота покуражиться над старушкой явно пропала. Ребята подвинулись, и Светлана Георгиевна прошла в узкий просвет между ними. Спиной чувствовала их холодные взгляды.
Обижает подросток девочку, гоняют парни собачонку – не пройдет мимо, а остановится, своим молчаливым присутствием пресекая разнузданность, безразличную многим взрослым прохожим. На улице, в магазине, в метро – везде она остро воспринимала чужую боль, забывая о собственных обидах. Уходя от пьяного сына, часами бродила вокруг дома, а в непогоду, где-нибудь притулясь, наблюдала за людьми и видела многое, замечала то, что не замечают другие, ушедшие в себя, зашоренные своими проблемами, люди.
Бывало, увидит одинокую старушку с голодными глазами, которая стоит рядом с крутобокой, гладкой ларечницей, и если не может рублем поделиться, то все равно подойдет к ней поговорить о жизни, посочувствовать. Потеплеет собеседница, оттает сердцем, и еще часть пути бредут вместе.
А еще было: как-то раз в садике человек пятнадцать выпускников школы шумно отмечали последний звонок. Бутылки шампанского ходили по кругу. Юноши и девушки прикладывались к горлышку, передавая следующим. Стайкой они оседлали две скамейки. Одна девушка внезапно сорвалась со спинки и штопором воткнулась головой в землю. Каким-то чудом она не ударилась в бетонный поребрик газона в полуметре от скамьи. Компания рассмеялась: «Вот Анька, дает!» Девчонка лежала без движения. Светлана Георгиевна подошла к ней, подняла голову. От Ани шел густой винный запах. От удара она потеряла сознание. Одноклассники продолжали смеяться: «Очухается. Подумаешь, с метра нырнула вниз. Она у нас спортсменка. Еще не так летала с бревна». Павлюченкова с трудом подняла легкое тело и посадила девушку на скамейку. Через минуту та, действительно, открыла глаза, криво улыбнулась и протянула руку к бутылке шампанского, но тут же завалилась на бок. Ее вырвало. Приехавшие по вызову Светланы Георгиевны врачи скорой помощи установили сильное сотрясение мозга. Парни и девчонки к тому времени разбежались…
Она никогда не задумывалась, почему и для чего так поступает. Совсем это было не похоже на то, как поступали вокруг нее другие люди, равнодушно и отчужденно пробегавшие мимо. Несуетность, какая-то внутренняя сила и убежденность, ею не сознаваемые, составляли ее суть.
Возраст, переживания о сыне, постоянные простуды не могли не отразиться на ее здоровье. Сначала случились два сильных приступа сердечной астмы, потом перенесла на ногах воспаление легких, потом микроинсульт. Светлана Георгиевна никогда не увлекалась лекарствами, редко обращалась к врачам и теперь, не долечившись, продолжала нести на себе домашние заботы. Семья Григория по-прежнему была из них самой главной.
В августе, накануне ее дня рождения, Светлану Георгиевну сразил тяжелый инсульт. Она упала лицом в землю – единственный неасфальтированный кусочек дороги. Пять дней лежала в городской больнице без сознания. Григорий и невестка по разу посидели около нее по полчаса и больше не появлялись, узнав от зав отделением, что мать безнадежна. Скончалась Павлюченкова тихо, незаметно. Соседи по палате и врачи обнаружили этот печальный факт часа через два.
Похороны оплатила сестра Екатерина, истратив большую часть своих «гробовых». Григорий и невестка на кладбище пришли без цветов. Это был первый и последний визит на могилу. Их скорбные лица выражали удрученность тем, что семья без регулярной хорошей пенсии матери лишалась значительной доли бюджета.
Эйфория первых дней, когда они стали полными хозяевами в своем доме, когда не стало раздражающего кашля, шарканья и укоризненных взглядов, прошла. Холодильник быстро опустел, незаметно накопились неоплаченные квитанции ЖСК. Донимало своими грозными напоминаниями телефонное ведомство. Дохода не было, так как не было работы. Случайные заработки Григория снимали проблему только на два-три дня. Без привычной поддержки матери, не имея специальности, Григорий крутился, как мог. Нараставшие, как ком, заботы, запросы жены и сына Владика давили на психику. Он так и не устроился на постоянную работу, хотя такая возможность возникала не раз. Невысокая зарплата оказалась только отговоркой. На самом деле Павлюченков скисал от одной мысли, что нужно рано вставать, куда-то ехать, кому-то подчиняться, соблюдать какие-то правила.
Надежда на «авось», уверенность в том, что кто-то будет им очарован и предложение большого доходного дела последует вот-вот, завтра, послезавтра – эти фантазии стали сутью его мышления. Вся линия его поведения определялась убежденностью в своей значительности. А если его недооценивают, то и пусть, им же хуже.
И тут оказалось, что его самое слабое место в жизни – его тылы, его семья. Шестнадцатилетний Владик, окончив школу, уверенно пошел по пути отца – не устроился на работу, не пытался поступить в техникум или институт, решил отдохнуть перед армией. Жена, еще молодая женщина, заявила, что хотела бы завести второго ребенка – девочку. После слов мужа о том, что нечего «нищету плодить», закатила истерику с битьем посуды. Крупные скандалы с бранью и криком начались давно. Последние три года отношения в семье были натянуты до предела. Владик встал на сторону матери. Он видел, как старел отец, как, в отличие от других, не мог обеспечить достаток в семье, порадовать своих подарком или просто деньгами «на карманные расходы».
Перевалив за полста, Павлюченков резко сдал. Его физическая слабость, особенно на фоне здорового, рослого сына, становилась все очевидней. Упреки и насмешки жены, вначале вызывавшие обиду, гнев, превратились в ту обыденность, с которой он уже смирился. Как-то он попытался напомнить, кто здесь главный, но Владик, тогда еще восьмиклассник, так тряхнул его за плечи, что Григорий головой стукнулся о шкаф. Он мог тогда еще как-то ответить, но рядом с сыном встала напряженная, с закушенной губой жена, то ли с толкушкой, то ли с палкой для белья в руке. В этот момент Григорий понял, что жена ему не союзник, и твердо решил – детей больше не будет.
Только теперь он стал иногда вспоминать отца и мать. Казалось, что прошлое повторялось. Он видел в сыне себя, а в себе родителей и удивлялся, как мама могла выдерживать такое всю жизнь, и не только везти на себе воз житейских забот, но и сохранять хрупкое семейное равновесие, не дав перехлестнуть эмоциям через край ни разу в жизни. Он сравнивал себя с матерью и видел, что сравнение не в его пользу.
Между тем нездоровье совсем скрутило его. Частые «халтуры» в непогоду привели к хроническому бронхиту. Обострился гастрит. Давний геморрой от нервных и физических перегрузок постоянно кровоточил. Но самое серьезное, как сказали врачи, – циррозные изменения в печени, последствие семнадцатилетнего алкоголизма и варикозные вены, вздувшиеся причудливыми извилистыми канатами на правой ноге. Таблетки не помогали, об операции не могло быть и речи. Денег на оплату лечения и ухода не было. В чем повезло, так это в получении инвалидности. Какие никакие, а все же деньги. Небольшие, но регулярно. Но как говорят, деньгами здоровья не поправишь, особенно когда их нет. А оно между тем ухудшалось. Григорий уже не мог ходить без палочки. Закончились и приработки. С таким букетом болячек можно было бы еще работать в охране, но к тому времени началась никому незнакомая безработица и более молодые и здоровые с удовольствием заняли места с суточным дежурством и тремя выходными.
В глазах жены и сына Павлюченков увидел свой приговор – он стал обузой. Только теперь, через много лет, он понял, каким балластом, тяжестью он был для матери, но никогда, ни словом, ни взглядом она не попрекнула его, молча тянула лямку. Однажды он решил сходить на могилу к родителям. Еле-еле добрался до кладбища. Проплутав с полчаса и не найдя могилы – за десять лет напрочь забыл место, – в изнеможении присел на чью-то надгробную плиту и заплакал. Дойти до конторы и вновь проделать путь к могиле не было никаких сил. С трудом приехав домой, отлеживался полтора дня.
С тех пор Григорий Павлович решил: ничего изменить нельзя, судьба распорядилась так, что никому он не нужен. Это расплата за его отношение к родителям, особенно к матери. Он даже почувствовал облегчение от этой определенности. Так уж устроен человек: обосновав причину страданий как вполне заслуженное и неизбежное, непреодолимое наказание, становится проще жить, а вернее доживать оставшиеся годы, а, может быть, и дни.
Но не суждено было Григорию Павловичу долго пребывать в таком благостном умиротворении. Все чаще он стал ловить на себе какие-то странные взгляды Эльвиры, ускользающие, вороватые. С кем-то она часто говорила по телефону, игриво так, несерьезно. Раза три появлялись в квартире хорошо одетые мужчины. На вопрос, кто такие, коротко ответила: «Общественность». Сын вообще не обращал на отца никакого внимания, сутками сидел, запершись в своей комнате, с наушниками плеера на голове.
Но все бы ничего, если бы Павлюченков не почувствовал ухудшения. Он стал буквально разваливаться – что бы не поел, все идет обратно. Вкус еды, самой простой, – вареной картошки, какой-то металлический. Его стали сопровождать подозрительные запахи. А когда после обеда схватило живот так, будто в желудок вбили гвоздь, Павлюченков понял: здесь жить ему не дадут, замучат медленно, но верно.
Так он оказался у Морского пассажирского порта. Трудно было начинать, места все распределены. Деды, старушки, инвалиды – каждый имел свой участок. За порядком следил мордоворот «Аркан», собирал с них дань. Он же договаривался, чтобы их гоняли не часто, чтобы успели за два-три часа получить от туристов центы, сантимы и прочую мелочь. К тому времени Павлюченков отрастил бороду, сгорбился, усох и, заняв, наконец-то освободившееся после смерти Маруси бесфамильной, место на краю площади, смотрелся весьма экзотически. «Аркан», оценивающе окинув его взглядом, определил таксу, в пять раз превышающую пенсию Григория. И не ошибся. Того, что оставалось, вполне хватало на завтрак, обед и ужин. Других потребностей у Григория Павловича уже давно не было. Добротной одежды для новой профессии не требовалось. Пенсию он получать перестал: делала это Эльвира.
Дома Павлюченков бывал только ночью. Приходил после полуночи – надо было дожидаться туристов из театров и ресторанов, а уходил в шесть утра. Пока доковыляет, гости как раз начинают выходить после завтрака из своих плавучих отелей. Его устраивал такой режим: месяцами не видел Эльвиру и Владислава, не нужно даже на кухню заглядывать. Пяти-шести часов сна было вполне достаточно, так как на «работе» почти всегда удавалось вздремнуть.
Несколько раз милиция забирала Павлюченкова за попрошайничество. Документов при нем не было. Фамилию и адрес скрывал. Продержав в спецприемнике неделю-другую, отпускали, жалея его. Алкоголиком он не был, это видели все, а больной и старый человек, вынужденный жить на подаяние, всегда вызывал к себе сочувствие. Лишь бы не был наглым, не приставал к туристам, не вызывал своим видом омерзения.








