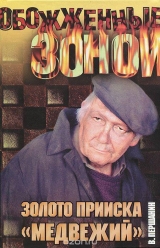
Текст книги "Золото прииска «Медвежий»"
Автор книги: Владимир Першанин
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
– Чего болит, Малек? – насмешливо спросил один из них, тасуя колоду.
– Да вот поскользнулся, башку зашиб.
– Осторожнее надо. Запасную не пришьют. Курить есть?
– Нет…
– Ну тогда спи, – потерял он ко мне интерес.
А вот заснуть я как раз не мог. Болела голова. Громко кашлял зек, накрытый одеялом, переругивались между собой картежники. Но самое главное: меня не отпускал страх. Я тупо соображал: что мне делать? Идти и все рассказать начальнику лагеря Нехаеву? Пока будут разбираться, меня пришибут и не поможет никакая охрана. Бежать? Куда? В тайгу, тундру? Я сдохну там от голода.
Не знаю, чем бы закончилось пребывание в санчасти и куда бы я кинулся от безнадежности и отчаяния, но поздно вечером меня навестил Шмон. По чьему-то указанию я был переведен в изолятор, и разговор у нас состоялся один на один. Он передал привет от Захара и сказал, что меня пытались избить по ошибке. Кто-то настучал на Марчу, и он две недели отсидел в карцере. Так вот, якобы решили, что это я настучал.
Я не помнил, сидел Марча в карцере или нет, но кивнул головой. Шмон был слишком большой шишкой, и я мог только кивать в ответ.
Теперь будто бы Марча во всем разобрался, стукача нашли и наказали. А мне вот прислали передачку. Шмон вытащил из-за пазухи полбуханки хлеба, пакетик с сахаром и пачку махорки.
– Ты парень свой, – откровенничал со мной четырежды судимый Шмон. – Держись к нам поближе. Захар тебя уважает. Из санчасти выпишут, приходи, отпразднуем твое выздоровление. И главное, громче молчи! Обо всем молчи… кто бы ни спрашивал. Хоть начальник лагеря, хоть Олейник. Тогда будешь жить. А если сболтнешь хоть одно лишнее слово, то сам понимаешь…
Я понимал, что должен молчать. Но я не верил Шмону, как не верил и лагерному начальству, что оно сумеет меня защитить. В глубине души теплилась надежда, что меня больше не тронут. Со мной поговорили, я пообещал молчать и до сих пор никому не сказал ни одного лишнего слова. И в то же время я чувствовал, что кое-кому очень мешаю. Теперь я оставался единственным свидетелем из тех, кто знал о золотой россыпи на Илиме.
Через день меня навестил сам Захар. Принес еще хлеба, махорки и тоже сказал, чтобы я ничего не боялся и молчал. И я ему поверил – просто не было другого выхода. Закрыв глаза и уши, я цеплялся за соломинку…
Моя забинтованная голова привлекла внимание начальства. Меня навестил молодой лейтенант-оперативник и заполнил подробное «объяснение», в котором я сообщил, что поскользнулся сам, без чьей-либо помощи, и претензий ни к кому не имею. На этом расследование закончилось. Будь на месте лейтенанта Иванова начальник оперчасти капитан Катько, все наверняка повернулось бы по-другому.
Катько работал в лагерях с сорок пятого года, и он бы копнул глубже. Поинтересовался бы, почему безвестного зечонка по кличке Малек решили лично прибить двое авторитетных урок Марча и Шмон.
Но в связи с закрытием прииска капитан Катько почти все время проводил на участке, возле драги и складов. Выявлял золотые захоронки, которые скоро начнут выкапывать и готовить к переправке на новое место. А спрятанного золота за шестнадцать лет эксплуатации «Медвежьего» вокруг прииска хватало. Поэтому капитану было не до меня, и происшествие в бане осталось почти не замеченным.
6
За пять дней я вполне оклемался. Вволю выспался, немного отъелся молочной кашей, которую раз в день давали в санчасти, и вернулся на свой дизельный участок.
Если лейтенант-оперативник с легкостью поверил, что сотрясение мозга я получил случайно, то старых прожженных зеков Олейника и Волкова обмануть было куда труднее. Выдворив из будки деда Шишова, они устроили мне долгий перекрестный допрос.
– Живой? – осведомился Иван Олейник.
– Живой…
– Тимофея благодари. Не он, так давно бы тебя закопали. Так что у тебя за дела с Марчей и Шмоном?
– Решили поиздеваться, – выдал я заранее подготовленный ответ. – Вы же знаете, какая у них натура паскудная?
Тимофей Волков смотрел на меня насмешливо и недоверчиво:
– Ладно, в бане ты шлепнулся случайно, и случайно едва не разбил себе башку… Не абы кто, а Марча и Шмон тобой заинтересовались. Кто за ними стоит, ты знаешь?
Я молчал, понуро глядя себе под ноги. На столе под шапкой прел, доходя до кондиции, чифирь в литровой жестяной банке.
– Знаешь или нет? – повысил голос Волков. В проницательности Тимофею было не отказать. Он копал в нужном направлении.
– Знаю. Дега и Захар.
– А за Дегой и Захаром?
– Алдан.
– Так расскажи нам с Иваном, чего же ты натворил, что тебя главные лагерные чины пришить желают?
– Не знаю, – плаксиво отозвался я. – Ей-богу, не знаю.
– А ты вспомни, – посоветовал Олейник.
– Да нечего мне вспоминать. Никому ничего я плохого не сделал.
– А я говорю, вспомни!
Перегнувшись через стол, он приподнял меня за шиворот и замахнулся своей огромной лапой. Я зажмурился. Олейник не на шутку разъярился. Ему надо было знать правду, потому что я работал в его бригаде, и все, что касалось меня, могло отразиться и на нем.
Олейник боялся получить из-за меня пику в бок именно сейчас, когда за ударный труд ему скостили четыре года, с ним вместе жила семья, и оставшиеся двенадцать лет срока уже не казались безысходно долгими.
Не меньше его имел право знать правду Тимофей Волков, который пошел на открытое столкновение с блатными из лагерной верхушки. Неизвестно, останется ли оно без последствий…
– Ладно, оставь его, Иван, – потянул он Олейника за руку. – Ему и без тебя досталось. Давай-ка посидим и покумекаем, что же происходит.
Олейник, встряхнув, отпустил меня, и я открыл глаза. Бригадир, багровый от злости, сворачивал самокрутку. Махорка сыпалась между пальцев.
– Ты гляди, что получается, Иван Григорьевич, – неторопливо говорил Волков. – Сначала повесился Лунек. Все знают, что у него гуляла жена и он когда-то уже пытался вешаться. Никого эта смерть не удивила. Оставим его в покое. Теперь насчет латыша!
Я тоже закурил из кожаного расшитого кисета Волкова, лежавшего на столе. В дверях показалась лысая голова деда Шишова.
– Дождь там, Иван Григория…
– Под навесом посиди. Не околеешь!
Деду до смерти хотелось узнать, о чем идет разговор. Готовилась очередная партия на отправку, и Шишов подозревал, что мы тайком делим места. Кроме того, деда беспокоили упорные слухи, что все оборудование нынешней осенью вывезти не успеют, и несколько десятков зеков оставят на «Медвежьем» до весны.
– Я супчику хотел поставить. Пшенки немного расстарался, масла растительного… И Тимофей Иваныч с нами, значит, перекусит.
В последние недели дед изо всех сил лебезил перед Олейником и даже перестал жрать в одиночку, делясь с нами продуктами, которые ухитрялся добывать на левых заработках.
– Иди, иди, потом поставишь, – нетерпеливо махнул рукой бригадир.
– Итак, Слайтис, – загнул второй палец Волков. – Кадр еще тот! Кроме своих земляков-прибалтов, никого за людей не считал. Мог напороться на пику из-за собственного гонора или, скажем, кому-то понадобилось место в хлеборезке. Согласен?
Тимофей обращался исключительно к Олейнику, пока ни о чем не спрашивая меня.
– Согласен, – кивнул Олейник.
– Идем дальше… Проходит две недели, внезапно умирает Мишка Тимченко. И здесь, казалось бы, ничего особенного. Сколько народу в прошлом году древесным спиртом отравились?
– В декабре сразу четверо и один ослеп.
– А в этом?
– Весной санитар Бычков умер, ну и Мишка с Сорокой.
Тимофей задумчиво пощелкал пальцами.
– Мрут люди от спирта… Но меня другое интересует. Почему умирают один за другим те, кто в апреле ездили снимать пробы на Илим. Лунев, Слайтис, Кутузов. И, наконец, наступает очередь Малька. Первая попытка оказалась неудачной – я помешал. Но они повторят снова, будьте уверены.
Я сглотнул слюну, чувствуя, как быстро колотится сердце. Страх опять сковывал меня.
– Так что там на Илиме случилось, Малек?
– Ничего не случилось…
– Врешь.
– Не вру.
– А почему ваша компания, которая на Илиме побывала, почти вся мертвая?
– Откуда я знаю, – продолжал тупо отнекиваться я.
– Мне сдается, все ты знаешь, но боишься рассказать. – И жестко добавил: – А чего тебе бояться? Тебя все равно пришьют. Не сегодня, так завтра. Если эти ребята дело начали, они его обязательно закончат.
Волков сидел набычившись, вытянув вперед узловатые кисти рук. Извилистый шрам, пересекавший левую скулу и висок, налился красным. Он впивался в меня сощуренными, горевшими злобным упрямством глазами. Вот так же полтора десятка лет назад Волков допрашивал пленных партизан, с крестьянской дотошностью докапываясь до истины?
Да, Волков спас мне жизнь, но в этот момент я его ненавидел. Я, как щенок, хотел пересидеть опасность в темной норе, где бы меня никто не трогал, а Полицай вытаскивал меня из этой норы.
Я смертельно боялся Дегу, Захара, Шмона и всю их компанию. Они обещали меня не трогать, если буду молчать, и в этом я видел сейчас свое единственное спасение.
– Вы что-то там нашли? – загонял меня в угол Полицай. – Золотой самородок?
– Нет.
– А что тогда? Россыпь? Да не зыркай по сторонам, смотри мне в глаза!
Я не зыркал по сторонам. Я завороженно смотрел на Волкова и в моих глазах, видимо, плескался такой страх, что Тимофей, смягчившись, погладил меня по плечу:
– Ну не хочешь – не говори…
– Пусть не говорит, – облегченно подхватил Олейник.
Олейник и Волков хотели знать, в какой степени опасность, грозившая мне, касалась их самих. Я упорно молчал. Ну что же, может, и к лучшему для них. Оба понимали, насколько опасно влезать в чужие тайны. Меньше знаешь – дольше проживешь! Но Олейник понимал и другое: если он и Волков не примут участия в моей судьбе, то я обречен.
Олейник неплохо ко мне относился. Но сейчас я был для него обузой. Ему надо было отправлять семью, а это оказывалось непростой проблемой. Он еще и сам толком не знал, куда повезут его досиживать оставшийся по приговору долгий срок.
– Молчишь, и черт с тобой! – сплюнул бригадир.
– Шмон подумал, что я стукач, – наконец выдавил я из себя подсказанную самим Шмоном зацепку. – Будто я настучал на Марчу, и он месяц отсидел в карцере.
– Ну-ну, – присвистнул Полицай.
Он не верил мне, хотя разговоры о стукачах, кто кого заложил и кто бегает в оперчасть были в лагере темой номер один.
– Теперь все выяснилось, – бодро проговорил я. – Ошибка получилась. Шмон приходил ко мне в санчасть, и все уладилось. Передачу даже принес.
– Ох, Малек, Малек…
Волков был уверен, что я вру. Но я замкнулся в себе настолько крепко, что он понял – вести дальнейший разговор бесполезно.
Ночью, во время дежурства, я выкопал из земли, возле навеса, где хранились бочки с соляркой, тяжелый продолговатый сверток и принес его в сторожку. Закрыв дверь на запор, развернул промасленную тряпку и достал жирно блестевший от машинной смазки самодельный пистолет. Точнее сказать, это было стреляющее устройство. К короткой дюймовой трубке был привинчен стволик из нержавейки под патрон ТТ калибра 7,62 мм. Рукоятка и курок отсутствовали. Боевая пружина взводилась небольшим рычагом и им же, вытолкнутым из паза, производился выстрел. Мало того, что эта штуковина была весьма ненадежной, за нее светило еще года три сроку, как за хранение огнестрельного оружия. И тем не менее в трудную минуту пистолет мог спасти мне жизнь.
Сработанный зимой, когда вечерами нам никто не мешал, пистолет стрелял с оглушительным грохотом, а пуля с расстояния пяти шагов пробивала толстую сосновую доску. Впрочем, в человека и с пяти шагов попасть было трудно, сильная отдача дергала ствол вверх.
Я протер до блеска два позеленевших от плесени патрона и одним из них зарядил свое чудо-оружие.
Пистолет я затолкал в левый сапог, в правый опустил заточенный напильник. Вот бы обрадовались оперы, если бы я попался к ним в лапы с этим джентльменским набором! Сварганили бы целое уголовное дело с показательным судом для назидания всем остальным. Но попадаться я не собирался, я просто очень боялся за свою жизнь, а оружие придавало уверенности.
Прошла еще неделя. Меня никто не трогал, и я стал понемногу успокаиваться.
На «Иртыш» загрузили очередную партию людей, оборудование, и пароход двинулся в низовья, осторожно обходя торчавшие среди бурунов камни. С палубы и из трюмных иллюминаторов нам махали отплывающие. У некоторых зеков срок уже закончился, через месяц-два они будут дома. Счастливцы!
Как я хотел, чтобы на «Иртыш» загрузили скопом всю лагерную шпану – Захара, Дегу, Шмона, Марчу и отвезли куда-нибудь подальше! Но их пока оставили. Они уедут все вместе. Не секрет, что в формировании этапов активное участие принимает Алдан. Своих людей он от себя не отпустит.
Между тем отсрочка мне дана была совсем короткая. Оказалось, что меня твердо решили прикончить, и события покатились как снежный ком.
7
Помню, что в тот день я встретил Галю. Заулыбавшись во весь рот, отпустил ей комплимент, хотя выглядела она неважно. Вся какая-то серая, оплывшая, со вздернутым животом. На мое приветствие Галя ответила едва заметным кивком и сразу же отвернулась. Я собрался было обидеться, но вдруг сообразил, что она беременна. Не от меня ли? Торопливо прикинул по пальцам и вышло, что забеременела она гораздо раньше. А со мной занималась любовью уже в положении. Да еще спирт кружками глотала. Ну и баба!
Был жаркий августовский день. Обмелевшая за лето
Нора, журча, перекатывалась через галечную отмель. Я снял сапоги и шел босиком по нагретым камням. Прииск громыхал ниже по течению, а здесь было тихо и спокойно.
Я пришел на берег, туда, где мы раньше обычно купались с Мишкой. Здесь было довольно глубоко, а ближе к середине реки начинались пороги. Торчало несколько огромных, обкатанных до зеркального блеска валунов, а вокруг них бешенно крутились темные водовороты.
Нора – опасная река. И в половодье, когда она широким мутным потоком несется к океану, выворачивая огромные пласты берега, и сейчас, когда вода упала до самой нижней отметки. Галечные мели перегораживают русло, а обмелевший стрежень прячет под водой огромные камни…
Я снял черные зековские штаны и, оставшись в кальсонах, осторожно спустился вниз. Прикосновение прохладной воды к разгоряченным ступням было необыкновенно приятным. Поскуливая от удовольствия, я стащил кальсоны. Коленки лоснились от въевшегося машинного масла, а ноги стали тонкими и мосластыми.
Набрав в легкие воздуха, я собрался было нырнуть. Но животное чувство самосохранения, которое особенно остро срабатывало в лагере, заставило меня встревоженно обернуться. Может быть, я услыхал какой-то посторонний звук, а может, это стало привычкой – постоянно оборачиваться в ожидании опасности.
Дега, Шмон и Петрик неторопливо выходили из-за подковы молодых елок. Дега, высокий, аккуратно расчесанный, в новых штанах с напуском на яловые сапоги, шел впереди. Шмон, красный, короткошеий, держал в руке отполированную деревянную дубинку. Однажды я видел, как он колотил ею молодого зечонка. Хряск разбиваемых костей стоял у меня в ушах целый месяц. И я вдруг понял: сейчас этой дубинки предстояло отведать мне…
Все произошло очень быстро. Петрик забежал вперед, отрезая мне путь к отступлению. Дега, глядя сквозь меня своими выпученными рачьими глазами, вытягивал из-за голенища сапога заточку. Петрик нагнулся и поднял увесистый камень-голыш. Шмон обходил сбоку, перехватывая поудобнее дубинку.
Я застыл, отчетливо понимая, что вот она пришла, моя смерть. Меня будут с таким же хряском молотить дубинкой, проткнут несколько раз заточкой и, для верности, опрокинут на голову булыжник. А потом бросят в воду… И вершить это будут люди, привыкшие убивать и не знающие жалости. Им наплевать, что мне, Славке Малькову, всего восемнадцать лет, что меня ждет мама, сестры и младший братишка Петька. И что я ни в чем не виноват и не хочу умирать. Не хочу!
Я схватил сапог, стоявший рядом. Мне повезло, что я не оцепенел от страха, и вдвойне повезло, что самопал-пистолет оказался именно в том, а не в другом сапоге. Иначе мне не хватило бы этих нескольких секунд.
Я до отказа рванул тугую пружину и сразу же отпустил рычаг. Грохнуло так, что заложило уши. Оторвавшийся ствол, фырча отлетел прочь. Дега вскрикнул и отшатнулся. Пуля угодила ему в скулу возле левого уха и вышла под правым глазом. Глаз вышибло, он повис, словно большая красная виноградина, из-под которой толчками выбивало черную кровь. Схватившись руками за голову, Дега тонко и пронзительно закричал. Петрик выронил камень-голыш, приготовленный для меня, а я кинулся на Шмона, выставив вперед обломок пистолета. Развернутая лепестком железка была в крови, и кровь капала с моих пальцев.
Шмон, оглушенный выстрелом и не ожидавший сопротивления с моей стороны, все еще держал перед собой отполированную дубинку.
– Козел! Тварь вонючая!
Выкрикивая что-то еще, я кинулся на него с обреченной решимостью щенка, которому нечего терять. Кажется, я располосовал ему руку острым обломком пистолета. Он выронил дубинку, и мы, сцепившись, покатились по траве.
Я видел его побагровевшее лицо с бляшками и буграми на щеках, и ненависть, никогда до этого не испытанная мной, удваивала силы. Конечно, будь на его месте Дега, тот давно проткнул бы меня одной из своих знаменитых заточек. Но убийцей дано родиться не каждому. А Шмон сам по себе не был ни сильным, ни страшным. Он был всего лишь на подхвате, один из шоблы, и сейчас это мешало ему справиться со мной.
Дега, самый страшный человек в лагере, стоял на коленях, зажимая лицо ладонями, и, всхлипывая, стонал. Возле него суетился хорек Петрик, но у него не было даже носового платка, чтобы зажать рану.
– У-о-ой! – всхлипнул Дега, и Петрик, наконец сообразив, что его могут посчитать трусом, бросился на помощь Шмону.
Они бы добили меня, но и на этот раз удача оказалась на моей стороне.
– Усим лягать! Ну, кому я говорю!
Водовоз, ефрейтор Сочка, хохол с вислыми пегими усами, соскочив с бочки, бежал в нашу сторону. На бегу он сорвал из-за спины автомат и рассыпал над нашими головами длинную трескучую очередь.
Петрик замер и послушно растянулся на траве лицом вниз. Шмон выпустил мои руки, и я, ничего не соображая от страха и злости, снова набросился на Шмона. Сочка отбросил меня пинком тяжелого сапога и погрозил автоматом:
– Цыц, пришью на месте!
Подошел к Деге, который, стоя на коленях, продолжал раскачиваться и всхлипывать, осмотрел его лицо и голову:
– Ну, вы тут натворили делов!
Горинский молча и умело зашил два порванных пальца на моей правой руке и, ощупав бок, по которому прогулялся сапог Сочки, отсвистал короткую и красивую мелодию из «Сопок Манчжурии»:
– Повезло тебе, Мальков! Всего лишь трещина…
Я и сам знал, что мне повезло. Будь на месте рассудительного и спокойного водовоза Сочки другой охранник, более рьяный и обозленный своей собачьей службой, вполне мог бы положить всех нас из автомата в одну кучу. Здесь, на северных приисках, охрана шутить не любит, тем более что стрельбу в нашем случае первыми открыли зеки.
– У Дягилева хуже дела, – заканчивая перевязку, сообщил Горинский. – Можно сказать, совсем дрянные. Когда у человека вышибают мозги, он обычно умирает. Даже когда мозгов немного.
Я не сразу понял, что Дягилев – это Дега. И, приходя в себя от шока, вдруг отчетливо осознал, что я натворил. Блатные мне не простят Дегу. И теперь спасти меня не сможет никто. Разве что Господь Бог схватит за шиворот и забросит за тысячи верст в родную мою деревеньку Коржевку, подальше от всей этой сволочи…
Но чудес на свете не бывает, и меня отвели в штрафной изолятор, где помимо других заключенных уже сидели Шмон и Петрик. Тесная одиночка пропахла духом немытых человеческих тел и прелой древесиной.
Я походил по узкой бревенчатой клетке и опустился в угол. Пульсирующей острой болью отдавали раненые пальцы, болел бок и тупое безразличие охватывало все мое существо.
– Эй, Малек! – кричал из другого конца изолятора Шмон. – Мы знаем, что ты здесь! Готовься, скоро сделаем из тебя Машку!
– А он давно готов, – подал голос Петрик, сидевший через две камеры от меня. – Уже обделался со страху и подмылся. Эй, ты, Малек, мойся чище!
Он дурковато хохотал, молотя кулаком по нарам, а я, подскочив к двери, в бешенстве заорал:
– Вы меня втроем не смогли пришить, а теперь опомнились и захлопали языками!
– До утра тебе не дожить, – громко обещал Петрик.
Остальные камеры молчали, хотя народу в изоляторе, как всегда, хватало, а лагерные новости распространяются мгновенно. Видимо, особого сочувствия к Деге, который в это время умирал в санчасти, никто не испытывал. Лишь по очереди выкрикивали угрозы Шмон и Петрик.
Дежурному сержанту это вскоре надоело, и он зычно скомандовал:
– А ну, заткнуться всем!
Рисуясь перед остальными заключенными, Петрик продолжал орать и материться. Сержант, лязгая замком, открыл дверь его камеры. Там поднялась возня. Видимо, охранник вправлял Петрику мозги коваными сапогами.
– Не буду! Молчу, ей-богу, молчу! – заголосил воренок.
В камере стало тихо. Лишь, рассерженно бормоча, топал по коридору дежурный.
Но самое удивительное произошло перед тем, как меня вызвали на допрос.
– Эй, Малек, – негромко позвали из соседней камеры. – Двигайся ближе к стене. Ты меня слышишь?
– Слышу.
Голос принадлежал какому-то незнакомому зеку.
– Дега умер час назад. На берегу в него стрелял Петрик. Ты понял?
– Понял, – машинально отозвался я.
– Они втроем пришли на берег, и Петрик случайно выстрелил. Ты ничего не знаешь. Хочешь жить – молчи и не отвечай ни на один вопрос.
– Ты кто такой? – после паузы спросил я.
– Тебе не все равно?
– Не все…
– Захар просил передать: Петрик признается сам. Твое дело поддакивать и молчать. Ты купался и ничего не видел…
По коридору протопали сапоги дежурного охранника. Голос за стеной умолк. Точно так же несколько дней назад меня ласково уговаривал молчать Шмон. Я молчал, а меня все равно приговорили к смерти. Твари, разве вам можно верить?!
Петрик потребовал, чтобы его допросили первым, так как он желает сделать явку с повинной.
Отсутствовал он довольно долго, а потом вызвали меня. В кабинете сидели начальник оперчасти Катько и тот самый молодой опер Иванов, который допрашивал меня после случая в бане.
Иванов заполнял протокол. Вначале он старательно изложил, где я родился, крестился, за что меня судили, а затем подробно записал с моих слов события прошедшего дня.
Еще не зная, как себя вести, я рассказал, что пошел купаться на речку, потом туда же подошли Дега, Шмон и Петрик. Они расположились неподалеку, о чем-то разговаривали, и вдруг раздался выстрел…
Капитан Катько, в портупее и застегнутом на все пуговицы кителе, смотрел на меня насмешливо и выжидающе.
– А что там за драка произошла? – спросил он.
– Не знаю.
– Так была драка или нет?
– Не помню.
– Они далеко от тебя сидели?
– Не помню… Ну, может, шагах в пятидесяти. На берегу…
– Я сам знаю, что на берегу. Ну-ка нарисуй, где ты был во время выстрела и где были они.
Капитан быстро набросал на листе бумаги схему того места, где нас обнаружил ефрейтор Сочка. Даже подкову елок старательно изобразил начальник оперчасти. Видимо, перед допросом он тщательно осмотрел место происшествия.
Я осторожно принял хорошо заточенный карандаш и, подумав, изобразил крестик, потом рядом еще три.
– Ну? – торопил меня Катько. – Ты их видел, так?
– Видел…
– Так что там произошло?
– Петрик случайно выстрелил в Дегу… то есть в Дягилева.
– Ты уверен, что Петрик? А может, Шмон? – насмешливо спросил Катько.
– Петрик.
– А ты что делал после выстрела?
– Я?
– Ну ты, ты! Ведь тебя застигли в тот момент, когда ты дрался со Шмоном и Петриком. Может, ты им за Дягилева решил отомстить?..
Потом Катько сказал лейтенанту Иванову:
– Ночь уже, первый час, иди отдыхай. Я тут сам…
Лейтенант пробормотал, что он не устал и готов остаться сколько нужно, но Катько, придвигая к себе бумаги, повторил:
– Мы вдвоем побудем… Разговор у нас долгий. Мы же утром всю эту чушь Василию Васильевичу повторять не будем? Кури, Славка!
Он великодушно двинул по столу пачку «Беломорканала». Я закурил. Андрей Иванович Катько был из местных, забайкальских. Воевал в Японии, где командовал стрелковым взводом, и иногда, по праздникам, надевал парадный китель с медалью «За победу над Японией» и диковинным китайским орденом.
– Сколько тебе осталось? – спросил он.
– Четыре с половиной года.
– Плюс червонец за Дягилева, плюс трояк за самопал. Считай!
– Дегу убил Петрик. Он же во всем сознался.
Катько весело перекатывал в пальцах толстый граненый карандаш. Если полковник Нехаев занимался в основном огромным хозяйством лагеря и прииска, золотодобычей, «гонял» офицеров и технический персонал, то его помощник Катько занимался нами, зеками, и во всех тонкостях знал внутрилагерные отношения.
Точнее сказать, он знал очень многое. Несмотря на уверенный вид, капитан пока не мог выстроить схему сегодняшнего происшествия.
Было просто и логично предположить, что двое лагерных уркаганов Дега и Шмон за что-то взъелись на фраеренка Малька. Хотели поучить его уму-разуму, а может, даже убить. Но фраеренок оказался зубастым и застрелил Дегу, одного из самых крутых лагерных урок. В эту версию можно поверить, но дальше начинается непонятное… По чьей-то команде выскакивает шестерка Петрик и пишет явку с повинной, что своего хозяина Дегу застрелил он, Петрик, случайным выстрелом. И что пистолет принадлежит ему. Все это подтвердил Шмон, близкий друг Деги. История получается несуразная, и концы с концами не вяжутся.
– Давай прекратим вранье, – устало проговорил Катько. – Уже второй час ночи. Пистолет изготовил ты. И стрелял ты. На пистолете отпечатки только твоих пальцев.
Я пожал плечами. Семнадцать с лишним лет лагерей, которые, по словам Катько, светили мне впереди, оглушили меня не хуже дубинки Шмона. Вся жизнь за проволокой! Я знал: Катько сумеет доказать, что стрелял я. А может, не сумеет? Свое единственное спасение я видел опять лишь в полном отрицании самых очевидных фактов.
– Пистолет вижу первый раз, – я мотнул головой в сторону разложенных на столике в углу обломков моего самопала. – Откуда мне знать, что там за отпечатки?
– Не валяй дурака. Вы его делали вдвоем с покойным Тимченко. Жаль, слишком поздно я про это узнал.
Насчет отпечатков пальцев Катько вешал мне на уши лапшу. Пистолет, вернее остатки его, хватал Петрик, а затем ефрейтор Сочка, который и принес его в лагерь. Так что всяких отпечатков там хватало – хрен разберешься, кто из него стрелял. Разве что назначат экспертизу и будут искать следы пороха у меня на коже. А это значит, что меня повезут в город.
Но Катько, судя по всему, никаких экспертиз назначать не собирался. Он хотел докопаться до истины сам.
– Что у тебя произошло с Детой и Шмоном?
– Ничего.
– Давай тогда вспомним эпизод в бане.
– А чего его вспоминать? – пожал я плечами. – Поскользнулся, и все дела.
За окном голубыми сумерками обозначалась светлая полярная ночь. Лето катилось к концу и скоро по ночам здесь будет так же темно, как в средней полосе. А потом выпадет снег и начнется безумно длинная зима. На столбе мерцала электрическая лампочка, и я подумал про свой родной дизельный участок. Интересно, кто сегодня дежурит – Олейник или дед Шишов? Впрочем, какая разница?.. Я вляпался крепко. Теперь либо срок на всю катушку, либо уголовники прикончат.
– В бане Шмон и Марча пытались разбить тебе башку. Зачем им нужна твоя смерть?
– Не знаю…
– В бане они пытались тебя убить в первый раз, но ты отделался сотрясением мозга. Сегодня, то бишь вчера, последовало продолжение. Чем ты им насолил?
Я молчал, и капитан, обойдя стол, крепко сдавил мне ухо, как нашкодившему мальчишке… Я вскрикнул. По щекам потекли слезы. Но плакал я не от боли, а от отчаяния.
– Что я вам сделал? – заорал я, вывернувшись. – Ну застрелил этого гада Дегу! Вы хоть знаете, сколько на нем крови? Да он весь лагерь под заточкой держит! А вы тут свои бумажки строчите… Его давно уже к стенке надо было!
Я пытался выкрикивать что-то еще, но челюсть повело на сторону. Я мычал и отплевывался, слюна душила меня. Я не терял сознания, но все вертелось перед глазами. Сжавшись в комок, я плакал, зажав виски ладонями.
– Успокойся… слышишь?!
Слова капитана доносились откуда-то издалека. Я их не понимал и не желал успокаиваться.
– Пристрели меня, сволочь! Может, лишнюю звездочку получишь. Вам же все равно, кого стрелять!
– Ты что мелешь?
Катько рывком посадил меня на диван, сунул стакан с водой. С большим усилием я сделал несколько глотков. Минут десять мы сидели молча, оба успокаиваясь и докуривая папиросы из опустевшей пачки капитана.
Я, конечно, погорячился. Начальник оперчасти Андрей Иванович Катько не был сволочью. Да, он лез во все наши секреты, вербовал стукачей. Но все в лагере знали, что капитан Катько, как и дядька Нехай, слово свое держит и человека не продаст.
Он заговорил со мной о семье, деревне, в которой я вырос, но я отвечал односложно, по-прежнему не собираясь откровенничать. А еще я слишком устал, чувствуя себя выжатым и опустошенным. У меня тряслись руки и нестерпимо болела голова после бессонной ночи и множества выкуренных папирос.
– Отведите меня в камеру, – попросил я. – Я больше не могу…
Я не спал почти всю ночь, но сон, сваливший меня, был коротким и беспокойным. Мне снова снились деревня, наш рубленный из сосны дом, я видел лица матери и сестер, потом появился Мишка Тимченко, и он почему-то жил рядом с нами в доме соседа Феди Бренчугова.
Я проснулся от холода. На мне была лишь нательная рубашка и легкая спецовка, которые совершенно не грели. Я принялся ходить взад-вперед по камере, пока не принесли завтрак: кусок хлеба и кружку теплого чая.
Потом меня снова привели в кабинет Катько. Капитан мотнул головой в сторону дивана. Там лежала моя телогрейка.
– Возьмешь в камеру. Олейник передал. Там и еда кое-какая. Если хочешь, перекуси.
Я жадно сгрыз кусок жесткого сала и четвертушку хлеба, запивая все это холодной водой. В кармане телогрейки я нашел пакетик с махоркой и несколько спичек. Спасибо дяде Ване!
В этот день меня снова допрашивали. Я упорно твердил, что Дегу убил Петрик. Теперь я примерно представлял план, выстроенный Захаром. Если я признаюсь в убийстве Деги, мне уже нечего будет терять, и я наверняка расколюсь. Расскажу, за что мне пытались разбить голову в бане, про найденное на Илиме золото, а оттуда потянется цепочка к убийству Слайтиса и неожиданным смертям Лунева и Мишки Тимченко. Сокрытие россыпи, а практически кражу золота на вверенном ему прииске, полковник Нехаев не простит. Размотает дело и влупит всем на полную катушку!
Я мог рассчитывать на снисхождение лагерного начальства, если расскажу всю правду. А в чем оно будет заключаться, это снисхождение? Вместо обещанных тринадцати лет дадут пять или шесть? За смерть Деги и изготовление пистолета все равно придется отвечать. И еще я был уверен в одном: если я выдам начальству россыпь, Алдан мне этого не простит. Я уже давно убедился, какую ничтожную цену имеет в лагере человеческая жизнь. При желании они успеют прикончить меня десять раз, и не спасет никакая одиночная камера.








