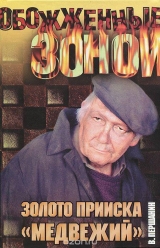
Текст книги "Золото прииска «Медвежий»"
Автор книги: Владимир Першанин
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
4
Пора рассказать и о внутрилагерной иерархии «Медвежьего». Как и в каждом лагере, у нас существовала социальная лестница. На ее вершине стояли воры. За ними – козырные фраера, фраера попроще. Ну а основную массу составляли «мужики», которые стояли в самом низу этой лестницы.
В масштабах лагеря самым авторитетным человеком был Алдан, пятидесятилетний вор в законе, коронованный по всем воровским правилам еще во времена Берии. Среднего роста, со скуластым худощавым лицом, он говорил отрывисто и негромко, никогда не повышая голос. Но любое произнесенное им слово ловилось на лету и все его приказы беспрекословно исполнялись. Возражать Алдану не решался никто.
Я не раз слышал историю, как года два назад пришлые зеки из нового этапа пытались взять в лагере власть. Несколько недель длилось противостояние, переходящее в мелкие стычки. Когда Алдан убедился, что переговоры ни к чему не приведут и подчиняться ему пришлые не собираются, он устроил ночь длинных ножей, а точнее, заточек. Человек пять были заколоты и забиты насмерть, несколько тяжелораненых и покалеченных попали в санчасть, а уцелевшие побежденные сбежали под проволоку, искать защиты у охраны.
Во время этих событий выдвинулись на первые роли Захар и Дега – уголовники, имеющие по несколько судимостей. Но если умный и осторожный Захар стал ближайшим помощником Алдана, то Дега занял место почти официального палача и пугала для всего лагеря.
Рассказывали, что тогда, два года назад, пьяный, заляпанный кровью Дега, носился среди бараков во главе орущей толпы с заточенным прутом в руке. Он первым кидался в драку и, не щадя никого, добивал раненых. Дерганый, легко впадающий в ярость, Дега был неуправляем, особенно если напивался или обкуривался анаши. Когда, окруженный подручными, он шел учинять очередную разборку, никто не рисковал попадаться ему на пути. Не знаю, сколько смертей было на его совести, но думаю, что счет перевалил далеко за десяток.
Квадратный в плечах, с низко посаженной головой и красными навыкате глазами, Дега с первого взгляда внушал страх. Как и многие другие, я не рисковал к нему приближаться и даже избегал смотреть в его сторону на утренних построениях. Дегу называли одно время Малютой Скуратовым, но «сложная» кличка не прижилась.
Мне кажется, сам Алдан не слишком жаловал своего помощника, а обойтись без него не мог. Когда Дега слишком зарывался или в услугах того не было нужды, его сажали на месяц-другой в штрафной изолятор. Думаю, эти отсидки Дега получал не без содействия Алдана. Пахан подставлял его какими-то хитрыми окольными путями, одновременно, однако, обеспечивая ему в карцере вполне приличное существование и постоянные передачки.
Догадывался я и о сложных хитросплетениях в отношениях между полковником Нехаевым и воровской верхушкой. Нехаев, казалось, терпел Алдана и Захара, которые обеспечивали изнутри порядок среди заключенных. Терпел вроде бы начальник и Дегу, доказательств против которого никогда не было. Нехаева явно раздражало, что все потерпевшие (если оставались в живых) молчали, а попадался Дега на пустяках, вроде пьянства или неподчинения офицерам.
Имели в лагере авторитет такие заключенные, как наш шеф Олейник и приисковый бригадир Тимофей Волков, по кличке Полицай. Оба они прошли войну, были физически очень сильными, и урки с ними считались.
Ну и упомяну, пожалуй, Марчу и Шмона, приятелей Деги, жестоких и самоуверенных уголовников.
Все эти люди сыграли определенную роль в моей дальнейшей судьбе…
Мишка Тимченко ушел спать после дежурства в барак. Олейника вызвали по каким-то делам в контору, и мы с дедом Шишовым остались одни.
Когда бригадир уходит, дед сразу преображается и рвется командовать, хотя Олейник своим заместителем его не назначал. Вот и сейчас дед распорядился, чтобы я натаскал солярки и залил бак запасного дизеля.
– А ты, никак, поспать собрался? – неприязненно спросил я.
– Я пока супчику сварю.
– Из чего?
– Да гороха щепотка осталась… совсем маленькая. У тебя ничего нет?
– Нет.
– Может, картошки чуток?
– Говорю же нет.
После ячневой размазни, которой нас кормили на завтрак, жрать хотелось страшно. Я почувствовал, как при упоминании о супе у меня заурчало в желудке.
– Гороха совсем мало, – напомнил дед Шишов. – На двоих даже не хватит… Ну да ладно, хоть по паре ложек хлебнем горячего. Иди, заливай солярку-то.
– На двоих не пойдет, – замотал я головой. – Бригада одна, надо на четверых готовить.
– Да где же я возьму на четверых! Мишка спит, а Иван Григорьевич раньше, чем через три часа не вернется.
– Мишку разбудим, а Олейника подождем.
Я не хотел тайком от остальных готовить и жрать суп, зная, как быстро люди теряют на таких вещах авторитет.
– Тогда сходи в столовку, – раздраженно проговорил Шишов. – Может, выпросишь чего-нибудь.
– Просто так не дадут.
– Ну возьми напильник для обмена.
Насчет жратвы лысая голова деда варила четко. Поэтому и выжить сумел… Он протянул мне небольшой трехгранный напильник, насаженный на аккуратно выточенную березовую рукоятку. Такие напильники ценились как необходимый инструмент для изготовления ножей, зажигалок, мундштуков и прочих поделок, имеющих спрос в лагере.
– Бригадир за напильник по шее не даст? – высказал я опасение.
– Он неучтенный. С осени у меня лежит. Проси за него буханку хлеба и фунт пшена или ячки.
– Может, две буханки? – передразнил я Шишова. – И еще сала кусок!
– Ну, сколько дадут, – смирился дед. Он не хуже меня знал, что на пищеблоке народ избалованный, могут вообще послать куда подальше. И самое дрянное, о чем тоже хорошо знал дед Шишов: если на КПП устроят обыск и найдут напильник, суток пять изолятора мне обеспечено. Да еще Олейник морду набьет, чтобы не попадался. Успокаивало лишь, что нас, дизелистов, обыскивали редко. И, как правило, один и тот же охранник, ефрейтор-хохол из-под Харькова.
Сегодня на КПП дежурил другой охранник, добродушный казах, и я решил рискнуть. Очень уж хотелось жрать.
Дурацкую историю, переломившую жизнь деда Шишова, я собственными ушами не раз слыхал от него.
Скотник колхоза «Светлый путь» Петр Анисимович Шишов попал в лагеря по собственной величайшей глупости. Однажды в сороковом году, будучи крепко выпивши, он поругался с бригадиром из-за делянки на покос сена. В принципе дело пустяковое, но задетый за живое Шишов выпил еще, и в голове у него замкнуло. Вспомнил давнюю обиду на колхозных активистов, когда-то заставивших его сдать в общественное стадо личную корову, которая от бескормицы и плохого ухода вскоре сдохла. Вспомнилось много других несправедливостей… И Шишов у сельсовета на площади устроил шумное одиночное выступление. Обругал матом бригадира, председателя колхоза, подробно перечислил их грехи, а потом принялся «громить» советскую власть. Войдя в раж, разорвал зубами бумажный червонец и пытался помочиться на памятник сельским коммунистам, убитым при раскулачивании крестьян в тридцатом году.
Протрезвев, Шишов сообразил, что натворил, и перепуганный бросился каяться. Но было уже поздно. Крамольные речи и уничтожение государственной ассигнации, да еще с портретом Ленина, наблюдало пол села. Районные чекисты, к которым попало дело, были умнее, чем их изображали в книгах времен перестройки и отлично понимали, что речь идет о самом обычном пьяном хулиганстве не совладавшего с собой деревенского мужика, да еще имевшего пятерых детей. Но о «контрреволюционной акции» Шишова уже знали в области и спустить дело на тормозах не разрешили.
За вражескую пропаганду и контрреволюционную деятельность Петру Анисимовичу Шишову влупили десять лет с поражением в правах. Позже, в сорок третьем, работая на складе в порту Магадана, он попался на краже крупы и американской тушенки. Повязали целую группу. Учитывая военное время, «антисоветское» прошлое Шишова и прочие обстоятельства, деду влупили десятку. Так Шишов стал еще и уголовником. Позже, за ударный труд, ему сбросили два года, и в декабре длинный срок бывшего колхозника Шишова наконец заканчивался.
Может, в прошлой своей деревенской жизни Шишов был и неплохим мужиком, но лагеря и желание любой ценой сохранить жизнь превратили его в продувную бестию, сумевшую пережить семнадцать страшных якутских зим и почти всех своих сверстников.
Я помог деду подкатить бочку с соляркой к дизелям и, набросив фуфайку, пошел в сторону ворот. Наступил июнь, но северное лето не баловало нас теплом. Едва не каждый день шел дождь, а с севера порывами наносило сырой пронизывающий холод.
Охранник-казах с автоматом ППШ через плечо, открывая тамбур, поинтересовался:
– Курить есть?
– Есть, – отозвался я.
– Покурим?
– Покурим.
Солдаты снабжались куревом тоже по норме. Нормы на приисках были далеко не бедные, но, когда запаздывал с очередным рейсом наш параходик «Иртыш», без курева бедствовали и мы и охранники. Иногда солдаты делились махоркой с нами, иногда мы с ними.
Охранник имел полное право затеять обыск, и я торопливо отсыпал ему щепотку махры.
– Спасибо, – широко заулыбался тот. – Лето… дембель скоро.
– Когда скоро?
– Лето, зима пройдут, а весной домой собираться. Хорошо!
– Хорошо, – поддакнул я и подумал, что мне этих весен еще четыре надо пережить. А Мишке – три. Поневоле от тоски завоешь!
В столовой я решил подойти к Слайтису. Все же нас связывала общая тайна. Может, не забыл еще, как мы на Илиме в одной палатке ночевали. Однако латыш встретил меня не слишком приветливо. Он сидел в хлеборезке за длинным, тщательно выскобленным столом. В комнате пахло свежеиспеченным хлебом, и это до того напомнило мне село, свой дом, мать, что я невольно шмыгнул носом.
Плоский деревянный ящик с хлебными буханками стоял в углу, накрытый куском серого рядна.
– Здесь нельзя посторонним, – сказал Слайтис, придвигая к себе разграфленную химическим карандашом ведомость. – Чего пришел?
– Напильник нужен?
Слайтис мельком глянул на товар и отрицательно мотнул головой.
– Нет.
Это можно было считать окончанием разговора, но мой усохший желудок требовал пищи, а запах мягкого, теплого хлеба сводил меня с ума.
– Дай хлебушка, – хрипло попросил я. – Хоть маленький кусочек…
В этот момент я ненавидел Слайтиса, сволочь фашистскую, разожравшуюся на нашем хлебе. И ведь как сумел устроиться! В тепле среди еды, не подгребает со стола каждую крошку, как мы…
Я поднялся с табуретки и, сунув напильник в сапог, шагнул к выходу. В приоткрытую дверь проскользнул Петрик и подозрительно оглядел меня:
– Тебе чего здесь надо?
– А тебе чего? – с вызовом ответил я.
– Малек принес напильник менять на хлеб, – сказал Слайтис. – Давай его сюда.
Я вытащил из сапога напильник и передал латышу. Тот достал со шкафа мятую, обгорелую с одного конца буханку хлеба и сунул мне:
– С тебя еще банка солидола, как договаривались.
Я машинально кивнул, подтверждая, что мы вели разговор о солидоле и я согласен отдать его в довесок. Когда, спрятав хлеб под телогрейку, шагал по направлению к воротам, меня обогнал Петрик. Насвистывая, он нес под мышкой две буханки и в отличие от меня никуда их не прятал. Все знали, что это дань, которую выплачивает пекарня Алдану и Захару, поэтому Петрика никто не трогал.
Через день, во время ужина, Слайтис отозвал меня в сторону и тихо предупредил:
– Ты больше ко мне не приходи, понял?
– Понял, – резко отозвался я и повернулся, чтобы уйти.
– Подожди, – ухватил меня за рукав Слайтис. – Ты думаешь, мне хлеба жалко? Присылай своего деда с банкой солидола для отвода глаз, я вам еще буханку дам. Дело в другом!
Он оглянулся по сторонам и придвинулся ближе. Обычно самоуверенный и надменный, Слайтис сейчас явно нервничал.
– Ты никому про то золото на Илиме не говорил?
– Я что, на дурака похож?
– Молчи, если хочешь дольше прожить. И не надо, чтобы нас вместе видели. Опасно это…
Он хотел сказать что-то еще, но раздумал и пошел к своей хлеборезке, где его ждали два земляка-прибалта.
Совет как «дольше прожить» оказался злой насмешкой судьбы: сам Слайтис погиб через две недели. Его подстерегли вечером у столовой и нанесли несколько ударов заточкой в живот и грудь. Окровавленный арматурный прут валялся здесь же. Карманы убитого были вывернуты, рядом лежала пустая сумка, в которой он носил хлеб.
Пошел слух, что Слайтис и его земляки скупали за продукты золотой песок и что-то с кем-то не поделили. Другую причину многие зеки видели в начавшейся разборке между слишком возомнившими о себе прибалтами и лагерной воровской верхушкой. Небольшая кучка прибалтов своей сплоченностью и готовностью защищать друг друга до конца представляла немалую силу. Некоторые из них занимали на прииске бригадирские должности. Пекарня, которая снабжала хлебом и охрану, и зеков, тоже обслуживалась ими.
Роковую роль мог сыграть и характер Слайтиса. Он вполне мог перегнуть палку и вызвать раздражение одного из наших паханов. И хотя такого беспредела, как в бериевские времена, в лагерях уже не было, власть воровской верхушки была сильнее. Неугодного человека могли смахнуть одним щелчком, как букашку.
Как бы то ни было, а в хлеборезке появился новый хозяин. На этот раз из русских. Заодно, на всякий случай, в столовой сменили двух прибалтов-поваров к удовольствию зековской братии I отправили долбить камень на прииск. Жизнь продолжалась своим чередом.
Вскоре я почти забыл тот разговор. Мне было наплевать на золото, которое добывали на «Медвежьем». Оно меня не касалось. Я вычеркивал в своем самодельном календарике дни и ждал ответа на свое прошение о помиловании, которое послал в Верховный суд. Меня судили в семнадцать лет, а малолеткам сокращали сроки… И будь у меня побольше жизненного опыта и проницательности, может, дальнейшие события сложились бы по-другому.
5
К Олейнику частенько наведывался Тимофей Волков по кличке Полицай. В годы войны он действительно служил в полиции…
Волкову было лет пятьдесят пять. Высокого роста, жилистый, с морщинистым обожженным лицом, он ходил, заметно прихрамывая на левую ногу.
В бане я увидел у него на боку жуткий рваный шрам, буквально вмятину, в которую мог поместиться кулак. Под левой ключицей багровым пятаком выделялась пулевая отметина. Жизнь пошвыряла Волкова крепко.
Рядом с ним всегда был худой светловолосый Сашка Евдокимов, по кличке Белый. В одной из пересыльных тюрем Волков спас Сашку от издевательств блатной братии и взял под свою опеку. С тех пор они не расставались. Как я понял, Полицай видел в этом нескладном парне своего сына и не собирался расставаться с ним даже после освобождения.
До войны Волков работал бригадиром в небольшом райцентре Смоленской области. Был призван в армию и, не успев надеть солдатскую форму, попал в окружение. Вернулся домой на оккупированную территорию и вскоре поступил в полицию. Поступил, не задумываясь о последствиях, считая, что с советской властью покончено, а работать где-то надо, тем более что в полиции, кроме жалованья, давали неплохой паек.
В сорок первом было еще ничего. Полицаи охраняли станцию и мост, конвоировали арестованных в город, но с весны сорок второго все изменилось. Начался массовый угон молодежи в Германию, и на полицаев стали волками смотреть даже родственники, которым нельзя было помочь. Потом пошли стычки с партизанами, расстрелы заложников, и Тимофей понял, что вляпался в дерьмо, откуда вылезти будет не просто. Особой любви к советской власти он не питал, но убивать людей не хотел. Но партизаны убили старшего сына Волкова, которого он тоже пристроил в полицию, чтобы спасти от угона в Германию, и разъяренный Тимофей стал теперь уже не просто служить оккупантам, а мстил за сына. Он угодил под взрыв гранаты в собственном дворе, однако и тяжело раненный сумел застрелить партизана.
За злость и старание Волков получил повышение по службе, и казалось, что нет ему пути назад, но жизнь сделала очередной финт. В сорок третьем, когда Красная Армия уже наступала, партизаны предложили Волкову помочь освободить нескольких своих товарищей. За это ему обещали забыть его прошлые грехи и ходатайствовать о прощении. Тимофей сделал все, о чем его просили, и сумел вывести в лес четверых пленных партизан. Не успела только укрыться его семья. Немцы повесили жену и дочь. Младшего, шестилетнего сына, успели спрятать соседи.
Теперь Волков воевал с немцами. С неменьшим ожесточением, чем раньше с партизанами. Был опять тяжело ранен, а затем, когда пришла советская власть, получил соответствующую справку от командира партизанской бригады. Но справка не помогла. Прошлые грехи перевесили, и военный трибунал Западного фронта осудил его на двадцать лет лагерей. Заканчивался срок у Волкова аж в шестьдесят третьем году, как и у меня. Но если я еще мог рассчитывать на амнистию, то у Волкова дела обстояли глухо. Насколько я знал, полицаев амнистировали очень редко. Оставшийся в живых единственный сын от него отказался. Лет пять назад прислал короткое письмо, в котором просил Тимофея больше ему не писать. В поселке, мол, до сих пор помнят, что творили фашисты и полицаи, и ему, как комсомольцу, стыдно смотреть в глаза людям. Он не может считать своим отцом предателя.
– Под диктовку, щенок, писал, – криво усмехаясь, говорил Волков. – Небось, целое комсомольское бюро сочиняло.
Я чувствовал: Тимофей очень переживал, но что он мог изменить? Наверное, от тоски по сыну и заботился так крепко о девятнадцатилетнем Сашке Белом.
А между тем катилось чередом короткое северное лето. Кормежка стала получше. К ячневой и пшенной каше прибавились рыба и грибы. Катился и мой срок. Работа на дизельной площадке была не слишком утомительной, а лагерь понемногу готовился к перебазированию.
И вдруг умер Мишка.
Мишка отравился древесным спиртом. У него хватило сил доползти рано утром до ворот, где его подобрали охранники и принесли в санчасть. Весь посиневший, с закушенным намертво языком, он с трудом ворочал невидящими глазами. Горинский, главврач лагерной санчасти, пытался о чем-то спросить Мишку, но приподняв веко, безнадежно махнул рукой:
– Метанол… Уже не поможешь.
Бедного Кутузова отнесли в изолятор, где отдавал концы старый зек-туберкулезник. Санитар, дежуривший в изоляторе, рассказывал, что Мишка бился в страшных конвульсиях, хватался руками за металлические прутья кровати, потом сполз на пол. Изо рта и носа потекла кровь вместе с желчью, и через несколько минут он умер.
Оперчасть во главе с капитаном Катько провела расследование. Но картина была и так ясна… На дизельном участке имелись несколько станков, в том числе точильный. Поздно вечером, когда над лагерем спустился туман, к Мишке незаметно прокрался Сорока, расконвоированный зек, живший в поселке. С собой он принес несколько заготовок для ножей. Все знали, что Сорока приторговывал самодельными ножами. Сорока попросил Мишку попользоваться точильным станком и, получив согласие, достал спирт. Пока Сорока точил ножи, они с Мишкой выпили граммов четыреста из одной бутылки, вторая стояла нетронутая на полу за шкафом. Потом им стало плохо. Но если у Мишки хватило сил добраться до ворот лагеря, то Сорока так и остался в сторожке…
Сорока был из мелких вокзальных воров. Имел три или четыре судимости за кражи чемоданов, и к лагерным авторитетам не принадлежал. Он ничем не выделялся из серой зековской массы, был хилым и беззубым и, говорят, раньше ходил в шестерках у Шмона. Сожительствовал с воровкой, лет на десять его старше, которая в тот же день собрала вещи и перебралась к другому бесконвойному.
Смерть Мишки потрясла меня. Я знал его почти год, и за это время он стал мне настолько близок, что я не представлял, что мы когда-нибудь расстанемся. Словно во сне я выполнял свои привычные обязанности, не в состоянии воспринимать посторонние звуки и слова, обращенные ко мне.
Мишка не был слишком крутым, чтобы защитить меня от воров, но целый год он был со мной вместе. И сейчас я ощущал вокруг пустоту, которую никто не смог бы заполнить.
Дед Шишов, вздыхая, повторял про волю Божью, а Олейник, сопя, ковырялся в запасном дизеле. Я ему помогал. Основной дизель громко и ровно молотил, подавая в лагерь электричество. Под этот треск ночью корчился и умирал Мишка, и никто ничего не слыхал…
Горинский составил нужные бумаги о причине смерти Мишки и Сороки, а на следующий день обоих похоронили. Я помогал отвозить на телеге гробы. Неглубокие могилы в каменистой земле были уже готовы. На дне поблескивали лужицы воды и сколы торфяного льда. Вечная мерзлота начиналась на глубине метра. Мы забросали ямы землей и нагребли сверху бугорки. В каждый воткнули колышек с сосновой дощечкой, где раскаленным гвоздем был выжжен регистрационный номер, положенный каждому зеку, его фамилия, инициалы, даты рождения и смерти.
Это было все, что оставалось от моих собратьев по несчастью, так и не доживших до свободы. Впрочем, какое уж тут «братство»! Сильные душили слабых, продлевая себе жизнь за их счет. Таких, как я и Мишка, обворовывали, облапошивали на каждом шагу, но, когда мы становились нужны, нас называли «братьями»…
Возница и двое санитаров уехали на громыхающей пустой подводе, а мы с дедом Шишовым потихоньку побрели вдоль кладбища. Дед с утра побрился, подровнял редкие седые пряди на затылке и выглядел благообразно. Шапку он держал в руке, подставив лысую макушку теплым солнечным лучам. Шишов знал здесь почти каждую могилу и, показывая шапкой на бугорки, рассказывал мне про обитателей кладбища:
– Я ведь на «Медвежьем» с сорок третьего… Считай, с самого начала. Санитаром три года отработал, сколько мертвяков сюда перетаскал! Вон Бусыга Петр, тезка мой лежит. На весь Дальний Восток гремел. Все воровские разборки вел. Справедливый мужик был.
Я поглядел на могилу, которую время почти сравняло с землей. Однако на дощечке были хорошо различимы цифры и буквы. Со дня смерти знаменитого вора прошло двенадцать лет.
– А вон земляк наш с тобой покоится, Иван Тепляков. В Алатыре жил. По указу сорок седьмого года попал сюда. Зерно украл. И всего-то пять лет получил, а не выдержал, от тоски умер.
За неполный год моего пребывания на «Медвежьем» я и сам воочию успел убедиться, как тоска по дому скручивает людей. Человек становится вялым, безразличным ко всему и медленно угасает. Я и сам испытал на себе гнетущую силу этого чувства. Особенно тяжело было после снов о доме, когда я лишь минуту назад ощущал ладонями тепло домашней печи, вдыхал запах мяты, пучки которой висели на стене, и вдруг, просыпаясь, видел все тот же стылый барак с чужими злыми людьми.
– Зимой в сорок шестом народу много перемерло, – продолжал дед. – Тогда баржа с мукой в низовьях разбилась и снегу много навалило. Продукты с самолетов сбрасывали. Спасибо дядьке Нехаю, не дал сдохнуть. Все до крошки взял под свой контроль! За воровство самолично зубы вышибал. Из охранников команды охотничьи сколотил и каждый день в лес промышлять отправлял. Когда лося приволокут, когда оленя. В тот год трое лейтенантов насмерть замерзли. Заблудились в пургу и окоченели. А про нашего брата и говорить нечего. Как мухи мерли. И в санчасти, и прямо в бараках. Заснул человек и – не проснулся. Утром толкнешь, а он уже окоченел. Не успевали могилы толом рвать. Человечину люди жрали, во как!
– И ты, дед, ел?
– Эх, Малек ты, Малек, глупый ты еще. Повидал бы с мое, не стал бы спрашивать. – Он всхлипнул и промокнул шапкой глаза: – Хвою жрал, кору с деревьев. А все почему? Детишек мечтал увидеть. Две дочки у меня и три сына. Старший без вести на фронте пропал, а младшему миной ступни оторвало. Калека… Без отца женились, замуж вышли, внуки уже взрослые, а я все здесь сижу. И кажется, конца-краю этому не будет. Неужели до декабря доживу?
В такие минуты дед казался мне едва не святым мучеником. Я забывал его жадность, хитрость, как он пытался меня выжить из бригады в первые недели моего пребывания на «Медвежьем» и как в одиночку жрал свои посылки.
– Ничего, Петр Анисимович, – утешал я его. – Скоро на свободу. То-то все твои обрадуются!
Дед шумно вздыхал. Он не был уверен, что ему сильно обрадуются. Там, на родине, в деревне Чумакино, без него прошла целая жизнь. Будет ли кому старик нужен через восемнадцать лет отсутствия?
…С прииска вывозили вспомогательное оборудование, хотя добыча золота продолжалась и по плану должна была закончиться только в сентябре.
На «Иртыше» вместе с оборудованием отправили очередную партию заключенных в пересыльный лагерь и несколько человек освободившихся по сроку. Дед Шишов ходил к полковнику Нехаеву, просил, чтобы отправили и его. Старик боялся, что часть оборудования и людей оставят до весны, а с ними и дизелистов.
Нехаев деду отказал, заявив, что нас отправят с последней партией в сентябре и пусть дед не волнуется. Шишов приуныл и все чаще стал жаловаться на радикулит и боли в суставах. Потом опять принимался вспоминать деревню, куда надеялся попасть к Рождеству.
У меня впереди были долгие четыре с половиной года, и от дедовых рассказов становилось тошно. Я обрывал его и шел к дизелю. Возня с железяками приносила облегчение. Но вскоре как тугая пружина развернулись события, которые не оставили места для переживаний и снов о доме.
На меня открыли охоту.
Все началось в одну из суббот со случая в бане. Я нес деревянную шайку, наполненную теплой водой, когда меня окликнули. Я обернулся, и тут же резкий толчок в плечи опрокинул меня назад. Я бы удержал равновесие, но позади на полу кто-то присел на корточки, не давая мне отшатнуться и устоять на ногах.
Вместе с тяжелой дубовой шайкой я грохнулся на спину, сильно ударившись головой о деревянный пол. В глазах потемнело, на несколько секунд я потерял сознание. Первое, что я, пытаясь подняться, увидел, был огромный камень сантиметрах в тридцати от головы. Такими камнями обкладывали низ металлической печки, стоявшей у стены…
Брякнись я сантиметров на тридцать левее, голова моя просто бы раскололась. Ничего не соображая от боли, я все пытался встать. Ко мне подскочил дед Шишов, но его оттолкнули, а из горячего тумана появилось облепленное мыльной пеной лицо уголовника Шмона. Он схватил меня за руку, за другую тянул его приятель Марча. Я закричал, понимая, что добра от приближенных лагерного палача Деги мне не ждать. Я отчетливо представлял, как они меня сейчас поднимут и снова швырнут. На этот раз прямиком затылком о камни. Это понимали остальные, но мало бы нашлось в лагере людей, которые осмелились бы выступить против.
Олейника в бане не было, и мой щенячий визг повис в наступившей тишине. Я рвался, болтаясь как сосиска в руках крепких откормленных уголовников, и жизни мне осталось всего несколько секунд.
– Мама…
Выскочивший откуда-то Тимофей Волков оттолкнул Марчу. Блатной отпустил мою руку и ударил Тимофея в челюсть. На Марчу бросился Белый, но, получив пинок в живот, отлетел в сторону.
Полицай, синий от татуировок и с огромным шрамом на боку, с ревом кинулся на Марчу. Схватив его за шею и руку, с силой отшвырнул в угол:
– Сашку бить! Ах паскуды…
В этот момент он забыл про меня и видел только свалившегося от удара своего приемного сына. Шмон поднял валявшуюся под ногами шайку, замахнулся, но Волков опередил, сбив его с ног ударом тяжелого кулака в переносицу.
Дега, голый по пояс, в кальсонах и с рубахой под мышкой, вынырнул из предбанника:
– Что тут за базар?
Шмон, скрючившись и зажимая ладонью нос, лежал на боку. Между пальцев текла кровь. Марча, тяжело дыша, стоял с шайкой в руке. Петрик со своей всегдашней ухмылкой осторожными шажками крался, заходя к Волкову со спины.
Волков, внезапно развернувшись всем туловищем, цыкнул:
– Пошел вон, гнида! Утоплю!
В стае голых, сбившихся в парной существ бывший полицай и бывший партизан Тимофей Волков был самым крупным и опасным зверем. Редкие зубы ощерились, мощная грудь ходила ходуном, кулаки были сжаты. Его многочисленные шрамы свидетельствовали о том, что он привык драться насмерть и пощады просить не будет.
Я смотрел то на него, то на Дегу. Я знал: если блатной даст команду, начнется страшное. Тимофея и меня заколют, истыкают заточками, которые наверняка припрятаны в щелях под полом бани. Здесь не впервые творились разборки, и никто никогда не находил свидетелей.
Уголовник Дега, вдоволь хвативший крови и способный с легкостью убить человека, на этот раз почему-то колебался. Главной мишенью был все же я, скорчившийся возле печи восемнадцатилетний сопляк, которого не удалось пришить сразу. Весь этот шум-гам и неожиданное вмешательство Волкова усложняли ситуацию, заставляя Дегу заниматься делом для него непривычным – шевелить мозгами.
– Ну и че тут? – грозно повторил он, ни к кому не обращаясь.
– Да вот посклизнулись, – дребезжаще засмеялся кто-то из старых зеков. – Мыло кругом…
– Ты Славку оставь в покое, – Тимофей Волков ткнул пальцем в Дегу. – Он дите еще. Сами свои дела решайте, а детей не трогайте.
Любое сопротивление действовало на Дегу, как красная тряпка на быка. Безнаказанность и покровительство лагерного пахана Алдана сделали его наглым и самоуверенным. Я отчетливо разглядел обмотанную серой изолентой рукоятку заточки, торчавшую из белья, сверток которого держал Дега.
В бане снова повисла тишина. Будь на месте Волкова другой зек, все было бы уже кончено. Но с ним приходилось считаться. Без последствий смерть Волкова не останется, и в первую очередь шум поднимет сам начальник лагеря, который о количестве добытого золота каждый вечер по рации докладывал своему начальству. Убийство одного из лучших на прииске бригадиров полковник Нехаев не простит и будет разбираться круто.
Дега усмехнулся, прищуривая свои выпученные страшные глаза:
– Посклизнулись значит… Все шутки шутите!
Он повернулся и не спеша вышел. Это означало, что инцидент исчерпан.
Я был словно в трансе. Голова кружилась, тело колотила мелкая дрожь. Я понимал, что был на волосок от смерти, и страх продолжал сковывать меня. Кое-как, с помощью Волкова и деда Шишова, я оделся, и они отвели меня в санчасть.
Горинский ощупал мою голову, заставил сесть, встать и коснуться пальцами кончика носа.
– Сотрясение мозга, легкая степень. Завтра воскресенье, отлежишься в бараке денек, и все будет в порядке. Почувствуешь себя плохо, придешь опять.
– Он в санчасти у тебя полежит, – отрывисто проговорил Волков. – Дня четыре или пять…
– Ну пусть полежит, – легко согласился Горинский.
Меня поместили в палату, где лежали еще пять зеков. Один, накрытый до самых глаз одеялом, хрипел и надсадно кашлял. Рядом, на тумбочке, стояла нетронутая тарелка с кашей и лежала пайка хлеба. Я знал: зеки теряют аппетит обычно только перед смертью. Четверо других больных дулись в карты.








