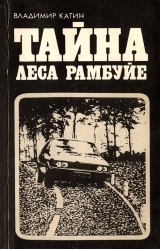
Текст книги "Тайна леса Рамбуйе"
Автор книги: Владимир Катин
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Но при чем эти четверо? Разве именно они решили исход голосования?
– Да нет же! Сейчас объясню, я писал об этой нашумевшей истории и хорошо знаю все ее нюансы. Повторяю – исход решили не именно эти четверо, но и они в том числе. Следите за мной: за ракеты американцев голосовало сто депутатов, против – сто четыре. Что требуется, чтобы было наоборот? Надо из ста четырех выбрать всего четверых и склонить их в другую сторону. Тогда получится, что сто четыре будут за ракеты, а сто – против и при повторном голосовании ракеты проходят, ясно? И дело, как говорится, в шляпе. На это, похоже, и уповал американский президент, советуя депутатам одуматься или что-то в таком духе. Дословно не помню, но смысл таков.
– И какой же вывод?
– А такой, что в руки Гаро попал список тех депутатов Соседней страны, которых американцы, похоже, решили взять в оборот. А может быть, он разведал и что-то гораздо более существенное.
– Но не надуманно ли все это? Как ты пришел к такому умозаключению? Методом Шерлока Холмса?
– Я – журналист и, видимо, талантлив.
– Я почти согласен с Робером, – вмешался наконец Жан-Поль, – Версия мне видится правильной. Кстати, тот, кто стоит в списке первым и отдельно от остальных, – депутат Жозеф Боль, – его уже нет в живых. Он умер от разрыва сердца, кажется, в день убийства Гюстава Гаро. Я помню по газетам. Но никакой связи, признаться, не усмотрел. Да ее, возможно, и нет.
Клод заволновался.
– Постойте, значит, депутатов из списка Гаро осталось трое? – А может, и того меньше? Я ведь не следил за событиями.
– Пока их трое. Посмотрите, Робер, что там значится у Гюстава про Боля?
– «4 мая. Жозеф Боль, в 10 ч. 00».
– Со слов Кристины Гаро я знаю, что 4 мая ее мужа во Франции не было. У меня все записано. Сейчас найду.
Жан-Поль достал свой блокнот.
– Так, так… Где же был Гаро 4 мая? Он был в Соседней стране. Значит, 4 мая в 10 часов утра издатель Гаро и депутат Боль встречались. Где? Это нам важно знать, друзья.
Жан-Поль полистал толстый телефонный справочник и нашел номер Жозефа Боля.
К телефону подошла служанка и на расспросы о домашних покойного депутата отвечала, что никого нет и не будет до понедельника.
– Мадемуазель, с вами говорит один из друзей Гюстава Гаро, которого, как вы знаете, нет в живых. Так вот, не могли бы вы припомнить, когда месье Гаро был в доме у месье Боля в последний раз. Незадолго до кончины месье Боля? Спасибо. Для меня весьма важно. Ах, вот как! Вы прекрасно помните даже тот день… Что? Как? Как вы сказали? Интервью?!
Жан-Поль достал носовой платок и вытер вспотевшее вдруг лицо – он явно волновался.
Закончив разговор, он отпил глоток воды. Когда заговорил, голос неожиданно задребезжал. И Клод, и Робер почувствовали, что не только от волнения, а что Жан-Поль стар и утомлен.
– Прислуга оказалась словоохотливой… Видимо, ей скучно одной, и она была рада поболтать, даже всплакнула, вспоминая своего хозяина. Так вот, она подавала им чай. Хорошо помнит, что, когда вошла в кабинет с подносом, Гаро щелкнул клавишей магнитофона. Он записывал интервью Боля на кассету. И при появлении служанки, естественно, выключил магнитофон. Щелкнул, как сказала она. Теперь вам понятно, почему нигде нет бумаг, которые мы ищем?
После долгих поисков небольшой портативный магнитофон обнаружили в платяном шкафу под стопкой рубашек.
– М-да. Сыщики! – усмехнулся Жан-Поль. – Ну что, есть там кассета или нет?
Робер ловко расстегнул кнопки черного кожаного чехла, высвободил аппарат и включил на прослушивание.
Низкий голос пожилого человека звучал устало, но спокойно и внятно. Это было скорее заявление, исповедь, а не интервью – вопросов говорившему не задавали.
«…Моя жизнь подходит к логическому концу, к завершению. Она не была ровной. Случалось немало изломов. Сомнений. Поисков, если хотите. Случались заблуждения, ошибки. Серьезные ошибки. Но все это далеко-далеко позади. Пестрое прошлое плотно спрессовалось в памяти. И порой давит…
Знаю, даже уверен – к твердым убеждениям нельзя прийти прямым путем. Прямая как кратчайшее расстояние подходит для геометрии. Но не для жизни. По прямой ходят лишь дрессированные животные. Человек, мыслящий, ищущий, идет неровными проселочными дорогами и сам находит свою магистраль. Оглядываясь назад, вижу, как я колесил, петлял, топтался на месте. Повторяю – крепко ошибался. И оттого так тверд теперь, ибо шел по кочкам и знаю цену заблуждениям.
…На весенней парламентской сессии мы, депутаты, решали дилемму – быть американским ракетам на нашей земле или не быть. Дебаты шли открыто. Весь мир знает о том, кто что сказал, и многие полагают, что именно моя речь предрешила исход голосования. Не знаю. Может быть… Во всяком случае мне удалось убедить тех, кто колебался, и даже переманить на свою сторону одного депутата, призывавшего голосовать за ракеты.
Я сделал все, что мог и что должен был сделать. Я доказывал своим соотечественникам – цифрами, фактами, эмоциями, что, голосуя за американские ракеты, которыми собираются начинить нашу бедную землю, мы санкционируем самоубийство.
– Хотите ли вы гибели себе, своим детям и внукам от русских ракет, которые неминуемо обрушатся на американские, если их поставят возле наших домов, нацелят на Россию и вдруг начнут запускать по ней? – спрашивал я с трибуны парламента.
– Хотите ли вы иметь изуродованное радиацией потомство – зараженных ядерной проказой матерей, дефективных отцов, искалеченных еще в утробе детей? Встаньте все, кто этого хочет! Пусть вас видит мой народ. Встаньте со своих мест, уважаемые депутаты! Я призываю ваших матерей и детей ваших плюнуть вам в лицо, когда вы вернетесь с этой сессии в свой дом! Сегодня, господа, мы будем голосовать не поднятием руки, а опросом – мы вызовем поименно каждого депутата, и он поднимется и скажет свое «да» или «нет». На нас смотрит вся страна, собравшись в этот час у телеэкранов. Я хочу, чтобы оказавшиеся среди нас иуды сегодня сели за свою вечернюю трапезу в одиночестве, а их родные встали бы напротив и молча смотрели, как ест их сын-преступник, отец-детоубийца, муж-предатель.
О, моя речь наделала грохоту! Впрочем, это уже известно. И все знают, что наш парламент отказал американцам.
…Американцы – люди болезненно самолюбивые. Наш отказ ударил их по бизнесу и по престижу. Ведь ракеты уже на конвейере, их делают и на них хорошо зарабатывают. Тут и убытки, и жестокая обида для великой державы. И все из-за каких-то четырех депутатских голосов! Как в таких случаях делается в Соединенных Штатах? Кладут деньги на бочку, и проблема решена, не так ли?
Примерно через неделю ко мне явился один американский дипломат и без обиняков предложил крупную сумму в любой валюте за то, чтобы при повторном голосовании все было так, как хотят они. Откровенно говоря, я не знал, чему удивляться – их выбору, который пал на меня, или предложенной сумме, которая была, прямо скажу, громадной.
Американец пояснил, что деньги пойдут на всех четырех депутатов, которых следует купить. Так и сказал – купить. Как автомобиль. Как усадьбу. Как девку. И вся операция купли-продажи депутатских голосов поручалась мне.
Я поинтересовался – кто они, кандидаты. Американец назвал первым меня, затем Анри Штейна, Карла Дорта, Эдди Локса.
Я размышлял, глядя на посетителя, – гнать его тут же или еще что-то спросить? Как посмели они обратиться ко мне? Это после моей-то речи в парламенте? На что рассчитывают?
Американец, видимо, понял мои мысли. «Господин Поль, – сказал он, – вы, очевидно, удивляетесь, с какой стати наш выбор пал именно на вас?»
«Над тем и ломаю голову, – отвечал я. – В самом деле, почему?»
«А потому, господин Боль, что мы располагаем вот этим любопытным досье…»
И дипломат не спеша, даже торжественно раскрыл плоский атташе-кейс и положил передо мной ксероксную копию личного дела члена молодежной нацистской организации Жозефа Боля. Там был, как говорится, полный набор – дата вступления, уплата взносов, тексты речей на митингах…
Да, такое в моей жизни было. В молодости. Во времена гитлеровской оккупации. Недолгое время, но было! Никуда не денешься. Вот почему я начал свой рассказ с того, что человеку свойственно заблуждаться, делать промахи.
Мне казалось, что о моем прошлом, о моем темпом прошлом, знаю только один я и больше никто. Ведь все архивы нацистов сгорели во время бомбежки английской авиации. Так мне казалось.
«Я оставлю вам эти бумаги на память, – деловито сказал американский дипломат. – Как сувенир о вашем прошлом, о котором, конечно же, не должен знать никто – ни пресса, ни ваша семья. Ведь вам дорого ваше доброе имя и депутатский мандат, не правда ли, господин Жозеф Боль?»
И он ушел, обворожительно улыбнувшись в дверях. Улыбка означала: «О'кей! Дело сделано!»
Вот, собственно говоря, и все, что я хотел, дорогой мой Гюстав, тебе поведать. Делай с этой кассетой все что хочешь. Мне безразлично. Я в западне».
«Ну, мы еще посмотрим, – заговорил другой голос. – Посмотрим, кто окажется в западне. Я не собираюсь публиковать твою исповедь, Жозеф. Но дам американцам понять: она у меня в руках, и если янки не оставят тебя в покое, то им же будет хуже – я сделаю грандиозный скандал!»
«Поступай как знаешь, – тихо и печально отвечал Боль, – Мне все равно…»
На этом запись кончилась.
Все трое долго молчали. Звонил телефон, но Клод не обращал внимания.
– Нужно переписать эту пленку, – решил он. – И я сам прокручу американцам эту кассету и даже подарю запись.
– Вот как! – изумился Робер. – И что потом?
– А то, что за такой подарок я буду для них свой человек. Правда, дядя Жан-Поль?
– Похоже, что так, Клод. Кажется, я схватываю твою идею. Но давайте просмотрим возможные варианты. Если, скажем, отдать кассету прессе, то что мы будем иметь? Позор для покойного Боля, удар по семье, удар по депутатам, которые поддерживали его в парламенте. Американские службы в таком случае перестроят свой план – подыщут новых кандидатов на предательство, и мы, увы, знать их уже не будем. Действуй, Клод, как ты решил. Но не переигрывай, входя в доверие. Держись так, чтобы американцам казалось, будто это они тебя вовлекают в свои делишки, а не ты стремишься проникнуть в их тайны.
В квартире вдовы Гаро делать уже было нечего. Жан-Поль отправился в клуб филателистов, Робер поехал к себе в редакцию. И Клод вдруг остро ощутил свое одиночество в этом большом и красивом городе, где ему всегда было радостно и весело жить, где промчались лучшие студенческие годы.
Париж всегда создавал у Клода восторженное настроение. Стоило выйти на улицу, как сразу охватывало легкое возбуждение, словно выпил стакан веселящего вина или оказался в цветущем саду. Даже в дождь, в холодные дни или безлюдное время – всегда Париж вселял приподнятость и необъяснимое внутреннее ликование. Толпы праздных или озабоченных людей на Елисейских полях, на Монмартре и Монпарнасе, манящие уютом бесчисленные кафе и бары, кисловатый запах метро, каскады мостов через Сену, беспечные клошары и сосредоточенные букинисты, песни бродячих музыкантов, экраны ярких магазинных витрин, тенистые аллеи Булонского леса, калейдоскоп рекламных афиш – все было в этом городе особенным, парижским, не таким, как в других городах и странах. Париж круглосуточно балансировал между праздностью и деловитостью и было в нем в меру и того и другого.
Клод вышел на авеню Фридлянд – один из лучей площади Шарля де Голля. Возле цветочного киоска понюхал тугие бутоны бордовых роз.
– Месье желает букет? – живо спросила продавщица надтреснутым от простуды голосом.
– Нет, спасибо.
– Как будет угодно, месье.
Клод сел в такси и сказал шоферу ехать в Булонский лес. Возле озера он вышел и снова почувствовал себя неуютно и одиноко. Как чужой среди чужих.
Закрыл глаза, чтобы сосредоточиться и понять, что же с ним творится. И понял – не было прежнего чувства безотчетной восторженной радости, того чувства, которое всегда охватывало его на улицах Парижа.
Присев на скамейку, он стал размышлять над своим открытием. Первые после возвращения дни он просто-напросто приходил в себя, как вынырнувший пловец после глубокого погружения, и потому не мог сразу обнаружить пропажу – пропажу восторга от встречи с Парижем. Снова и снова выискивал он в себе это чувство, но не находил. Было пусто. Как в покинутом доме, откуда вывезли все до последней сломанной игрушки, и даже на стенах нет ничего, что напоминало бы о когда-то живших здесь. Клод попробовал растормошить себя и вызвать забытое состояние приятного восприятия жизни, которое прежде, как птица, само впархивало в него, едва он вливался в суету парижских улиц. Он заставил себя прислушаться к гвалту пичуг в косматой зелени каштанов, к глухому, как дальний прибой, шуму города… Заставил себя хорошенько вглядеться в озеро, где кувыркались сизые утки, в веселящихся вокруг детей, в читающего газету старика.
Все было типично парижское. Но уже без романтической окраски. И Клода охватила досада, злость. Неужели отныне всегда все будет плоским, обыкновенным, без внутреннего трепета? Неужели восторг жизни никогда уже не пронзит его от глотка парижского воздуха, от улыбки незнакомой девушки, от бело-розовых свеч цветущих каштанов? Никогда?!
Он бездумно уперся взглядом в серый асфальт. И сидел так долго.
– Простите, вы не скажете, который час?
Возле него стояла миловидная девушка с книгой в руке, заложенной веткой акации. Клод учтиво встал, сказал время и снова опустился на садовую скамью.
Девушка поблагодарила, бросила на него откровенно разочарованный взгляд и отошла с подчеркнуто рассеянным видом.
«Как-то поживает Патриция, – подумал Клод. – Интересно, что стало с Люси? Позвонить, написать? Нет, ни к чему это. Дело прошлое».
Неторопливо дважды обошел озеро Булонского леса, размышляя о том, что же с ним сделал легион. Когда там в Африке, они убивали и убивали их, то и в него, видимо, тоже попали. Да, голова и руки целы, но расстреляно что-то внутри – убито восторженное восприятие жизни. А ведь было время, когда он наслаждался своими мечтами… Было время, когда предвкушал блестящую карьеру, словно бы прохаживался по пляжу и у ног его плескалось перламутровое море, в которое он вот-вот войдет и поплывет к горизонту… И случилось же такое, что море внезапно исчезло, отхлынуло за горизонт, и вместо него на илистом дне осталась всякая дрянь, и некуда нырять, и нельзя плыть… Невероятно, но факт. И Клоду казалось, что он на пустом голом месте и нет вокруг никого, ничего. Ни моря, ни грез, ни светлой радости от будущего. И неизвестно, зачем ему жизнь?
Он отчетливо вдруг увидел солнечный майский день, увидел себя, Робера и Патрицию, беспечнейше болтающих о чем-то незначительном на веранде кафе в Латинском квартале. О чем же они тогда говорили? Кажется, о его карьере юриста, о том, что неудачники виноваты сами и ни на кого не следует пенять за нескладную судьбу. Но кто повинен в его исковерканной жизни? Разве он сам? Нет. Так кто же?
Капитан Филипп Курне?
Американский атташе, пригласивший Гюстава Гаро в лес, где его убили?
Кто-то еще выше и дальше, кому не нравится, как голосует парламент в Соседней стране?
Получается, что из-за чужих афер должен страдать он, Клод Сен-Бри? Но с какой стати?
В тот ласковый майский день, когда он со своими друзьями безмятежно проводил время за разговором и стаканом пива, в это самое время на него уже расставляли западню. Это были капитан Курне, американский дипломат и те, кто ими командовал. Но они просчитались. Клод Сен-Бри вывернулся, выкарабкался, выплыл из пучины.
Да, ему не повезло. Но и тем, кто подставил подножку, не поздоровится. Они рассчитывали, что на лесной дороге в Рамбуйе на труп Гаро наткнется простой сельский парень – для того и отвезли тело несчастного поближе к деревне, надеясь, что с таким парнем не будет хлопот. Судьба же послала студента-юриста, рядом с которым оказался старый опытный сыщик – его дядя Жан-Поль Моран. Теперь у них полны руки козырей – провал капитана Курне, раскрытие убийства Гаро, признание Жозефа Боля.
Клод засмеялся, увидев в своей трагедии ироническую улыбку провидения – вчерашняя жертва может вполне стать судьей над теми, кто столкнул ее в пропасть.
«Все это похоже на маскарад, – подумал он, – но я знаю, кто в какой маске, а они про меня не знают…»
Незаметно для себя Клод вышел прямо к ипподрому Булонского леса. Заезд лошадей должен был вскоре начаться. Купив дюжину билетов, он поставил наугад, но ни один его номер не выиграл.
Мансарда, которую снял Клод через дорогу от кафе «Мистраль», не имела никаких удобств. Узкая, как коридор, комната под скошенной крышей, с большим окном, выходящим на небо. Отсюда даже не было видно живописных крыш Парижа. Просматривалось только небо и каменная стена соседнего дома. Старинные мансарды населяли когда-то студенты сорбоннских факультетов. Теперь в них ютилась самая разношерстная публика неопределенных занятий и подозрительной наружности.
Клод валялся в постели и читал скучный детектив, когда, в дверь постучали. Он сказал, чтобы вошли. Гарсон из кафе принес записку от Бернара – его просили быть через час.
Завидев Клода в дверях, бармен помахал рукой, приглашая к стойке.
– Маленький стаканчик охлажденного белого вина, месье Сен-Бри, а? За мой счет, я угощаю.
– Охлажденного пива, пожалуйста.
– Бочкового или бутылочного?
– «Кроненбург».
– Ага, значит, бутылочку «Кроненбурга». Прошу!
Клод уловил суетливость в бармене. Похоже, Бернар нервничал.
– Славная погода, не правда ли, месье Сен-Бри?
– Вы пригласили меня, чтобы составить метеосводку, месье?
Бернар засмеялся, но сразу стал серьезным.
– Месье Сен-Бри, с вами желает поговорить один человек. Он здесь.
– Что за человек?
– Он сам вам представится. Пройдите, пожалуйста, вон туда, там есть отдельный зал.
Бернар проводил Клода в слабо освещенную комнату без окон. Сидевший за столом человек энергично поднялся и бросил хозяину:
– Вы свободны, Бернар!
Бармен вышел, плотно закрыв дверь.
– Здравствуйте, месье Сен-Бри. Позвольте представиться – Джордж Крафт, из американского посольства.
Высокий, спортивного склада, с благородно седеющими волосами, о которых говорят – соль с перцем, с живым проницательным взглядом, Крафт широко улыбнулся и протянул руку.
– Будем знакомы, месье Сен-Бри.
Несмотря на предубеждение и неприязнь, на которые заранее был запрограммирован Клод против любого из «тех», кто переломал его жизнь, а Крафт был один из них, несмотря на это, американец ему понравился – внешностью, манерами, улыбкой. Рука, которую пожал Клод, была холодная и очень сильная.
– Теннисом занимаетесь, месье… Криф.
– Крафт. Джордж Крафт. Да, и теннисом тоже. Присядьте, месье Сен-Бри. У меня к вам дело. Вам, как мне известно, нужны деньги. Мне же нужна некоторая документация вашего покойного родственника Гюстава Гаро. Вы, надеюсь, поняли меня?
– Конкретнее. Какая документация вас интересует?
Крафт снова улыбнулся – широко и открыто, словно рекламировал зубную пасту. И Клод вспомнил исповедь Боля – то место, где он рассказывает о появлении американского дипломата, предложившего купить депутатов: уходя от Боля, дипломат торжествующе улыбнулся.
«Тот самый или все они так вышколены на улыбки?» – подумал Клод.
– Несите нам все, что есть в доме у Гаро, – записные книжки, бумаги, черновики, а мы уж сами разберемся. Идет?
– Я подумаю.
Крафт дотронулся ледяными пальцами до запястья Клода.
– Думайте сейчас, здесь. И решайте. Что вас смущает? Гонорар? Останетесь довольны.
– Кажется, я внятно ответил – подумаю. Всего хорошего.
Клод встал.
– Сколько времени вам нужно на размышление, месье Сен-Бри?
– День.
Но Клод решил не торопить события и только через три дня появился в «Мистрале».
– Передайте, месье Бернар, вашему американскому ДРУГУ» что я жду его у себя завтра ровно в полдень.
– В мансарде?
– Месье Бернар, у меня нет другого жилья.
– Хорошо, месье, хорошо. Я передам, как вы сказали.
На другой день в двенадцать часов дня Джордж Крафт без стука распахнул дверь чердачной комнаты Клода.
– Хелло, месье Сен-Бри! Вы неплохо здесь устроились.
– Добрый день, месье Крафт.
– О, да вы правильно назвали мое имя! Браво.
Клод спрыгнул с постели и подвинул гостю стул.
– Итак, месье Крафт, дело принимает серьезный оборот.
Американец насторожился, оглянувшись зачем-то на дверь.
– Да, да, месье Крафт. Все гораздо серьезнее, чем вы думаете. Но опасность для вас, а опасность есть, не за дверьми и не за окнами моей кельи. Вот она где – в этой магнитофонной кассете. Давайте-ка ее послушаем.
Крафт покосился на стены, сделав движение бровями, как бы говоря: а как там соседи?
– Полдень, месье Крафт, у нас, во Франции, время священное. Все едят. У обитателей мансард нет ни кухни, ни холодильников, и обедают они в забегаловках. Так что не опасайтесь – никого рядом нет.
Клод включил магнитофон.
«Моя жизнь подходит к логическому концу, к завершению…» – заговорил усталым голосом Жозеф Боль.
Крафт слушал, не меняя ни позы, ни бесстрастного выражения лица. Сидел он неестественно – очень прямо, скрестив руки на груди.
Когда пленка кончилась, отрывисто спросил:
– Сколько?
– Всю сумму, обещанную Болю.
Крафт как бы вернулся к жизни: поднял брови и оттопырил нижнюю губу.
– Да, месье Крафт, не удивляйтесь – я хочу именно всю ту сумму, которая была обещана Болю. Но не за эту кассету. Я вам ее дарю. Бесплатно. На память. Я хочу всю сумму, предложенную Болю за то, что оставшиеся в живых три депутата проголосуют за эти ваши игрушки, за ракеты. Я займусь тем, чтобы три названных вами поименно деятеля Соседней страны, которые сейчас пока еще «против», переместились на другую половину парламента – к тем, которые «за». Вы, американцы, поручаете всю эту операцию мне и платите ровно столько, сколько обещали покойному Болю. Ясно?
– Здесь что-то новое, месье Сен-Бри.
– Нет, все то же самое, месье Крафт. Для вас важен конечный результат – 103 руки, поднятые «за». Чтобы ваши ракеты поселились в Соседней стране. И это сделаю я. За те же самые деньги, которые вы хотели дать Болю. Какая вам разница, кому платить? Мне лично плевать и на ракеты, и на участь Соседней страны. Но я не упущу случай, месье Крафт, чтобы заработать большие деньги.
– Все, что вы сказали, надо обдумать.
Ах, вот как! Теперь вы просите тайм-аут. Ну, что же, думайте, вернее, советуйтесь, связывайтесь с Вашингтоном. Это уже ваше дело. Но мое предложение для вас самое верное. Риск? Никакого! Провал? Исключен. Я частное лицо. К тому же француз, и в случае чего – все шишки только на меня, а вы – в стороне. Посудите сами – негоже вам, американцам, напрямую предлагать деньги депутатам Соседней страны. Неужели урок Боля пошел не впрок? Другое дело я.
Крафт, наконец, вставил слово:
– Но у нас, безусловно, есть, как бы вам сказать, ну, опытные и доверенные люди из местных в Соседней стране… А вас мы не знаем.
– Предполагаю. Но я почему-то не хочу, чтобы гонорар уплыл к другим. Это я нашел кассету в доме Гаро, я в курсе всей истории и я желаю на ней заработать сполна. Вы меня не знаете, это верно. Так постарайтесь узнать. Я показываю вам пример своего великодушия – дарю ценнейшую кассету.
Крафт поднялся.
– Вопрос, который вы поставили, я сам решить не могу. Вы понимаете.
– Понимаю. И надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество.
– Могу ли я взять кассету?
– Она ваша, месье Крафт.
Крафт вытащил кассету из магнитофона, сунул в боковой карман пиджака, но, передумав, переложил во внутренний.
– Видимо, у вас осталась переписанная копия? – спросил он уже в дверях, по привычке улыбаясь, но натянуто и нехотя.
– Это уже не ваши проблемы, месье Крафт, сколько у меня копий и где я их храню. Будьте осторожны – лестница здесь очень крутая, дом старинный, ему два с лишним века.
За ужином Клод подробно описал друзьям встречу с американским дипломатом.
– Пока все идет по нашему сценарию, – согласился Жан-Поль. – Но не забывайте, что американцы отличаются удивительной непредсказуемостью в поступках. Они и мыслят-то не как мы, европейцы, а вроде китайцев – шиворот-навыворот, на свой манер. То слишком прямолинейны и наивны, то, наоборот, ходят вокруг да около, и не поймешь, чего хотят, к чему клонят. Вы разве не замечали?
– Я мало сталкивался с ними, – отвечал Клод. – Но этот Крафт, у него располагающая внешность и манера держаться. Мне нравится, что он не петляет, а идет напрямик. Я не люблю людей, беседуя с которыми надо ломать голову над тем, что они думают, а не что говорят.
Робер покачал головой.
– Я бывал в Штатах, писал о них. Американский образ жизни и мышления отличаются вседозволенностью. Привитое с детства сознание вседозволенности и превосходства над неамериканцами – это, на мой взгляд, их национальная болезнь, уродство. Все и везде должно быть так, как хотят они. Как дети, не понимающие слова «нет».
– Дети со временем понимают.
– Может быть, поймут и они. Хотя бы на минуту, если нам удастся доказать их просчеты с ракетами и депутатами в Соседней стране. Хороший был бы урок.
Жан-Поль вытер салфеткой губы.
– Не будем, друзья, делить шкуру неубитого медведя. Давайте-ка лучше поставим себя на место американцев. Заполучив столь важную кассету, как бы поступили мы? Первое – крупно откупиться от Клода и на том с ним порвать. Да, но вдруг он продаст магнитофонную ленту прессе? Клод в их главах показал себя беспринципным делягой, ему и память убитого дяди не в счет – лишь бы захватить большие деньги. Возникает второй вариант – убрать Клода. Тогда и концы в воду. Но опять же – где уверенность, что вместе с его трупом, который, скажем, обнаружат в Сене, не всплывет и дубликат кассеты? Где он ее хранит, кому доверил? Вопрос. Остается третий вариант – принять предложение. А почему бы и нет? Как вы думаете?
– Черт их знает, дядя Жан-Поль, этих янки. Робер же говорит, что у них мозги набекрень.
Робер побарабанил пальцами по столу, и рядом появился официант.
– Чего изволите?
– Нет, нет… Ступайте… Набекрень-то набекрень, но в том и загвоздка. А если они начнут слежку за Клодом или захотят расправиться с ним? Кто может знать, как эту шараду решат изощренные умы в шпионских ведомствах Америки, их компьютеры?
– Во всяком случае отступать некуда – кости брошены, игра в разгаре, – молвил Жан-Поль. – И Клоду ничего не остается, как включиться. Полностью.
– Риск есть, очень большой риск, – твердил Робер. – Дурачить особые службы янки – это вам не с сельской девкой плести шашни. Опасно, Клод, опасно.








