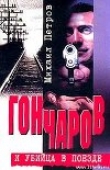Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Владимир Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Гончаров, как религиозно мыслящий художник, тем не менее, ни в коем случае не отрицает науку. В его библиотеке недаром значительное место занимали труды современных светил и популяризаторов естественных наук: Ч. Дарвина, Д. Арго, Д. Тиндаля, Л. Фигье, К. Фламмариона и других Первый герой-«позитивист» в русской литературе Петр Адуев изображается им с определенной симпатией, хотя адуевские сравнения человека с машиной, а психических процессов с механическими могут шокировать. Так, герой говорит, что любовь – это «действие электричества; влюбленные – все равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем – прости, любовь, следует охлаждение». Петр Адуев объясняет своему племяннику, что разум – это «клапан», который природа дала человеку для управления чувством. Он часто обращается к Александру со словами: «закрой клапан», «выпусти пар».
Любопытно, что такое приравнивание психических процессов к механическим не слишком смущает самого автора. Во всяком случае, в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 августа 1860 года он сам буквально и без всякой иронии воспроизводит весь «позитивистский» дух речей своего героя: «… Припадки жизненной лихорадки… это своего рода пар, который требует не того, чтоб выбрасывали его беспорядочно или задыхались от него, а чтоб применяли его к делу, к рельсам и колесам, пользовались им и садились читать, писать или делали что кому назначено». [151]151
Гончаров И. А.Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 8. М., 1980. С. 305.
[Закрыть]
Деятельная направленность психической жизни человека – вот чего ищет Гончаров и вот что находит родственного и здорового в позитивизме. Сравнение человека с паровозом обнаруживает, что писатель (в отличие, например, от Достоевского) признает за позитивизмом определенные права – в рамках цивилизаторской философии «преобразующей деятельности». Научный дух познания, направленного на преобразующую деятельность человека и человечества, оказывается тем здоровым зерном в позитивистской философии, которую автор «Обрыва» вполне приемлет.
Но Гончаров всегда и во всем ставит вопрос о мере вещей. Позитивизм хорош для него лишь до той границы, за которой начинается разрушение равновесия между «умом» и «чувством», «наукой» и «религией». А начинается для него эта граница там, где философию позитивизма берут на вооружение не созидатели-цивилизаторы, а «разрушители-нигилисты». Позитивизм был течением весьма широким, захватывавшим в сферу своего воздействия разнородные силы. Основоположником этого учения, народившегося в 30-х годах XIX века, считается Огюст Конт. Главные представители его – Дж. С. Милль, Г. Спенсер, Г. Бокль, Э. Литтре, Э. Ж. Ренан, а в России – В. Н. Лесевич, М. М. Троицкий, В. Н. Ивановский, П. Л. Лавров, К. К. Михайловский и другие. [152]152
Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 506; Философский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 348–349.
[Закрыть]Влияние позитивистских идей испытали Т. Н. Грановский,
И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, [153]153
Белопольский В. Н.Достоевский и позитивизм. Ростов н/Д., 1985. С. 11.
[Закрыть]М. А. Бакунин [154]154
Пустарнакоб В. Ф.М. А. Бакунин как философ // Бакунин М. А.Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 27.
[Закрыть]и другие. Со многими трудами позитивистов Гончаров был знаком как цензор.
Писатель признавал роль позитивизма в развитии естествознания, науки, но при этом активно протестовал против попыток позитивистов привнести естественно-научные методы в учение о нравственности, в понимание человеческой природы и природы общественной жизни. Особенно его возмущало отрицание самой категории «идеального», понятия «души». [155]155
См.: Капустин М. П.От какого наследства мы отказываемся? // Октябрь. 1988. № 4.
[Закрыть]В работе вульгарного материалиста А. Бюхнера «Сила и материя» сказано: «Надо поставить науку на место религии, веру в естественный и ненарушимый миропорядок на место веры в духов и призраки, естественную мораль на место искусственной и догматической». [156]156
Бюхнер А.Сила и материя. М., 1906. С. 283.
[Закрыть]В эти годы некоторые церковные публицисты с сожалением отмечали, что наука и религия нигде так не отчуждены друг от друга, как в России. [157]157
Уткина Н. Ф.Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. М., 1975. С. 53. Автор монографии отмечает, что «начиная с 60-х годов богословы приступили вплотную к теме «церковь и наука» (С. 53). Гончаров по-своему поучаствовал в общей полемике, выведя, в частности, образ отца Николая в «Обрыве». Этот священник читает книги новейших европейских философов, но не отступает от Евангельской истины, а, напротив, ведет к ней Марфеньку и, несомненно, других обитателей Малиновки.
[Закрыть]Гончаров прекрасно видел опасность, которая грозила русскому обществу из-за резкого разрыва в сознании «передовых» людей между Евангелием и наукой. Он неоднократно высказывался по этому поводу, неизменно подчёркивая, что пути науки и религии «параллельны и бесконечны».
Первый роман гончаровской трилогии можно соотнести с первой же частью «Божественной комедии» Данте. Здесь доминирует тема ада. Ад в «Обыкновенной истории» – одно из наиболее емких и значимых понятий. Не только потому, что два главных персонажа романа носят фамилию Адуевы. При этом
Адуев-старший рассуждает, по выражению племянника, «адски холодно». Адом, с точки зрения провинциальных обитателей, является сам символ прогресса – Петербург. Противополагая Петербург провинции, Гончаров, в сущности, ставит проблему соотнесённости нравственности, с одной стороны, и цивилизационного прогресса – с другой. Уже в 1840-х годах взгляд на эту проблему у Гончарова определился окончательно. Если в «Обыкновенной истории» она «сформулирована» эстетически, то в прямой форме Гончаров выражает ее в предисловии к роману «Обрыв»: «…B нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие…»То есть, по Гончарову, нравственные истины не зависят от прогресса, от степени цивилизованности людей. Однако прогресс облегчает жизнь людей, дарит людям комфорт (одно из ключевых понятий для Гончарова). Этим определяется его особое внимание к цивилизационному историческому процессу.
В «Обыкновенной истории» два полярных пространственных полюса: Петербург и имение Александра Адуева, место зарождения его «младенческой веры» – Грачи (ад и рай). Петербург ассоциируется в романе с адом не только по фамилии главных героев. При отъезде в столицу Сашеньки Адуева мать говорит ему: «И ты хочешь бежать от такой благодати… в омут, может быть, прости Господи… Останься!» Омутом Петербург Анна Павловна называет прежде всего из-за того, что в нем люди почти не ходят в церковь:
«– Ходил ли он в церковь?
Евсей несколько замялся.
– Нельзя сказать, сударыня, чтоб больно ходили… – нерешительно отвечал он, – почти можно сказать, что и не ходили… там господа, почесть, мало ходят в церковь…
– Вот оно отчего! – сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. – Видно, Богу не угодны были одни мои молитвы. Сон-то и не лжив: точно из омутавырвался, голубчик мой!»
В конце своего пребывания в Петербурге уже и сам Александр несколько раз называет его «омутом».
Естественной оппозицией аду-омуту является в романе рай. Рай в «Обыкновенной истории» представлен как идиллия, причем часто это – литературная идиллия. Дядя склонен к скептическому, насмешливому восприятию идиллического. Он смеется над своим племянником, когда говорит:
Мне хижина убога
С тобою будет рай…
Однако сами обитатели Грачей воспринимают имение как райскую обитель. Ассоциации с раем вызывает в некоторых случаях и слово «сад» (что вообще свойственно для Гончарова). Слово «сад» в романе зачастую отсвечивает библейскими оттенками смысла. Таков сад в Грачах: «От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени». В таком-то саду и зарождается «младенческая вера» мальчика Александра – до его столкновения с современной цивилизацией Петербурга, в котором происходит демифологизация нежной детской веры.
Как сказано у любимого Пушкина, «ум сомненьем взволновал». Один из ведущих мотивов «Обыкновенной истории» – мотив искушения. В роли демона-искусителя выступает прагматичный и рациональный «цивилизатор», или, как говорил иногда сам Гончаров, «культурхер», Пётр Адуев – дядя Александра. На своего дядю Александр смотрит через призму поэзии Пушкина. В письме к своему другу Поспелову он так характеризует Петра Ивановича: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона… Не верит он любви и проч., говорит, что счастья нет…» Имеется в виду пушкинское стихотворение «Демон». Как и лирический герой «Демона», младший Адуев переживает время, когда ему «новы все впечатленья бытия – и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья». Ему также волнуют кровь «свобода, слава и любовь». Дядя же его, как и пушкинский демон, «вливает в душу хладный яд», «зовет прекрасное мечтою», «не верит… любви, свободе», «на жизнь насмешливо глядит»…
За несколько лет жизни в столице Александр утрачивает все свои идеалы, религиозные верования, веру в любовь, в дружбу, в высокое служение Отечеству – да и всему «человечеству». Он переживает душевный упадок и чувствует, что ему нужно осмотреться, осмыслить прожитый опыт. Утрату «младенческих верований» он осознает как катастрофу. Вернувшись в Грачи, Александр восклицает: «Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?., ничего: я нашел сомнения, толки, теории… и от истины еще дальше прежнего… К чему этот раскол, это умничанье?.. Боже!., когда теплота веры не греет сердца, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я?» Гончаров мудрец и даёт нам понять, что задача современного человека – совсем не в том, чтобы обладать либо «младенческими верованиями», либо цивилизационными принципами, а в том, чтобы соединить то и другое. Нужно соединить прагматическую деятельность и поэзию, развитый аналитический ум – и сердце, науку – и «теплоту веры». Окунаясь в цивилизационный процесс, необходимо не утратить истинной веры и христианских идеалов. В этом-то и вся соль, и вся премудрость! Это «момент истины» в «Обыкновенной истории». Кажется, Александр, наконец, понимает «меру жизни»: «Пока в человеке кипят жизненные силы, – думал Александр, – пока играют желания и страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия… он приходит искать утешения в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет…»
Таким образом, Гончаров очень рано нащупал идейный нерв своих романов, связанный с изображением человека, отошедшего от простоты и наивности «младенческой веры» и не обретшего веру иную – мужественную, сознательную, «реальную» в том смысле, что преданность Божьей воле сочетается в человеке с мужеством исторического деятеля.
После петербургского «омута» душа героя совсем иначе воспринимает Бога: перед нами уже не то «отмахивание» от материнских наставлений, какое мы видим в начале романа, когда Александр собирается в Петербург, кажущийся ему «землей обетованной». Кажется, герой вот-вот переродится духовно, вернется к вере – и роман уложится в смысловые рамки притчи о блудном сыне. Однако Гончаров пишет типичную картину современного духовного состояния людей. Устами Адуева здесь говорит все современное человечество. Гончаров строго констатирует факт духовного перерождения русского общества. «Младенческая вера» для самого автора «Обыкновенной истории» совсем не абстракция. Он видел ее, наивную и смешанную с обрядоверием, – в Симбирске, в симбирских церквях, в своем родном доме. В народном православии писатель видел крайне необходимое зерно живой «младенческой веры», которое должно сохраняться на всех уровнях религиозного состояния человека – в любом социальном сословии, на любом уровне интеллектуального развития. Сам Гончаров на протяжении всей жизни – при различной степени своей воцерковленности в разные периоды жизни – хранил это зерно «младенческой веры», страха Божия и смирения. В письме к А. Ф. Кони от 30 июня 1886 года он писал: «Я с умилением смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенке в церквах или в своих каморках перед лампадой, тихо и безропотно несут свое иго – и видят жизнь и над жизнью высоко только крест и Евангелие, одному этому верят и на одно надеются!
Отчего мы не такие. «Это глупые, блаженные», – говорят мудрецы мыслители. Нет – это люди, это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных. Тех есть Царствие Божие и они сынами Божиими нарекутся!» [158]158
Кони А. Ф.Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 76.
[Закрыть]
Александр возвращается в Петербург с благими намерениями. Однако никакого синтеза «христианства» и «цивилизации», «теплоты веры» и «деятельности» не происходит. У героя не оказывается должного мужества, чтобы выстроить свою личностную философию жизни, противостоять соблазнам окружающей «среды». Он идёт по пути наименьшего сопротивления: малодушно начинает жить «как все», идёт «в ногу с веком»: «Я иду наравне с веком: нельзя же отставать!» В сущности, герой отказывается от своих идеалов и от дальнейшего «беспокойного» духовного поиска и становится заурядным обывателем. Задача поиска смысла жизни снимается. Он терпит духовное поражение и просто механически повторяет вариант жизненного пути своего дядюшки. «Обыкновенная история» потому и обыкновенна, что она повествует о человеке, выбравшем торную дорогу: от одних иллюзий к другим, от тезы к антитезе, минуя «синтез». Лишь «необыкновенные истории» – удел немногих. История же «обыкновенная» – массовая, для большинства. Эпиграфом к «Обыкновенной истории» могли бы стать слова Христа из Евангелия от Матфея: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф., 7:13–14). Александр Адуев идет «широкими вратами», «обыкновенной», торной дорогой, и его путь – к духовной смерти. Отсюда и фамилия героя.
Роман оказался настолько новаторским, что даже критика не сразу осознала его истинное значение. В «Обыкновенной истории» Гончаров ступил на дорогу серьезной самостоятельной мысли. Он, пожалуй, как никто из его современников, далеко отходит в романе от захватившей в то время всех и вся гоголевской традиции, в частности – полукарикатурного изображения чиновничества. Его Пётр Адуев – объективное, а в чём-то и идеализированное изображение крупного современного чиновника: он умён, имеет, помимо службы, своё собственное дело (фарфоровый завод), он «знает наизусть не одного Пушкина», «читает на двух языках всё, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, – часто бывает в театре…». Очевидно, Гончаров уже внимательно вглядывался в этот новый тип времени, «собирая» его черты среди некоторых своих знакомых. Недаром Белинский сказал о нём: «Петр Иваныч – не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь рост кистью смелою, широкою и верною».
Роман «Обыкновенная история» – произведение сугубо петербургское. Однако первый отзыв на него появился в Москве.
Аполлон Григорьев писал в «Московском городском листке»: ««Обыкновенная история» Гончарова, – может быть, лучшее произведение русской литературы со времени появления «Мертвых душ», первый опыт молодого таланта… опыт, по простоте языка достойный стать после повестей Пушкина и почти наряду с «Героем нашего времени» Лермонтова, а по анализу, по меткому взгляду на малейшие предметы, вышедший непосредственно из направления Гоголя». Первые критики романа сразу отметили исключительную наблюдательность Гончарова: «.. От наблюдательности г-на Гончарова не ускользает ни одно малейшее движение Евсея, Аграфены, дворника, его жены, ямщика, лодочников. Эти черты наблюдательности тем больше вас поражают, что рядом с ними в то же время главное действие продолжается само собою, идет своим путем…» Новыми, ни на кого не похожими были и женщины в романе. Белинский отметил это первым: «Мы не будем распространяться насчет мастерства, с каким обрисованы мужские характеры; о женских мы не могли не заметить, потому что до сих пор они редко удавались у нас даже первостепенным талантам; у наших писателей женщина – или приторно сентиментальное существо, или семинарист в юбке, с книжными фразами. Женщины г. Гончарова – живые, верные действительности создания. Это новость в нашей литературе». Так уже первые рецензенты романа обратили внимание на совершенную самостоятельность Гончарова как художника. В отзывах особо отмечался лёгкий, правильный, льющийся язык автора «Обыкновенной истории», о которой Белинский сказал, что это «не печатная книга, а живая импровизация». В. П. Боткин писал Белинскому: «Этой изящной легкости и мастерства рассказа я в русской литературе не знаю ничего подобного». Уже в первом романе проявилось одно из главных качеств Гончарова: он умеет о самых серьезных и даже драматических вещах говорить без пафоса, описывая поток будничной жизни просто и даже с постоянно пробивающимся мягким и каким-то очень симпатичным юмором. Это не гоголевский юмор, «забирающий за живое» острым и метким словцом. Нет, юмор Гончарова – это мягкое и задушевное сочетание серьезного и ироничного. И это необыкновенное сочетание проявляется не местами, а практически на протяжении всего текста произведения. Во всяком случае, так обстоит дело в «Обыкновенной истории». Но чем более автор вкладывает в роман сам себя, тем менее в нем этой стилистической ровности. В «Обломове», книге более автобиографичной, возникают уже некоторые разрывы между юмором и драматизмом. А в «Обрыве» Гончаров порою возвышается и до пафоса. Первый роман прояснил и другое: в произведениях Гончарова практически нет цвета, хотя писатель чрезвычайно тяготеет к живописи. Зато он очень пластичен, почти скульптурен. Он прирождённый мастер большой художественной формы: романы Гончарова имеют великолепную продуманную архитектонику.
Первое крупное произведение Гончарова по достоинству оценили самые взыскательные читатели. Л. Н. Толстой послал «Обыкновенную историю» своей знакомой с припиской: «… Прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее».
На Родине. Варвара Лукьянова
После опубликования «Обыкновенной истории» Гончаров сразу становится известным. Это уже не любитель литературы, который примелькался в майковском литературном салоне, но одна из крупнейших фигур современной русской литературы. Его хвалит печатно сам Белинский! Его приглашают для литературной работы в петербургские журналы. Гончаров соглашается, но публикует лишь фельетоны, очерки и пр. – без указания своего имени. Мы до сих пор не можем точно сказать, что и под какими псевдонимами опубликовал Гончаров в это время. В «Современнике» Гончаров заполняет отдел «Смесь», однако мы и до сих пор не можем точно сказать, сколько и какие именно произведения поместил здесь писатель. Ничего не можем сказать и о других журналах, в которых печатался Гончаров.
В автобиографии 1858 года Гончаров рассказал, что участие в майковских домашних журналах постепенно «перешло, хотя мало и незаметно, уже в журналы, в которых участвовали некоторые из друзей Майковых. И Гончаров перевел и переделал с иностранных языков несколько разного содержания статей и поместил в журналах без подписи имени». Причиной обращения к подобной работе было всё ещё не слишком хорошее материальное положение писателя. У Гончарова не было родового имения, высоких доходов: он жил чиновничьим трудом. Позже он признавался: «Твердой литературной почвы у нас не было, шли на этот путь робко, под страхами, почти случайно. И хорошо еще у кого были средства, тот мог выжидать и заниматься только своим делом, а кто не мог, тот дробил себя на части! Чего и мне не приходилось делать!» Как это напоминает восклицание Некрасова, вспоминавшего те же годы: «Прозы моей надо касаться осторожно. Я писал из-за хлеба. Много дряни…»* Гончаров откровенной «дряни» не писал никогда, даже из-за хлеба. Даже в его рядовых журнальных работах всегда присутствует некая литературная «сверхзадача». Характерны в этом смысле появившиеся среди прочего в журнале «Современник» гончаровские «Письма столичного друга к провинциальному жениху». Разговор о моде и современных нравах Гончаров возводит здесь в настоящий философский этюд.
Однако пробуя своё перо в малых жанрах, собственно в журналистике, Гончаров всё более и более понимал, что он прежде всего романист – с широкой кистью, со стремлением к огромным и содержательным эпическим и бытовым картинам: «У меня было перо не публициста, а романиста». В 1849 году в «Литературном сборнике» журнала «Современник» был опубликован «Сон Обломова», по выражению самого Гончарова, «увертюра всего романа». Действительно, хотя второй роман Гончарова снова построен на столкновении позиций двух противоположных героев (славянская созерцательность и немецкая деятельность, мягкая сердечность и жёсткий расчёт и пр.), центральной фигурой является именно Обломов. В «Сне» автор показывает нам тот мир, в котором родилась и оформилась созерцательная, мягкая, незлобивая славянская душа Обломова. В этом произведении масштаб художественных обобщений настолько велик, что перед нами предстаёт не Обломовка, даже не Россия, а некий мифологизированный, полусказочный «русский мир», несущий в себе набор самых важных, национально образующих, воспринимаемых на уровне подсознания черт. Одновременно это и мир вселенский, патриархальный, почти античный, навсегда уходящий в прошлое. В «Сне Обломова» художественный талант Гончарова выражается во всей своей силе и полноте. Автор блистает здесь своими самыми выигрышными сторонами: удивительной пластикой, умением погрузиться и рельефно представить неуловимые никакой логикой вне пластического образа подсознательные пласты жизни «внутреннего человека» и целого народа, и даже человечества. Недаром Ф. Достоевский отмечал, что эту «увертюру» к гончаровскому роману «с восхищением прочла вся Россия!».
Описывая старую Обломовку, Гончаров не только иронизирует и критикует, но и любуется непреходящими нравственными ценностями, которые таит для него в себе мир патриархальной русской жизни. Господствующее чувство в «Сне Обломова» – всепроникающая любовь, гармония человека и природы, пейзажа и творения человеческих рук. Автор как бы говорит: плох или хорош этот «русский космос», но вот он – худо-бедно существует, в нём нет ничего неорганического, изломанного, искусственного; в нём все любят всех, каждый доволен своим местом; в этом мирке царят любовь и покой. Всепобеждающая сила прогресса, несомненно, сомнёт этот живой цветок, но не стоит ли с любовью и раздумчивой грустью расстаться с ним, а может быть, и сохранить в новой жизни его непреходящий аромат. Принимая и строя новое, не потерять бы живой связи всего со всем – как она сложилась в течение тысячелетий. Гончаров, конечно, понимает, что силы этого почти античного патриархального мира уже на исходе. Уже слышны тревожные, жёсткие, лязгающие, чуждые этому миру голоса и звуки, надвигается на него что-то из другого, неведомого мира. Разрушается русская сказка, русский миф, неотвратимо надвигаются перемены. Автор «Сна» и сам зовёт к пробуждению, но ему всё-таки жалко эту старую патриархальную идиллию, как бывает жалко расставаться со старым и уже негодным жилищем, в котором прошли годы детства, в котором ты вырос – около своей матери, рядом с целым роем братьев и сестер…
И однако именно славянофилы, которым пластический строй «Сна Обломова», казалось бы, должен был быть очень близок, не с абсолютным восторгом прочли гончаровское произведение! «Сон Обломова» вышел в марте, а уже в начале июня в журнале «Москвитянин» появилась в целом неодобрительная рецензия на увертюру к гончаровскому роману [159]159
Москвитянин. 1849. № 11.
[Закрыть]. После восторженного отзыва Аполлона Григорьева на роман «Обыкновенная история» в 1847 году Москва более не будет баловать Гончарова своими аплодисментами. Славянофильский журнал в общем принял идиллическую картину жизни обломовцев, но отметил при этом, что «нельзя трунить» над сердечной простотой обитателей обломовки. Узкая партийность не позволила понять, что Гончаров трунит совсем не над «сердечной простотой» обломовцев, а над «прогнившими» чертами русской жизни: над инертностью, ленью, а прежде всего над безответственностью, ослабленным чувством долга, над эстетизированием собственных слабостей… Как ни мала казалась язва в середине XIX века, но Гончаров усмотрел в ней смертельную опасность для будущего России. И оказался прав! Славянофилы же этого не разглядели. Вообще московские издания, славянофильские по духу, как правило, отзывались на произведения романиста либо сдержанно, либо неодобрительно. «Свои своего не познаша…»
Гончаров, конечно, уже понял эту тенденцию, когда отправился в 1849 году на родину через Москву. В старой столице он остановился на неделю, встретился с матерью, братом Николаем, сестрой Анной. Они рассказали ему о недавней смерти крестного отца и настоящего друга семьи – H.H. Трегубова. В письме к Майковым от 13 июля 1849 года он описывает своё новое, уже нестуденческое восприятие Москвы. Как всё переменилось, какой провинциальной показалась она писателю после пятнадцатилетнего отсутствия: «Что вам сказать о Москве? Тихо дремлет она, матушка. Движения почти нет. Меня поразила страшная отсталость во всем, да рыбный запах в жары. Мне стало и грустно и гнусно. Поэзия же воспоминаний, мест исчезла. Хладнокровно, даже с некоторым унынием посматривал я на знакомые улицы, закоулки, университет, но не без удовольствия шатался целый вечер по Девичьему полю с приятелями, по берегам Москвы-реки; поглядел на Воробьевы горы и едва узнал. Густой лес, венчавший их вершину, стал теперь, ни дать ни взять, как мои волосы. Москва-река показалась лужей: и на той туда же острова показались, только, кажется, из глины да из соломы. Одним упивался и упиваюсь теперь: это погодой, и там и здесь. Ах, какая свежесть, какая тишина, ясность и какая продолжительность в этой тихой дремоте чуть-чуть струящегося воздуха; кажется, я вижу, как эти струи переливаются и играют в высоте. И целые недели – ни ветра, ни облачка, ни дождя.
Московские друзья мои несколько постарели, но не изменились ко мне, ни я к ним. Во мне и Вы заметили это свойство. Сошлись мы с ними так, как будто вчера расстались. Я говорю о немногих, о двух, трех».
Кто же те друзья, с которыми мог тогда встретиться Гончаров? С уверенностью можно назвать лишь одного из них: Ивана Ефремовича Барышова. С ним Гончаров учился в Коммерческом училище, а затем и в университете. Барышов с 1851 года был воспитателем, а в 1858–1869 годах директором того самого Коммерческого училища. Подробности московской недели Гончарова почти неизвестны. Впрочем, упоминается, что он присутствовал на чтении «прекрасной комедии» неким «молодым автором». В 1849 году в русской литературе появилась всего лишь одна прекрасная комедия молодого автора – это «Свои люди – сочтёмся» А. Н. Островского, воспитанного, как и Гончаров, на образцах Малого театра в Москве. К этому времени и следует относить знакомство двух писателей, которое продолжалось всю жизнь и было проникнуто, во всяком случае со стороны Гончарова, чрезвычайным уважением и признанием огромного таланта и глубинной творческой близости. Если учесть, что в одно время с Островским творили Ф. Достоевский и А. Толстой, кажется порою непонятным, почему львиная доля похвал, отпущенных Гончаровым своим современникам, принадлежит именно Островскому. Лишь в исключительных случаях романист допускал возможность художественных слабостей некоторых вещей Островского. Несомненно, драматург задевал его за живое, трогал самые сокрытые струны его души и был чрезвычайно близок ему по художнической сути. Вот как он говорит, например, о «Грозе»: «Не опасаясь обвинения в преувеличении, могу сказать по совести, что подобного произведения, как драмы, в нашей литературе не было. Она бесспорно занимает и, вероятно, долго будет занимать первое место по высоким классическим красотам. С какой бы стороны она ни была взята, – со стороны ли плана создания, или драматического движения, или, наконец, характеров, всюду запечатлена она силою творчества, тонкостью наблюдательности и изяществом отделки». И ещё о самом Островском, о его значении в русской литературе: Островский исчерпал «океан русской народной жизни… как Шекспир и Вальтер Скотт исчерпали историю Англии. После них осталось немного последующим художникам»… Да ведь это и о себе сказано! Очевидно, ещё при первой встрече с «молодым автором» Гончаров почувствовал эту необычайную близость себе Островского. В этой их близости всё ещё остаётся какая-то загадка. Возможно, Гончаров ценил в своём талантливом современнике не только необычайный и близкий по духу талант, но и главное – затаённую, но глубокую любовь к России – не в общих чертах, а в её многовековой глубине. Снегурочка и Лель Островского не из того же ли теста сотворены, что и Илья Обломов, и Марфенька, и Бабушка, и Агафья Матвеевна?
Из Москвы путь до Симбирска уже был недолог: всего 700 вёрст! Четырнадцать лет не был он дома! Зато теперь Иван Александрович навёрстывает упущенное. Писатель Г. Н. Потанин вспоминает этот приезд Гончарова: «Это было самое счастливое время для Гончарова; он жил здесь, если можно так выразиться, самою живою жизнью, какою только может жить человек на земле. Тут было все: и радость первого литературного успеха, и пленительные воспоминания детства, и сияющее лицо матери, и ласки, восторги, подарки тому же счастливому любимцу, и воркование слепой няни, которая теперь готова молиться на своего Ванюшу, и раболепие старика слуги, который, как мальчишка, бегает, суетится, бросается во все углы, лишь бы угодить Ивану Александровичу. А тут еще такой почет общества, приглашение губернатора быть без чинов, человеком своим, и, наконец, гордость купцов: «Каков наш Гончаров! Вон куда залетают из наших!» Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всем окружающим, он здесь вполне чувствовал, что он именно то солнце, которое все собой озаряет и радует всех. Зато надобно было видеть, как Иван Александрович в это время был жив и игрив. Боже мой! Как умилительно прикладывался к руке матери, точно к иконе, и в порыве так страстно обнимет старуху, что та задыхается в объятиях сына, на лету ловит, целует брата, сестер, племянников, племянниц, да что и говорить о кровных родных, – он в настоящее время всем был близкий родной. Придет какой-нибудь мещанин Набоков, семьюродный внук дедушке Ивана Александровича, скажет простодушно: «На тебя пришел поглядеть, Иван Александрович! Какой-такой ты есть на свете?» – и этого он приветит, приласкает, поцелует, усадит в кресло; час толкует с ним об его огороде; спросит: «Есть ли садик? Здесь у всех садики»; узнает, есть ли семья, детки и, если беден, так денег даст. Даже с прислугой он обращался точно с братьями и сестрами; комично кланяется всем и смешит».
Ещё одно событие нельзя замолчать. Это первая из известных нам любовей Гончарова. Об этой женщине – единственной, кому писатель Иван Александрович Гончаров делал предложение руки и сердца, – почти ничего не известно. Виновник этого – сам писатель. Как никто из русских авторов XIX века, уже почувствовавших некоторый вкус к быстрому достижению известности, Гончаров охранял свою личную жизнь и проявлял непоколебимое уважение к тайне чужой жизни и личности.