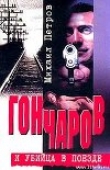Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Владимир Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Райский является в романе духовным «наставником» Веры: «От этого сознания творческой работы внутри себя и теперь пропадала у него из памяти страстная, язвительная Вера, а если приходила, то затем только, чтоб он с мольбой звал ее туда же, на эту работу тайного духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его в ней, и умолять беречь, лелеять, питать его в себе самой».Вера и признает в Райском эту учительную роль, говоря, что если пересилит свою страсть, то за духовной помощью придет к нему первому. В его фамилии ассоциированы представления не только о райском саде (Эдем-Малиновка), но и о райских вратах, ибо его искреннее желание переделать жизнь вызывает в памяти евангельское выражение: «Толцытеся – и отверзется вам» (в райские врата). Нельзя сказать, что Райскому до конца удалось совлечь с себя «ветхого человека». Но такую задачу он перед собой поставил и пытался ее выполнить, как умел. В этом смысле он не только сын Александра Адуева и Ильи Обломова, но и герой, которому удалось преодолеть в себе некую инерцию, выйти на активную, хотя и не завершенную борьбу с грехом.
В «Обрыве» главное ожидание – ожидание милосердия Творца. Его ждут все герои, которые связывают свою жизнь с Богом: ждет Бабушка, желающая искупить свой грех, но не знающая – как и чем. Ждет Вера, претерпевшая жизненную катастрофу. Ждет Райский, без конца падающий и восстающий от греха. Становится ясно, что герои Гончарова разделяются в романе на тех, кто выражает желание быть с Богом, и на тех, кто сознательно от Него отходит. Первые отнюдь не святы. Но ведь Бог, как говорит пословица, «и за намерение целует». Бабушка, Вера, Райский хотят быть с Богом, устраивают свою жизнь под Его водительством. Они совсем не застрахованы от ошибок и падений, но главное не в этом, не в безгрешности, а в том, что их сознание и воля направлены к Нему, а не наоборот. Таким образом, Гончаров не требует от своих героев собственно святости. Их спасение не в безрешности, а в направленности их воли – к Богу. Дело их спасения должно завершить Божие милосердие. Если сравнивать художественное произведение с молитвой, то роман «Обрыв» – это молитва «Господи, помилуй!», взывающая к Божьему милосердию.
Гончаров так и не станет писателем-пророком, художником, типа Кирилова. Автор «Обрыва» чужд абсолютных устремлений, он не пророчествует, не заглядывает в бездны человеческого духа, не ищет путей ко всеобщему спасению в лоне Царства Божьего и т. д. Он вообще не абсолютизирует ни один принцип, ни одну идею, на все смотрит трезво, спокойно, без характерных для русской общественной мысли апокалиптических настроений, предчувствий, порывов в далекое будущее. Это его внешне видимое «спокойствие» отметил еще Белинский: «Он поэт, художник – больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его ни веселят, ни сердят, он не дает никаких нравственных уроков…» [235]235
И. А. Гончаров в русской критике. М., 1958. С. 32.
[Закрыть]Уже упоминавшееся письмо к С. А. Никитенко (14 июня 1860 года) о судьбе Гоголя («он не умел смириться в своих замыслах… и умер») свидетельствует о том, что Гончаров следовал в творчестве принципиально иным, непророческим путем. Гончаров желает остаться в рамках искусства, его христианство выражается скорее по-пушкински, нежели по-гоголевски. Гоголь-Кирилов – не его путь в искусстве, да и в религии.
Роман «Обрыв» резко поднял тираж журнала «Вестник Европы», в котором был напечатан. Редактор журнала М. М. Стасюлевич писал А. К. Толстому 10 мая 1869 года: «О романе Ивана Александровича ходят самые разнообразные слухи, но все же его читают и многие читают. Во всяком случае только им можно объяснить страшный успех журнала: в прошедшем году за весь год у меня набралось 3700 подписчиков, а нынче, 15 апреля, я переступил журнальные геркулесовы столпы, то есть 5000, а к
1 мая имел 5200». «Обрыв» читали с затаённым дыханием, передавали из рук в руки, делали о нём записи в личных дневниках. Публика наградила автора заслуженным вниманием, и Гончаров время от времени ощущал на своей голове венец настоящей славы. В мае 1869 года он пишет своей знакомой Софье Никитенко из Берлина: ««Обрыв» дошёл и сюда… На самой границе я по поводу его встретил самый радушный приём и проводы. Директор таможни русской бросился мне в объятия, и все члены её окружили меня, благодаря за удовольствие! Я заикнулся о том, что на обратном пути желал бы доехать также отдельно, покойно, один в особом помещении. «Что хотите, что хотите, – сказали они, – только дайте знать, когда будете возвращаться». И в Петербурге начальник и помощник станции были любезны и посадили меня в особый уголок, а на окне написали мою фамилию, с надписью занято. Всё это глубоко трогает меня». Образы Бабушки, Веры и Марфеньки, написанные с необыкновенной любовью, сразу стали нарицательными. В канун 50-летия писательского труда Гончарова его посетила делегация женщин, которая от имени всех женщин России подарила ему часы, украшенные бронзовыми статуэтками Веры и Марфеньки. Роман должен был принести автору очередной триумф. Однако изменилась ситуация в обществе и журналистике. Почти все ведущие журналы к тому времени занимали радикальные позиции и потому остро критически восприняли негативно очерченный Гончаровым образ нигилиста Волохова. В июньском номере журнала «Отечественные записки» за 1869 год вышла статья М. Е. Салтыкова-Щедрина «Уличная философия», в которой известный писатель дал резко отрицательный отзыв о романе и упрекал Гончарова в непонимании передовых устремлений молодого поколения. Умён, очень умён был великий сатирик, а всё-таки ошибся, ожидая для России блага от молодых нигилистов. Революционный демократ Н. Шелгунов также дал разгромный отзыв о романе в статье «Талантливая бесталанность». Оба критика упрекали Гончарова в карикатурном изображении Марка Волохова. Собственно, это была не критика, а повод «побузить».
В письме к М. М. Стасюлевичу романист писал: «Сколько я слышу, нападают на меня за Волохова, что он – клевета на молодое поколение, что такого лица нет, что оно сочинённое. Тогда за что же сердиться? Сказать бы, что это выдуманная, фальшивая личность – и обратиться к другим лицам романа и решить, верны ли они, – и сделать анализ им (что и сделал бы Белинский). Нет, они выходят из себя за Волохова, как будто всё дело в романе в нём!» И всё-таки по прошествии некоторого времени нашёлся один мудрый писатель, который хотя и сочувствовал пресловутому «молодому поколению», но оказался шире узкопартийных тенденций и выразил уже спокойный, отстоявшийся взгляд на творчество Гончарова и, в частности, на его «Обрыв»: «Волохов и всё, что с ним связано, забудется, как забудется гоголевская «Переписка», а над старым раздраженьем и старыми спорами будут долго выситься созданные им фигуры». Так написал Владимир Галактионович Короленко в статье «И. А. Гончаров и «молодое поколение»». [236]236
Короленко В. Г.И. А. Гончаров и молодое поколение: (К 100-летней годовщине рождения) // Рус. богатство. 1912. № 6. С. 167–176.
[Закрыть]
Чрезвычайно высоко оценил роман А. К. Толстой: он, как и сам Гончаров, почувствовал сговор «передовых» журналов против «Обрыва», [237]237
В письме к Стасюлевичу от 17 декабря 1869 г. он пишет о некоем предписании, «которое, кажется, роздано журналами друг другу».
[Закрыть]тем более что критическая статья о романе появилась даже в… «Вестнике Европы», который только что закончил публиковать гончаровское произведение. Это было что-то новое, неприятное и неприличное, ранее не встречавшееся в русской журналистике. А. Толстой не удержался от того, чтобы не высказать Стасюлевичу своих чувств: «В Вашем последнем (ноябрьском. – В. М.) № есть статья Вашего шурина, г-на Утина, о спорах в нашей литературе. При всём моём уважении к его уму, я не могу, с моею откровенностью, не заметить, что он оказывает странную услугу молодому поколению, признавая фигуру Марка его представителем в романе… Ведь это… называется на воре шапка горит!» Как мог, Толстой старался утешить своего знакомца. В 1870 году он пишет стихотворение «И. А. Гончарову»:
Не прислушивайся к шуму
Толков, сплетен и хлопот,
Думай собственную думу
И иди себе вперед.
До других тебе нет дела,
Ветер пусть их носит лай!
Что в душе твоей созрело —
В ясный образ облекай!
Тучи черные нависли —
Пусть их виснут – черта с два!
Для своей живи лишь мысли,
Остальное трын-трава!
Гончарову и вправду ничего не оставалось, как углубиться и уйти в себя: критики писали как будто не о его романе, а каком-то совсем другом произведении. Наш мыслитель В. Розанов заметил по этому поводу: «Если перечитать все критические отзывы, явившиеся… по поводу «Обрыва», и все разборы какого-нибудь современного ему и уже давно забытого произведения, то можно видеть, насколько второе одобрялось более… нежели роман Гончарова. Причина этой враждебности заключалась здесь в том, что не будь этих дарований (типа Гончарова. – В. М.), текущая критика могла бы ещё колебаться в сознании своей ненужности: слабостью всей литературы она могла бы оправдывать свою слабость… Но когда в литературе существовали художественные дарования и она не умела связать о них нескольких значущих слов; когда общество зачитывалось их произведениями, несмотря на злобное отношение к ним критики, а одобряемых ею романов и повестей никто не читал, – критике невозможно было не почувствовать всей бесплодности своего существования». [238]238
Розанов В. В.Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 253–254.
[Закрыть]Тем не менее спешно и весьма тенденциозно написанные статьи о романе больно ранили Гончарова. И именно потому, что в «Обрыв» были заложены самые затаенные, самые глубокие идеи романиста. Ни в одном из своих романов Гончаров не пытался столь концентрированно выразить свое миропонимание, его христианскую основу. Главное – роман изображал настоящую, пронизанную теплом и светом родину, изображал героев, которые, являясь обыкновенными людьми, в то же время несли в себе черты высочайшей духовности. Истоки этого В. В. Розанов видел в «Капитанской дочке» Пушкина. [239]239
Там же. С. 259–260.
[Закрыть]Но «передовая» журналистика даже не заметила в романе главного, не увидела любви, которую вложил романист в описание русской женщины, русской провинции, не увидела его тревоги за Россию и той высоты идеала, с которой смотрит Гончаров на русскую жизнь. Её интересовала лишь узкопартийная солидарность с нигилистом, негативно поданным в романе. Им не с руки было признавать полную художественную объективность этого образа. А ведь до сих пор, когда говорят о нигилистах в русской литературе XIX века, на ум приходит прежде всего
Марк Волохов – рельефно и, кстати сказать, совсем не без любви изображённая фигура поддавшегося очередной российской иллюзии молодого человека. Неприятие «Обрыва» стало для писателя не рядовым литературным фактом, а личной драмой. А между тем и его роман предрекал драму всей России. И писатель оказался прав: очередной исторический «обрыв» старая Россия не преодолела.
* * *
Все три иллюзии – романтический самообман, эстетизированная ленивая безответственность и разрушительный нигилизм – связаны в сознании Гончарова между собою. Это «детская болезнь» национального духа, недостаток «взрослости», ответственности. Писатель в своих романах искал этой болезни противоядие. С одной стороны, он изображал людей систематического труда и взрослой ответственности за свои поступки (Пётр Адуев, Штольц, Тушин). Но и в этих людях он увидел и показал отпечатки всё той же болезни, ибо в системном труде кроется лишь внешнее спасение. В этих людях остаётся всё та же детская безответственность: они боятся задавать себе простые вопросы о конечном смысле своей жизни и деятельности и, таким образом, довольствуются иллюзией дела. С другой стороны, Гончаров предлагает свой личный рецепт: это возрастание человека в духе, от Ад-уевых до Рай-ского. Это постоянная напряжённая работа над собой, прислушивание к себе, какое ощущал в себе Райский, который лишь старался помогать той «работе духа», которая шла в нём, независимо от него самого. Писатель, конечно, вёл речь о божественной природе человека, о работе Святого Духа в нём. Вот чем человек отличается от животного! Гончаров поставил перед собой колоссальную художественную задачу: напомнить человеку о том, что он создан «по образу и подобию Божиему». Он как будто берёт своего читателя за руку и пытается вместе с ним взойти на высоты духа. Это был по-своему уникальный художественый эксперимент. На него Гончаров положил всю свою сознательную творческую жизнь. Но большое видится на расстоянии. Его колоссальный замысел оказался не понят во всей своей глубине не только его идеологическими противниками-однодневками, которые могли судить о художественном произведении лишь на основании узкопартийной логики, но и вполне сочувствующими людьми. Были увидены и оценены лишь отдельные образы и фрагменты огромного художественного полотна, широкие рамки и значение которого будет всё более и более прояснять время.
«Необыкновенная история»
Гончаров писал не только романы, но и очерки, и мемуары, и критические статьи. А в 1870-х годах (основная часть датирована декабрем 1875 – январем 1876 года) пишется и самая печальная, и, наверное, самая малоизвестная его книга – «Необыкновенная история». Романист не хотел видеть её напечатанной при жизни. «Я был бы очень счастлив, – писал он, – если б мог предвидеть, что никогда не настанет необходимость оглашать эту рукопись («Необыкновенная история») не только путём печати, но даже просто в небольшом кругу литераторов или других лиц». В «Необыкновенной истории» излагается сложная история отношений Гончарова с его «другом-соперником» в литературе – Тургеневым. Однако, помимо других тем, в ней затронута важнейшая для писателя тема современного состояния умов, отношения русского общества к традиционным моральным, религиозным, национальным и государственным ценностям. Некоторые ученые (филологи и медики) считают «Необыкновенную историю» фактом, который подтверждает версию о наследственной душевной болезни Гончарова. Однако дело обстоит сложнее. В отношениях с Тургеневым Гончаров одним из первых в русской литературе, а может быть, и в русском обществе в целом столкнулся с проявленииями того, что сегодня мы называем «международной спевкой», или «глобализмом». Недаром в своих записках романист упоминает первый международный литературный конгресс, вице-президентом которого оказался Тургенев. [240]240
Полонский A.A.Литературный конгресс // Вестник Европы. 1878. № 8. С. 674–716; № 9. С. 354–391.
[Закрыть]Не сталкиваясь ранее даже теоретически с методами действий «международного сообщества» литераторов, не защищенный законами об авторском праве (во всяком случае, Гончаров не пытается их применять) и т. п., романист возмущался, но был бессилен, а потому и производил впечатление едва ли не больного человека.
К концу жизни ложные друзья Гончарова, западники-либералы, повернулись к нему спиной, и писатель получил массу огорчений с их стороны. Возможно, он уже начинал понимать их истинную цену (особенно это видно по отношениям с М. М. Стасюлевичем, который, по словам Гончарова, «орудовал» вместе с Тургеневым). [241]241
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 288.
[Закрыть]Его западнически настроенные друзья под видом защиты памяти Гончарова, между прочим, предпринимали попытки уничтожить рукопись «Необыкновенной истории». Так, А. Ф. Кони был самым активным противником опубликования «Необыкновенной истории». В чём же, собственно, заключалась «история»?
Роман «Обрыв» писался почти два десятилетия. Свою медлительность Гончаров объяснял тем, что как художник он мыслил панорамно, как, собственно, и должен мыслить романист: «Я писал медленно, потому что у меня никогда не являлось в фантазии одно лицо, одно действие, а вдруг открывался перед глазами, точно с горы, целый край, с городами, сёлами, лесами и с толпой лиц, словом, большая область какой-то полной, цельной жизни». [242]242
Гончаров И. А.Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 7. М., 1980. С. 199.
[Закрыть]Пока писался «Обрыв», замысел которого с годами всё более усложнялся, Гончаров испытывал и восторги, свойственные человеку, замахнувшемуся на нечто грандиозное, выходящее за рамки обычного (а такое концентрированное произведение, как «Обрыв», в русской романистике действительно отыскать трудно), и одновременно естественные сомнения. Поэтому романист постоянно стремился поделиться своими творческими замыслами и читал «Обрыв» в различных писательских собраниях. «Это делалось оттого, что не вмещалось во мне, не удерживалось богатство содержания, а ещё более того, что я был крайне недоверчив к себе. «Не вздор ли я пишу? Годится ли это? Не дичь ли!»» [243]243
Гончаров И. А.Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 7. М., 1980. С. 199.
[Закрыть]Часто на этих чтениях присутствовал Тургенев. Так случилось, что многие художественные открытия Гончарова успел «озвучить» Тургенев, быстро писавший свои «короткие» романы, почти повести, вышедшие до появления «Обрыва» в свет, так что потомки могли бы посчитать, что не Тургенев вольно или невольно копировал сюжетные ходы и образы «Обрыва», а, наоборот, Гончаров «переписывал» Тургенева. Гончаров серьезно опасался этого: «… Когда-то я ещё соберусь оканчивать роман, а он уже опередил меня, и тогда выйдет так, что не он, а я, так сказать, иду по его следам, подражаю ему.Так всё и произошло и так происходит до сих пор! Интрига, как обширная сеть, раскинулась далеко и надолго». [244]244
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 206.
[Закрыть]Кстати сказать, опасения Гончарова оказались не напрасными. И до сих пор появляются попытки (конечно, явно натянутые!) доказать, что Гончаров как создатель «Обрыва» вступал в следы «первопроходца» Тургенева. В январе 1876 года Гончаров на последней странице рукописи «Необыкновенной истории» писал: «Завещаю – моим наследникам и вообще всем тем, в чьи руки и в чье распоряжение поступит эта рукопись, заимствовать из нее и огласить, что окажется необходимым и возможным[…] в таком только случае, если через Тургенева или через других в печати возникнет и утвердится убеждение (основанное на сходстве моих романов с романами как Тургенева, так и иностранных романистов), что не они у меня, а я заимствовал у них – и вообще, что я шел по чужим следам! В противном случае[…] эту рукопись прошу предать всю огню или отдать на хранение в Им[ператорскую] Публ[ичную] библиотеку, как материал для будущего историка литературы». В сущности, речь шла о том, кого следует назвать настоящим родоначальником и главою русского классического романа («… Другой откопал, сам взял, унёс за границу, поделился с другими – и вышла новая школа!Поди ж ты!» [245]245
Гончаров И. А.Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 7. М., 1980. С. 250.
[Закрыть]).
В 1883 году рукопись была передана Софье Александровне Никитенко: «Вверяю заключающиеся в сем пакете простые, лично до меня касающиеся бумаги, Софье Александровне Никитенко, для распоряжения с ее стороны, таким образом, как я ее просил». Очевидно, речь шла прежде всего о передаче рукописи в Императорскую публичную библиотеку. Никитенко и Гончаров были знакомы с 1860 года, и талантливая девушка-переводчик, дочь критика и профессора A.B. Никитенко, со временем стала доверенным другом писателя. С усердием, добросовестностью, с сознанием своей высокой миссии и профессионализмом Никитенко помогала романисту разбирать черновики «Обрыва». Ей Гончаров доверил свой архив. После смерти писателя Софья Александровна завещала гончаровский архив Александру Ивановичу Старицкому, который был женат на её племяннице и крестнице – С. М. Любощинской. Перед эмиграцией во Францию Старицкий продал Институту русской литературы (Пушкинский Дом) часть архива, а «Необыкновенную историю» и часть других рукописей – Российской публичной библиотеке. Но прежде того «Необыкновенная история» попала в руки А. Ф. Кони, который сначала порывался уничтожить бесценную рукопись, но не решился на этот шаг. Рукопись каким-то образом оказалась в руках Старицкого. Когда он передал её в Российскую (бывшую Императорскую) публичную библиотеку, выполняя завещание Гончарова, встал вопрос о её публикации. Больше всех возражал против её опубликования опять-таки давний друг Гончарова – А. Ф. Кони. 1 августа 1920 года он написал директору Российской публичной библиотеки Э. Л. Радлову письмо. В письме к Радлову многолетний «друг» Гончарова слишком торопливо и даже суетливо пытается «закрыть тему». Он пишет: «Прочитав этот поток подозрений Тургенева в своеобразном плагиате сюжетов, злобных инсинуаций по его адресу и ругательных характеристик, я пришел к выводу, что это больной бред (Гончаров, несомненно, страдал «навязчивыми идеями», в чем по отношению к Тургеневу я имел случай лично и много раз убедиться, о чем, при удобном случае, могу Вам подробно рассказать). Лучше всего, согласно надписи, сделанной самим Гончаровым на рукописи, ее уничтожить». [246]246
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 306.
[Закрыть]Сам стиль этого письма не оставляет сомнений в крайней субъективности и в том, на чьей стороне в споре Гончарова и Тургенева находится автор письма. Стараясь смягчить впечатление, плагиат он называет «своеобразным», а всю аргументацию Гончарова «злобными инсинуациями». Между тем, если подозрения Гончарова и были бредом больного человека, они все-таки не были «злобными». Духа злобы в «Необыкновенной истории» нет. Более того, подводя итоги своей литературной и человеческой судьбы, Гончаров ясно показывает, что он пришел к Евангельской правде. «Во всей этой жалкой истории – я читаю уроки Провидения и благословляю Его Правосудие, Премудрость и Благость!
Надо мною свершилось два евангельских примера: я лениво и небрежно обращался со своим талантом, закапывал его, и он отнят у меня и передан другому… Потом я не простил ему первого своего долга, вспоминал о нем негодуя – и вот расплачиваюсь за свои долги. Я же теперь и после – от души прощаю и ему и всем тем, кто так настойчиво, слепо и неразумно делал мне зло и за то, что я заслуживаю зло, Бог да простит всех нас!» [247]247
Сборник Российской публичной библиотеки. Т. 11. Мат. и исследования. Вып. 1. Пг., 1924. С. 155.
[Закрыть]
Несмотря на мнение Кони и некоторых других, дирекция Российской публичной библиотеки решилась опубликовать драматическую по содержанию рукопись «Необыкновенной истории». Однако Кони не успокоился, и в 1923 году, когда рукопись уже была подготовлена к печати, предпринял очередную попытку сорвать опубликование гончаровской исповеди. Он снова обратился к Радлову с письмом, убеждая его не допускать публикации «Необыкновенной истории». Тем не менее в начале января 1924 года рукопись Гончарова вышла в свет, обнажив многие тайны личности его самого и окружающих его людей.
Даже после этого Кони как мог пытался своей публичной трактовкой повлиять на восприятие «Необыкновенной истории». Осенью 1924 года он прочёл в ленинградском Доме ученых лекцию о «Необыкновенной истории». Корреспондент «Красной газеты» дал краткий отчёт об этой лекции: «Лекция почетного академика А. Ф. Кони о Гончарове, прочитанная вчера в Доме ученых, неожиданно выросла в чрезвычайно интересные воспоминания о знаменитом писателе, расцвеченные целым рядом ярких деталей, выдержками из бесед, писем и т. п.
Анатолий Федорович всесторонне осветил историю необычайной вражды Гончарова к Тургеневу. Об этой вражде красноречиво говорит недавно опубликованная «Необыкновенная история». На протяжении 12 печатных листов этой книги больной Гончаров всячески поносит Тургенева, не останавливаясь перед такими эпитетами, как «бархатный плут», «сентиментальный шулер» и т. п. Тургеневу инкриминируется здесь присвоение литературных замыслов Гончарова, перлюстрация, подслушивание и даже производство тайных обысков у автора «Обломова». Гончаров утверждает так же, что его сюжетами, благодаря Тургеневу, воспользовались Флобер, Золя и Ауэрбах.
Анатолий Федорович убедительно доказал, что «Необыкновенная история» – плод тяжелого болезненного состояния Гончарова. Книга эта не может дать ничего ни исследователю, ни читателю. Она дает только обильный материал для психиатрического диагноза». [248]248
[Аноним]. А. Ф. Кони о Гончарове. Красная газета. Л., 1924. Вечерний вып. № 263.18 ноября. С. 3. См. подробно: О первой публикации «Необыкновенной истории»(Письма А. Ф. Кони и Э. Л. Радлова). Публикация О. А. Демиховской // Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 305–307.
[Закрыть]Хороша же была дружеская лекция о Гончарове!
«Необыкновенная история» раскрывает взаимоотношения двух совершенно различных по складу характера людей и писателей – Гончарова и Тургенева, чьи судьбы пересеклись на одной общей художественной задаче – создании послепушкинского психологического романа, продолжающего историю «лишнего человека» в новых условиях русской жизни. По сути, перед нами один из узловых моментов истории русской классической литературы, ибо роль романов Гончарова и Тургенева чрезвычайно велика: именно они дали тот классический эталон русского романа, ту классическую схему, от которой в дальнейшем отталкивались все романисты, начиная от Л. Толстого и других. Да и не только русские, но и другие европейские романисты.
Суть конфликта между Тургеневым и Гончаровым кратко, хотя и с долей субъективности резюмирована в дневнике A.B. Никитенко: «29 марта I860 года, вторник. Лет пять или шесть тому назад Гончаров прочитал Тургеневу план своего романа («Художник»). [249]249
Речь идёт о первоначальном названии романа «Обрыв».
[Закрыть]Когда последний напечатал свое «Дворянское гнездо», то Гончаров заметил в некоторых местах сходство с тем, что было у него в программе его романа; в нем родилось подозрение, что Тургенев заимствовал у него эти места, о чем он и объявил автору «Дворянского гнезда». На это Тургенев отвечал ему письмом, что он, конечно, не думал заимствовать у него что-нибудь умышленно; но как некоторые подробности сделали на него глубокое впечатление, то немудрено, что они могли у него повториться бессознательно в его повести. Это добродушное признание сделалось поводом большой истории. В подозрительном, жестком, себялюбивом и вместе лукавом характере Гончарова закрепилась мысль, что Тургенев с намерением заимствовал у него чуть не все или по крайней мере главное, что он обокрал его.
Об этом он с горечью говорил некоторым литераторам, также мне. Я старался ему доказать, что если Тургенев и заимствовал у него что-нибудь, то его это не должно столько огорчать, – таланты их так различны, что никому в голову не придет называть одного из них подражателем другого, и когда роман Гончарова выйдет в свет, то, конечно, его не упрекнут в этом. В нынешнем году вышла повесть Тургенева «Накануне». Взглянув на нее предубежденными уже очами, Гончаров нашел и в ней сходство со своей программой и решительно взбесился. Он написал Тургеневу ироническое странное письмо, которое этот оставил без внимания.
Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, он грубо и злобно сказал ему: «Скажите
Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги» (Тургенев получил за свою повесть от «Русского вестника» 4000 руб.). Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее; но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Разумеется, это должно было в последнем переполнить меру терпения. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц; в противном случае угрожал ему дуэлью. Впрочем, это не была какая-нибудь фатская угроза, а последнее слово умного, мягкого, но жестоко оскорбленного человека.
По соглашению обоюдному, избраны были посредниками и свидетелями при предстоящем объяснении: Анненков, Дружинин, Дудышкин и я. Сегодня в час пополудни и происходило это знаменитое объяснение. Тургенев был видимо взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи. Затем Тургенев объявил, что всякие дружественные отношения между им и г. Гончаровым отныне прекращены, и удалился.
Самое важное, чего мы боялись, это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки, впрочем, по его собственному признанию, неделикатной и грубой, а Дудышкин выразил, что он не был уполномочен сказавшим их передать Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими, чем самый важный casus belli[повод к раздорам] был отстранен. Вообще надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную; он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высокообразованного общества».
По записи Никитенко видно, что на него большое впечатление оказали аристократические манеры Тургенева, державшегося в неприятной ситуации с большим достоинством. Между тем кровный аристократ граф Алексей Толстой однозначно встал на сторону Гончарова, считая, что над ним совершена несправедливость. По этому поводу Гончаров пишет: «Когда граф А. К. Толстой выслушал первые три части «Обрыва», у него явилось сильное волнение, беспокойство, особое участие ко мне. Он – как я сообразил потом – как будто вышел из заблуждения, прозрел отчасти правду и заподозрил в Тургеневе ложь. Он, между прочим, сильно настаивал, чтобы я уезжал скорее за границу, «не встречаясь с Тургеневым»…» [250]250
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С. 224.
[Закрыть]И в другом месте «Необыкновенной истории»: «В Париже и Карлсбаде Тургенев старался сблизиться покороче с графом Алексеем Толстым, умершим в ноябре прошлого года. И он, то есть Тургенев, и Стасюлевич – оба волочились там за ним и, по смерти его, протрубили себя «его друзьями»! Граф был любезен со всеми, но разумел их обоих про себя, как следует, как по отношениям Тургенева ко мне, так и по подвижному (туда и сюда) характеру Стасюлевича». [251]251
Там же. С. 253.
[Закрыть]
Несомненно, Гончаров считал себя романистом номер один своего времени. Достоевского он не слишком высоко ценил и мало читал, Л. Толстым восхищался, но никогда не высказывался о жанре его эпических произведений, что, может быть, не случайно: очевидно, он понимал, что это уже «другой роман». Тургенев же, по его мнению, вторгся на его «романную» территорию, будучи миниатюристом по складу своего таланта. В одном из писем к нему Гончаров высказался вполне откровенно: «Если смею выразить Вам свой взгляд на Ваш талант искренно, то скажу, что Вам дан нежный верный рисунок и звуки, а Вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму… В этом непонимании своих свойств лежит вся, по моему мнению, Ваша ошибка. Скажу очень смелую вещь: сколько Вы ни напишете еще повестей и драм, вы не опередите Вашей Илиады, Ваших «Записок охотника»; там нет ошибок; там вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музы: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве! А «Фауст», а «Дворянское гнездо», а «Ася» и т. д.? И там радужно горят Ваши линии и раздаются звуки. Зато остальное, зато создание – его нет, или оно нудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно, и в таланте».