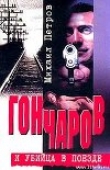Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Владимир Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Чем ещё можно вспомнить студенческие годы писателя? Есть один важнй момент, который нельзя пропустить. Удивительно, но, став студентом университета, в котором столь силен вольный дух, Гончаров не выходит из церковной ограды и по-прежнему, как и в годы обучения в училище, продолжает посещать храм Никитского женского монастыря. Это был старый московский монастырь, основанный в 1582 году боярином Никитой Романовичем Захарьиным-Юрьевым, [106]106
Захарьин-Юрьев Никита Романович (1528–1586) – известный в эпоху царя Иоанна Грозного боярин, брат первой жены царя – Анастасии Романовны. Благодаря безупречной и верной службе занимал высокое положение при царе, отличался справедливостью, был любим народом. Заступался перед царём за несправедливо обиженных, подвергался опале и был вновь возвращаем на службу. Перед смертью принял монашество с именем Нифонт. Похоронен в Новоспасском монастыре. См.: Михаил Никитич Романов. Жизненный подвиг узника царской династии и исторический очерк эпохи. М., 2009. С. 30–61.
[Закрыть]братом первой жены Ивана Грозного – Анастасии. По имени монастыря получила позже свое название и улица, на которой он находился: Никитская. Мальчик Гончаров начал посещать его ещё в десятилетнем возрасте – никем не побуждаемый, но, скорее всего, с братом Николаем, который учился вместе с ним сначала в Коммерческом училище, а потом в университете. Ходил он туда целых 13 лет – до двадцатитрехлетнего возраста! Никаких конкретных сведений об этом у нас нет, но сам факт весьма любопытен: при всех перипетиях судьбы, вращаясь в различных (в том числе и атеистических по духу) кругах общества, он много лет, десятилетия, ничего не афишируя, продолжает, как и в симбирском детстве, ходить в храм. Привычка ли, крепшая ли с умножением жизненных опытов и скорбей вера влекли его туда? Нам этого не узнать. Душа Гончарова созреет вполне и приоткроется только к 1860-м годам, когда он будет посещать храм Святого мученика Пантелеймона возле своего дома на Моховой улице. Когда монастырь посещал Гончаров, он уже был восстановлен от разрушения, случившегося после пожара Москвы в 1812 году. Об этом монастыре вспоминает писатель в «Обрыве»: «В университете Райский делит время, по утрам, между лекциями и Кремлевским садом, в воскресенье ходит в Никитский монастырь к обедне». Если фигуру Райского принять как в значительной степени автобиографическую, то из «Обрыва» можно узнать и о том, что в студенческие годы Гончаров пережил увлечение русской историей, «уходил в окрестности, забирался в старые монастыри и вглядывался в… почернелые лики святых и мучеников, и фантазия, лучше профессоров, уносила его в русскую старину». Как натура впечатлительная, будущий романист глубоко погружался «в образ» древнего благочестия: «Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около: он очнется – перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме».
Университет освобождал от стереотипов провинциального мышления. Конечно, Гончаров ощущал, как и многие, дух университетской свободы, которой, по его собственным словам, не было, например, в «военных или духовных заведениях». В своих воспоминаниях он пишет: «Я не говорю, чтобы свободе этой не полагалось преград: страх, чтобы она не окрасилась в другую, то есть политическую краску, заставлял начальство следить за лекциями профессоров, хотя проблески этой, не научной, свободы проявлялись более вне университета; свободомыслие почерпалось из других, не университетских источников. В университетах молодежь, более чем в других заведениях, ограждена серьезною содержательностию занятий от многих опасных увлечений, заносимых туда извне, больше издалека… Но тем не менее на лекции налагалось иногда veto, как, например, на лекции Давыдова. [107]107
Давыдов Иван Иванович (1794–1863) – педагог и писатель, профессор философии, затем русской словесности в Московском университете, академик. Автор трудов: «Опыт руководства к истории философии», «Начальные основания логики», «О возможности философии как науки», «Греческая грамматика», «Речи Цицерона», «Учебная книга латинского языка», «Латинская хрестоматия» и др.
[Закрыть]
Он прочел всего две или три лекции истории философии; на этих лекциях, между прочим, говорят (я еще не был тогда в университете), присутствовал приезжий из Петербурга флигель-адъютант, и вследствие его донесения будто бы лекции были закрыты». Лекции в Московском университете развивали ум, приобщали к европейской культуре. В эти годы Гончаров серьезно увлекается немецким эстетиком Иоанном Винкельманом. В одной из автобиографий романист признается, что все свободное от службы время «много переводил из Шиллера, Гете… также из Винкельмана…». Писатель вспоминает прошедшее в письме к своему юному другу, известному юристу Анатолию Федоровичу Кони: «…Я для себя, – без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман». Признано, что с именем Винкельмана связан целый этап развития искусства и литературы конца XVIII и начала XIX века. Огромное влияние его эстетики отразилось во всей Европе, в том числе и в России. Гончаров не только сам штудировал глубокого знатока античного искусства Винкельмана, но, по всей вероятности, прививал через его труды вкус к Античности своим ученикам в семье Майковых, где он в 1830-х годах преподавал риторику, поэтику, латинский язык и историю русской литературы. Недаром автор «Обломова» – один из самых «античных» русских писателей. Изучение Винкельмана – и через него культуры Античности – оказалось для писателя глубоким и плодотворным. Это была школа эстетического вкуса. Мышление Гончарова-художника несёт на себе печать античной гармонии, симметрии, равновесия. Один из уроков Винкельмана Гончаров запомнил надолго. Свою Ольгу Ильинскую он изображает как идеальную по пропорциям античную статую: «Если б обратить ее в статую, она была бы статуя грации и гармонии». Каковы же качественные критерии «грации и гармонии» у Гончарова? Это античная соразмерность частей тела: «Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы – овал и размеры лица; все это в свою очередь гармонировало с плечами, плечи – с станом». Такая скульптурная характеристика не просто необычна. Она кажется сначала растянутой. Не достаточно ли было одной фразой сказать о «грации и гармонии» во всей фигуре Ольги? А между тем писатель останавливает наше внимание на соотношении всех частей тела, как если бы речь шла в самом деле не о героине романа, а действительно о статуе – в эстетическом трактате. В «Истории искусства древности» Винкельмана такие примеры нередки. Вот прямая перекличка с Гончаровым: «В хорошо сложенном человеке тело вместе с головой так же относится к бедрам и к ногам, как бедра к ногам, а верхняя часть руки к локтевой и к кисти». Штудируя Винкельмана, Гончаров ещё в студенчестве серьёзно готовится к писательской миссии и глубоко постигает науку пластической красоты.
Но не только немецкая эстетика волнует его в университетские годы. Он проявляет интерес и к самой модной в то время французской литературе. О. Бальзак, Ж. Жанен, [108]108
Жанен Жюль Габриэль (1804–1874) – французский писатель, критик и журналист. Представитель романтического натурализма. Автор европейски известного романа «Мёртвый осёл и обезглавленная женщина» (1829).
[Закрыть]Э. Сю – таков круг его чтения. «Неистового романтика» Эжена Сю он даже переводит, и перевод этот, опубликованный в 1832 году под «горяченьким» названием «Отравители» в журнале профессора Николая Ивановича Надеждина «Телескоп», становится точкой отсчета в его литературной деятельности. Выделяет Гончаров и лекции Степана Петровича Шевырева, [109]109
Шевырёв Степан Петрович был одним из организаторов журналов «Московский вестник» и «Московский наблюдатель», апологетом «официальной народности», автор воспоминаний о Пушкине.
[Закрыть]который «принес… свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших – индийской, еврейской, арабской, греческой – до новейших западных литератур». Характерен его отзыв о будущем редакторе религиозно-патриотического журнала «Москвитянин» Михаиле Петровиче Погодине. [110]110
Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, археолог, журналист, профессор всеобщей и русской истории Московского университета, издатель журнала «Москвитянин».
[Закрыть]Гончаров признает его огромное влияние на развитие и образование студентов, но ему кажется, что в своей религиозности и патриотизме Погодин был не совсем искренен: «У Михаила Петровича… было кое-что напускное и в характере его и в его взгляде на науку… Может быть, казалось мне иногда, он про себя и разделял какой-нибудь отрицательный взгляд Каченовского и его школы на то или другое историческое событие, но отстаивал последнее, если оно льстило патриотическому чувству, национальному самолюбию или касалось какой-нибудь народно-религиозной святыни…» Все эти характеристики показывают, что Гончаров формируется в университете внешне как западник, а в религиозности и патриотизме будущих славянофилов С. П. Шевырева и М. П. Погодина чувствует определенную натяжку. Однако западничество, как и славянофильство, явление весьма неоднородное – со сложным спектром переходных состояний и принципиальных акцентов. Не влезая в дебри определений, скажем пока только то, что Гончаров – горячий патриот России и что его религиознонравственные идеалы столь масштабны, что узкопартийное понятие «западничества»(тем более в том его варианте, с которым сталкивается сегодняшний читатель) ничего не прояснило бы в личности и мировоззрении писателя. Если угодно, Гончаров западник, выросший на закваске русского православия, на доброте и мудрости русской волшебной сказки – и с любовью сотворивший бессмертный образ Ильи Ильича Обломова. Точно так же его можно назвать и славянофилом, почитающим английскую парламентскую систему, немецкий профессионализм и признанное в Европе право личности на неприкосновенность собственности и личной жизни.
Любопытный факт биографии писателя: в 1832 году состоялась его вторая встреча с Пушкиным. В своих университетских воспоминаниях Гончаров довольно подробно повествует о посещении Пушкиным 27 сентября 1832 года лекций известного профессора И. И. Давыдова по истории русской литературы: «Когда он вошел с Уваровым, [111]111
Уваров Сергей Семенович, граф (1786–1855) – в течение многих лет министр народного просвещения; в 1818–1855 гг. президент Академии наук, автор триады: «Православие, самодержавие, народность».
[Закрыть]для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекающиеся поэзию, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование. Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни – и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России – передо мной в пяти шагах! Я не верил глазам». Далее Гончаров описывает спор, возникший между Пушкиным и Каченовским: «… Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса (очевидно, речь шла о «Слове о полку Игореве». – В. М.), а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож».
В этот раз Гончаров внимательно рассмотрел внешность своего кумира: «Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающийся – это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с негустыми, кудрявыми волосами». Писатель с явной любовью отмечает «задумчивую глубину» и «благородство» в глазах, «сдержанность светского, благовоспитанного человека».
Университет дал Гончарову необычайно много – не только глубокие систематизированные, современные по уровню знания, но и широту взгляда на жизнь, свободу мысли. Воспоминания писателя показывают, что он остался благодарен университету на всю жизнь и стал горячим сторонником именно университетского образования юношества в России.
Снова Симбирск
После окончания Московского университета летом 1834 года Гончаров, не имея конкретных планов, отправился на некоторое время домой, в Симбирск: отдохнуть, осмотреться, подумать о будущем. Конечно, он с трепетом узнал, что менее года назад в Симбирске два дня гостил Пушкин – проездом в Оренбург, для написания истории пугачевского бунта. Симбирск жил своей тихой, ни в чем почти не изменяющейся жизнью: «Родимый город не представлял никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свежих, молодых сил». Как ни хорош был родной городок, но это была всё же провинция, от которой юноша уже отвык и которая составляла довольно резкий контраст столичному порядку жизни. Приглядись поближе – и за манящим теплом родного дома, за радушными улыбками, за милыми знакомыми лицами обнаружишь-таки неподвижность и крайнее однообразие жизни. По сути, всё та же хорошо знакомая Обломовка. Летом в городе была скука, так как все общество собиралось лишь к осени. Но осенью Гончаров надеялся уже быть в Петербурге. Впрочем, всё повернулось не совсем так, как думал юноша. Крестный H.H. Трегубов составил Гончарову протекцию – и его пригласили служить секретарем губернатора Александра Михайловича Загряжского. [112]112
Загряжский Александр Михайлович (1796–1883) – симбирский губернатор (1831–1835), дальний родственник H.H. Пушкиной. Гончаров описывает его в воспоминаниях «На родине».
[Закрыть]Симбирский губернатор входил в петербургскую масонскую ложу «Соединенных друзей», [113]113
Записки Николая Александровича Мотовилова. М., 2005. С. 30.
[Закрыть]– может быть, поэтому и не отказал своему собрату Трегубову. Более того, самому Гончарову было сказано, что его просят остаться и послужить в Симбирске для выполнения важного задания – ни много ни мало для искоренения взяточничества в чиновничьей среде Симбирска. Дело благородное! Как не остаться? То-то довольна была Авдотья Матвеевна, которая души не чаяла в своём Ванечке и не знала, каким уж образом оставить его в родном доме! Остался бы в Симбирске, служил бы у самого губернатора в помощниках, а там бы – женился, пошли бы деточки. То-то радость матери! Неизвестно, какими соображениями руководствовался будущий писатель, скорее всего, просто очень привлекательным показалось начать службу не скромным незаметным чиновником, последним колёсиком какого-нибудь столичного департамента, а сразу на виду, в секретарях у губернатора, но только двадцатитрёхлетний Иван Александрович остался-таки в Симбирске – бороться со взятками, о которых он знал пока только из комедий Н. В. Гоголя. Так что поступок Гончарова был вполне сознательным компромиссом, на которые шёл иногда в своей служебной деятельности наш герой. Но бороться со взятками он, вероятно, думал всерьёз, ведь задание перед ним ставил человек серьёзный – сам губернатор! Гончаров приступил к своей должности, и всё ждал – когда же начнётся это главное для него дело? Однако недели шли за неделями, а борьба со взяточничеством всё не начиналась. Многое узнавал юный чиновник на первых порах своей службы. Забавны и полны доброго юмора его рассказы об этом: «Мне, юноше, были тогда новы если не все, то многие «впечатленья бытия», между прочим, и жандармы, то есть их настоящее, новое, с николаевских времен, значение. Это значение объяснил мне, тоже шопотом, Якубов, [114]114
Под этим именем выведен в воспоминаниях «На родине» крёстный отец Гончарова – H.H. Трегубов.
[Закрыть]а всю глубину жандармской бездны раскрыл мне потом губернатор, которому я, по настоянию «крестного», все-таки «представился».
До тех пор я видал жандармов в Москве, у театральных подъездов, в крестных ходах, на гуляньях, в их высоких касках с конской гривой, на рослых лошадях. Ни о каких штаб-офицерах, назначенных в каждую губернию, и о роли их я не имел понятия.
От губернатора я в первый раз услыхал и о важности шефа их, графа Бенкендорфа, и о начальнике штаба, тогда еще полковнике Дуббельте, – и обо всем, что до них касается, а более о том, что они сами до всего касаются. Я тогда стал большими глазами смотреть на губернского полковника Сигова. Я думал, что он будет во все пристально вглядываться, вслушиваться и даже записывать, что от него все должны бегать и прятаться. Но, к удивлению моему, я видел его окруженного толпой и мечущего банк в некоторых домах, в приемные вечера, обыкновенно в особой задней комнате, в облаках табачного дыма.
– Как же так? – спрашивал я, невинный юноша, в недоумении у губернатора, – ведь его обязанность, вы говорите, доносить о беспорядках, обо всем вредном, запрещенном – так как он цензор нравов – стало быть, и об азартных играх; а он сам тут играет и прячется?
– Оттого он тут и везде в толпе, чтобы все смотреть и слушать: иначе как же он будет знать и о чем доносить? – был ответ».
В воспоминаниях своих Гончаров изображает Загряжского как человека талантливого и в то же время крайне легкомысленного. В частности, Гончаров подчеркивает в губернаторе его страсть к художественным преувеличениям в рассказах о встречах с известными людьми: «У него в натуре была артистическая жилка, и он, как художник, всегда иллюстрировал портреты разных героев, например, выдающихся деятелей в политике, при дворе или героев Отечественной, в которой, юношей, уже участвовал, ходил брать Париж, или просто известных в обществе людей. Но вот беда: иллюстрации эти – как лиц, так и событий – отличались иногда такой виртуозностью, что и лица и события казались подчас целиком сочиненными. Иногда я замечал, при повторении некоторых рассказов, перемены, вставки. Оттого полагаться на фактическую верность их надо было с большой оглядкой. Он плел их, как кружево. Все слушали его с наслаждением, и я, кроме того, и с недоверием. Я проникал в игру его воображения, чуял, где он говорит правду, где украшает, и любовался не содержанием, а художественной формой его рассказов. Он, кажется, это угадывал и сам гнался не столько за тем, чтобы поселить в слушателе доверие к подлинности события, а чтоб произвести известный эффект – и всегда производил». В самом деле, губернатор любил приврать. Так, он рассказывал, что Пушкин проиграл ему в Москве только что законченную пятую главу «Евгения Онегина». Среди вещей, принадлежащих Пушкину, сохранилась карта Екатеринославской губернии с его надписью на обороте: «Карта, принадлежавшая императору Александру Павловичу. Получена в Симбирске от А. М. Загряжского 14 сентября 1833»4 И снова вопрос: а точно ли карта принадлежала государю, не приврал ли Загряжский и Пушкину?
Понятно, что сближение с Загряжским и верхушкой симбирского общества быстро погрузило Гончарова в некоторое уныние. В своих воспоминаниях «На родине» он пишет: «Я чувствовал, что стал врастать в губернскую почву». Одним из условий провинциальной жизни были обязательные визиты главным лицам города. Жизнь в Симбирске была первым ударом по юношеским высоким мечтам о служении Отечеству. По роду своей деятельности Гончарову пришлось вникнуть в закулисную сферу чиновничьей службы. Теперь он узнал об «омуте непривилегированных доходов» своего непосредственного начальства, да и вообще главных чиновников города. Многое здесь мог подсказать ему его крёстный Трегубов. Он же, конечно, должен был научить своего крестника благоразумному молчанию. Ведь впереди у Гончарова были ещё десятилетия чиновничьей службы и даже генеральская должность. А без службы ему, с его медлительным писанием романов, нельзя было и думать о творчестве. У него не было стремительного пера Ф. М. Достоевского, который мог заключать договоры и писать романы «к сроку». Гончаров постоянно ловил птицу вдохновения. Его письма зачастую изобилуют жалобами на то, что нет вдохновения, нет охоты писать: то плохая погода, то приливы к голове, то житейские заботы, то бездна дел по службе. Почти никогда Гончаров не мог засадить себя за рабочий стол насильно, только потому, что «надо писать». Он ждал, когда в его паруса подует ветер. Поэтому он не мог рассчитывать жить лишь творчеством. Нужно было служить, и служить серьёзно, научиться проявлять некоторую осторожность в отношениях с людьми, идти на неизбежные компромиссы. Надо было научиться на многое закрывать глаза. И он учился. Но навсегда понял, что его жизнь пойдёт по двум расходящимся путям: чиновничья служба, которая будет давать средства к существованию, и писательство, ради которого придётся многое терпеть.
Но и то и другое по-настоящему возможно только в столице. Как ни благорасполагала к себе тёплая домашняя атмосфера, в которой Гончаров был обласкан и забалован, а надо было покидать родной дом и отправляться в столицу. Благо и случай представился. Весной 1835 года губернатора за какие-то грешки (возможно, даже за те самые взятки, с которыми должен был бороться юный Гончаров) отстранили от должности – и он отправился в Санкт-Петербург, прихватив с собой своего юного секретаря, которого успел полюбить, насколько это было возможно при его легкомысленном, почти актёрском, характере. Похоже, что именно губернатор Загряжский и определил Гончарова на службу в Министерство финансов – в департамент внешней торговли. А сам устроился при Министерстве юстиции.
Петербург. Первые опыты
И вот – Гончаров впервые в столице. Какое различие со старушкой Москвой, не говоря уж о Симбирске! Россия ли это вообще? Стройные громады домов, гранитные набережные, прямые, как стрелы, проспекты пронизывают весь город! Сначала наш Иван Александрович даже опешил: так новы и поразительны были впечатления от увиденного в столице. Свои первые впечатления от Петербурга он описал в «Обыкновенной истории». Главное, что его поразило, – это одиночество человека в толпе, всеобщая отчуждённость: «Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга…
Здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.
Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? – думал он, – не этот ли?» Но вскоре это надоело ему – министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу.
Он посмотрел на домы – и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон… дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно… нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, кажется, и мысли и чувства людские также заперты.
Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь… Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов, с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню…
Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, адмиральского часу вовсе не знают – ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить… Все назаперти, везде колокольчики… А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать…»
Но молодому человеку с образованием, честолюбивыми мечтами, талантом всё интересно: он быстро пришёл в себя, быстро осознал все преимущества столичной жизни – пусть и с её неизбежными недостатками. Как и герой его первого романа, Гончаров «вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа – все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира…» Так в 1835 году началась «обыкновенная история» превращения очередного российского провинциала в петербуржца, великого художника, мыслителя. Здесь он проведёт всю свою жизнь, здесь будет и похоронен. Здесь, наконец, начала осуществляться его главная мечта – писательство. Может быть, не случайно, что первые же дни, проведённые в Петербурге, были отмечены для него встречей с его кумиром – Пушкиным. В 1880 году он рассказал об этой встрече в памятном разговоре с А. Ф. Кони: «… Живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, [115]115
Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) – петербургский издатель и книгопродавец.
[Закрыть]книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его матовое, суженное внизу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский [116]116
Кипренский Орест Адамович (1782–1836) – русский художник, график и живописец, мастер портрета. Наиболее известные произведения – портрет мальчика A.A. Челищева, портреты супругов Ростопчиных и Хвостовых, автопортрет, изображения поэтов К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского и A.C. Пушкина. Считается, что Кипренский написал лучший портрет Пушкина.
[Закрыть]на известном портрете. Пушкин был в это время для молодежи всё: все его упования, сокровенные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений, – все сводилось к нему, все исходило от него». [117]117
Вопросы изучения русской литературы XIX–XX веков. М.—Д., 1958. С. 334.
[Закрыть]
В Петербурге нужно было служить. Гончаров был принят в число канцелярских чиновников департамента внешней торговли – «на средний оклад жалованья». О его службе, впрочем, известно очень мало. Ясно, что никаких срывов у Гончарова-чиновника не было, но служба шла, что называется, ни шатко, ни валко: в 1837 году он «за отличие» был назначен коллежским секретарём, в 1840-м – титулярным советником, а всего за 15 лет он дослужился лишь до младшего столоначальника. Материальное положение Гончарова в эти годы не весьма завидное. Даже в 1844 году, почти через десять лет службы, Гончаров всё ещё не попадает «в коротенький список чиновников, которых позволено… представить к подаркам» в родном департаменте. [118]118
Гончаров И. А.Собр. соч. В 8-ми томах. М., 1980. Т. 8. С. 311.
[Закрыть]Обидно!
В отличие от таких весьма обеспеченных людей, как И. С. Тургенев или Л. Н. Толстой, он не мог позволить себе свободный художнический образ жизни, чего, конечно, страстно желал. В письме к своей доброй знакомой Софье Александровне Никитенко от 28 июля 1865 года, когда за спиной уставшего, уже маститого писателя осталась половина жизни, он с горечью выговаривал – судьбе ли, людям ли: «Мне житьё и писанье – не то, что Тургеневу, Островскому, людям свободным и обеспеченным: я похитил три месяца свободы, хотел выкроить из них всего недель шесть на работу – судьба помазала по губам, да и отказала…» [119]119
Вопросы изучения русской литературы XIX–XX веков. М.—Д., 1958. С. 334.
[Закрыть]. Вот и приходилось тянуть суровую чиновничью лямку, а вместо романов писать служебные записки. Племянник писателя В. М. Кирмалов свидетельствует, что «в начале своей жизни в Петербурге Иван Александрович испытывал недостаток в средствах и как пример рассказывал, что, идя весной, в мае, в Летний сад на свидание с одной дамой, должен был надеть ватное пальто, ибо летнего не было». Пресловутый «средний оклад жалованья» составлял 514 рублей 60 копеек в год, то есть менее 43 рублей в месяц. На эти деньги нужно было покупать дрова на долгую петербургскую зиму, приобретать книги, прилично одеваться, питаться и пр. Позже он сам признается в том, что два десятка лет своей петербургской жизни он жил «с мучительными ежедневными помыслами о том, будут ли дрова, сапоги, окупится ли тёплая, заказанная у портного шинель в долг». О, как слышны здесь нотки гоголевской «Шинели» и жалобы кроткого Акакия Акакиевича!
В Симбирске и Москве Гончаров познавал жизнь России, а в Петербурге, в своём департаменте, – жизнь Европы. Провинция и Москва возрастили его в православии, но не избавили от вопросов как приложить традиционное православие к современной цивилизации, как соединить традиционные христианские добродетели с современными понятиями о труде, капиталах, финансовой системе, кредитах, техническом прогрессе и пр. Петербург, с его принципиальной близостью к европейской цивилизации, заставил искать неизведанное решение ещё более настойчиво, чем раньше. Вчитываясь в бумаги департамента внешней торговли, Гончаров уже не теоретически, а на практике обнаруживал, что современный строй вещей зиждется на капиталах, оборотах, предприимчивом труде. Начинал ощущать пульс того, что сегодня зовётся мировой экономикой. Насколько глубоко он проник в понимание сути буржуазной эпохи, можно судить по его глубоко новаторской книге «Фрегат «Паллада»». В этой книге многие страницы выдают в авторе человека, хорошо видящего те глубинные экономические пружины, которые двигают современным миром. Проводником прогресса для Гончарова того времени является англичанин, «не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии – на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Всё изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах». Слово «менеджер» русский язык ещё не знал, и Гончаров его не употребляет, но он уже дал блестящий ёмкий портрет менеджера: менеджера от экономики, менеджера от политики, менеджера от финансового мира. Менеджеры двигают прогресс и заставляют быстрее бежать колесницу истории! Но ведь история эта по-прежнему христианская?! Как же соединить христианство и цивилизацию: этот вопрос всё настойчивее бился в голове молодого человека, погрузившегося в хитросплетения современной европейской жизни Петербурга, но прекрасно помнившего старый прадедовский «Летописец» и продолжавшего, конечно, тихо и незаметно по воскресным дням и церковным праздникам посещать какой-нибудь петербургский храм; какой именно – мы не знаем и, должно быть, не узнаем никогда – по величайшей скрытности Гончарова в духовной жизни, скрытности, унаследованной от предков-старообрядцев…
Гончарову везло на хороших знакомых. Владимир Андрееевич Солоницын, [120]120
Солоницын Владимир Андреевич (1804–1844) – в 1836–1841 гг. помощник правителя, а с 1841 г. правитель канцелярии депертамента внешней торговли Министерства финансов; близкий друг семьи Майковых, учитель Аполлона и Валериана Майковых; соредактор О. И. Сенковского в журнале «Библиотека для чтения». Для Гончарова он являлся не только умным и доброжелательным старшим товарищем, но и источником важной информации, помогавшей осмыслить происходящие в России процессы. Так, от Солоницына Гончаров ещё в 1840-х гг. знал в подробностях о готовящейся реформе крепостного права.
[Закрыть]его сослуживец, был человеком весьма незаурядным. Сблизившись с Гончаровым на службе, оценив его знания и способности, Солоницын ввёл его летом 1835 года в семью художника-академика Аполлона Николаевича Майкова. Учитывал он и материальные затруднения Ивана Александровича, ибо Майковы пригласили Гончарова в качестве домашнего учителя своих сыновей – Аполлона и Валериана. Мальчики были не просто способными, но чрезвычайно талантливыми. Аполлон со временем станет знаменитым поэтом, а рано погибший Валериан успел-таки в несколько лет напечатать в ведущих русских журналах свои философски глубокие критические статьи и завоевать огромный авторитет в критике – ему пророчили место умершего от чахотки Белинского. Преподавать русскую словесность таким мальчикам Гончарову было непросто, но он блестяще справился с задачей. Семья Майковых не только навсегда признала его педагогический талант (Майковы будут рекомендовать Гончарова как педагога в царскую семью), но и полюбила будущего писателя, разглядев в нём глубокую и симпатичную личность.
Так и получилось, что проба литературных сил Гончарова прошла в знаменитом художественном салоне Майковых, где собирались не только многие литераторы, но и артисты, художники, журналисты, издатели – все, кому было дорого истинное искусство. Из писателей сюда заходили Фёдор Достоевский, Иван Тургенев, Николай Некрасов, поэты Яков Полонский и Владимир Бенедиктов, [121]121
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) – известный поэт, переводчик. Создатель поэтического стиля «вульгарного романтизма». В 1830-х гг. пользовался популярностью не меньшей, чем A.C. Пушкин.
[Закрыть]критик Степан Дудышкин и многие другие менее знаменитые, но симпатичные люди.
Владимиру Андреевичу Солоницыну предстояло сыграть заметную роль в жизни и писательской судьбе Гончарова. В 1836–1841 годах он являлся помощником правителя канцелярии департамента внешней торговли Министерства финансов. Он и сам, будучи учителем Аполлона и Валериана Майковых, не лишен был литературного дара. Не случайно в начале 1840-х годов Солоницын редактировал вместе с О. И. Сенковским [122]122
Сенковский Осип Иванович (1800–1858) – русский писатель, журналист, востоковед. Полиглот, профессор Петербургского университета по кафедре арабского, персидского, турецкого языков. Редактор журнала «Библиотека для чтения». Печатался под псевдонимом Барон Брамбеус.
[Закрыть]журнал «Библиотека для чтения». Но главное – Солоницын привел Гончарова в семью Майковых, недавно переехавших из Москвы и привнёсших в свой петербургский салон замечательные московские черты: настоящее гостеприимство и добродушие, отсутствие официоза, искренность и теплоту отношений.