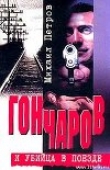Текст книги "Гончаров"
Автор книги: Владимир Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Художников объединяло многое, однако в статье «Что такое искусство?» (1897) Толстой ведёт полемику с ним: «Помню, как писатель Гончаров, умный, образованный, но совершенно городской человек, эстетик, говорил мне, что из народной жизни после «Записок охотника» Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано. Жизнь рабочего народа казалась ему так проста, что после народных рассказов Тургенева описывать там было уже нечего. Жизнь же богатых людей, с ее влюблениями и недовольством собою, ему казалась полною бесконечного содержания. Один герой поцеловал свою даму в ладонь, а другой в локоть, а третий еще как-нибудь. Один тоскует от лени, а другой от того, что его не любят. И ему казалось, что в этой области нет конца разнообразию». Называя Гончарова «эстетиком», Толстой выражал своё отношение к той тенденции в искусстве, которая соединяла в неразрывное целое понятия «красота» и «добро». Для Гончарова красота и добро неразделимы. Сам же Толстой недвусмысленно противопоставляет красоту и добро: «Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему… говорят о том, что красота бывает нравственная и духовная, но это только игра слов…» Когда-то В. Г. Белинский сказал о Гончарове: «Он поэт, художник – и больше ничего». Очевидно, Толстой, писатель пластического и психологического склада, также ощущал свою родственность Гончарову-художнику. Но тем важнее для него была их точка расхождения: отношение к «эстетике» и «проповеди» средствами художественной литературы. Толстому мало было быть просто и только художником. В августе 1901 года он признавался: «Я любил Тургенева как человека. Как писателю ему и Гончарову я не придаю большого значения. Их сюжеты, обилие обыкновенных любовных эпизодов и типы имеют слишком преходящее значение». [343]343
Гольденвейзер А. Б.Вблизи Толстого. М., 1959. С. 92–93.
[Закрыть]Г. А. Русанов вспоминает сходное противопоставление «литераторов» и «нелитераторов» в речах Толстого в августе 1883 года: «… Тургенев – литератор, – дальше говорил Толстой, – Пушкин был тоже им, Гончаров – еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я – не литераторы». [344]344
Русанов Г. А.Поездка в Ясную Поляну (24–25 августа 1883 г.) // А. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х томах. Т. 1. М., 1955. С. 232, 236.
[Закрыть]Приверженность Гончарова чисто художественной традиции русской и мировой литературы Толстому, опровергавшему авторитеты и ставившему перед собой и своим творчеством прежде всего нравственные сверхзадачи, могла показаться чем-то узким и едва ли не мещанским. Отсюда, при всем уважении к Гончарову, у Толстого, при сравнении Гончарова и Достоевского, срывается фраза: «Конечно, это настоящий писатель, с истинно религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров». [345]345
Булгаков В.Лев Толстой в последний год его жизни. М., 1920. С. 5.
[Закрыть]Разумеется, Толстому не хватало в Гончарове не столько «религиозного искания», сколько публицистичности и открытой проповеди.
В письме от июля 1887 года Толстой признаётся, что тот имел большое влияние на его писательскую деятельность. Гончаров отвечал на это признание: «Тургенев, Григорович, наконец, и я выступили прежде Вас… То есть мы, в том числе, пожалуй, и я, заразили Вас охотой, пробудили и желание в Вас, а с ними и «силу львину». В этом смысле, может быть, и я подталкивал Вас».
Великие князья Романовы
Отдельная и пока не раскрытая страница биографии Гончарова – его связи с царской семьёй. В советскую эпоху этот вопрос по понятным причинам не поднимался. А между тем это важный факт жизни писателя. Вопрос о том, был ли Гончаров монархистом по своим внутренним убеждениям, не стоит: он всегда оставался в этом плане человеком массы, большинства, а не личного мнения, которое он если и имел, никогда не озвучивал. Стало быть, самодержавная власть априорно не являлась для него предметом обсуждения. Иное дело, что, наблюдая европейские демократические начала, конституционный строй или его паритет с самодержавием (конституционная монархия в Англии), романист делает свои сопоставления и выводы, – не всегда в пользу самодержавия. Весьма характерен его отзыв о русском «единодушии», которое не даёт проявиться личному мнению, в «Необыкновенной истории»: «Правительство наше сильно: сила эта зиждется не на той или другой партии, а на общем народном к нему доверии и преданности… Оно слишком хорошо защищено – так защищено, что трудно, хотя и необходимо иногда для общего интереса говорить против него в печати! Оно защищено своими законами о печати, ценсурою… Франция и Англия в этом случае – нам не пример: там есть открытая (в Англии) оппозиция, необходимая для контроля и критики действий министерства, то есть правительства, которая, одержав победу, сама когда нужно становится во главе его. Во Франции – все разделены на партии, заведомо для существующего правительства держащие сторону трех претендентов на престол!
Поэтому понятно, что и в той и в другой стране – возможны и необходимы и различные органы, выражающие каждый свою партию и борющиеся между собою!
У нас этого быть не может. У нас все должны стоять за правительство, за господствующую религию – и всякое отступление от того или другого – считается преступлением. У нас все должны быть консерваторами: и правительству остается только наблюдать (и оно очень зорко наблюдает), кто в печати норовит свернуть в сторону, и далеко ли?»
Много лет прослужив в цензуре, Гончаров прекрасно сознавал пользу «противного мнения». И с прискорбием отмечал, что отсутствие выраженного инакомыслия в России лишь приближает революцию. С юношеских времён и времён молодости, когда Гончаров стал свидетелем «разгона» симбирского масонства и испуга своего крёстного – H.H. Трегубова, – он сознавал жёсткую, отличную от европейской практики политику правительства в отношении всякого иного мнения. Более того, Гончаров был хорошо осведомлён даже о таких явлениях, как политический сыск, совсем не одобряя этого примитивно работающего российского «института»: «Ни для кого из нас, не только литераторов, но и в публике не было тайною, что за ними, то есть за литераторами правительство наблюдает особенно зорко. Говорят даже, что в III Отделении есть и своего рода «Книга живота», где по алфавиту ведутся их кондуитные списки. За ними наблюдают, что они делают, где, у кого собираются, о чем говорят, кто какого образа мыслей, какого направления. Следили за личностями литераторов потому, что, по журналам и книгам, благодаря цензуре, наблюсти ничего было нельзя. Да и сами наблюдатели, вроде князей Орловых, Долгоруких, Дубельтов и прочих генералов, неглупых и, может быть, очень умных в своем роде, не были довольно литературно развиты и знакомы с развитием современной мысли в Европе и вообще с настроением умов у нас и т. п. – и судили о настроении умов больше по длинным волосам, по ношению усов и бород, по покрою платья – и по этому старались узнавать либералов. Поэтому и ловили, кто что говорит, и всего более, кто читает запрещенные книги? А таких книг была масса: о Прудоне говорили втихомолку, запрещали Маколея, Минье, даже, кажется, Гизо!» Писатель с сожалением замечал, что государственная машина империи работает рутинно, равнодушно, не поспевая за своими оппонентами, – и, конечно, понимал, что такой разрыв в понятиях может вскоре закончиться катастрофой.
Особенную остроту его переживаниям придавало то, что с молодых лет он сам чувствовал на себе строгий взгляд «государева ока»: «Я посещал кружок Белинского… где хотя втихомолку, но говорили обо всем, как говорят и теперь, либерально, бранили крутые меры. Белинский увлекался всем новым, когда в этом новом была искра чего-нибудь умного, светлого, идея добра, правды – и не скрывал, конечно, этого от нас, а из нас иные, например, Панаев, трубил это во всеуслышание.
Его – то есть всех, значит, посещавших Белинского, слушало правительство и знало, конечно, каждого. Я разделял во многом образ мыслей, относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития и т. д. Но никогда не увлекался юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства, братства и т. д., чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму – и всему тому, что из него любили выводить – будто бы прекрасного в будущем для человечества. К власти я относился всегда так, как относится большинство русского общества – но, конечно, лицемерно никогда не поддерживал произвола, крутых мер u m. п.
Этого не могли не знать – и как я теперь соображаю – вполне отличали эту умеренность (я уж был не мальчик, лет 36) и, конечно, на мой счет были совершенно покойны, так точно, как я жил покойно, не боясь никакого за собой наблюдения. Когда замечен был талант – и я, вслед за первым опытом, весь погрузился в свои художественно-литературные планы, – у меня было одно стремление жить уединенно, про себя. Я же с детства, как нервозный человек, не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была (не молчалинская, а горацианская) умеренность, кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей. Это впоследствии называли во мне обломовщиной… Конечно, ультраконсервативная партия, занимавшая важные посты в администрации, наблюдая и за мной, не могла не видеть, что я – не способен ни увлекаться юношески новизной допьяна крайними идеями прогресса, ни пятиться боязливо от прогресса назад – словом, что я более нормальный по времени человек!» [346]346
Литературное наследство. И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. Т. 102. М., 2000. С. 259.
[Закрыть].
Что касается непосредственного общения с верхами общества, то Гончаров, как всегда, старался остаться самим собой, жить своей собственной жизнью. В высший свет он никогда не стремился, строго следуя своему правилу: жизнь должна складываться органично, естественными «прирастаниями», а не судорожными усилиями изменить её. Отсюда его признания: «Я в сочинениях своих и в разговорах – почти не говорил о так называемом «высшем классе»: это по простой причине. Я его вовсе не знал и не видал никогда.
У меня было настолько житейской мудрости и самолюбия тоже, чтобы не лезть туда, куда меня не призывало – ни мое рождение, ни денежные средства. Вон консерваторы хвалят Англию за то, что там-де всякий знает свое место – и что это очень хорошо! Лорд – так лорд и есть, все его и признают таким, купец так купец, художник и литератор знают свою среду и проч.
Так я и делал, следовательно, делал хорошо, да к тому же – я и нервозен, робок и мои склонности и вкусы – влекли меня к кабинету и маленькому интимному кружку.
Но все это ультраконсервативная партия приняла за другое. Не то за грубость, неуважение к авторитетам, не то за какую-то гордость и желание по этим причинам уклоняться от консерваторов. Но я никогда тоже от аристократии и не уклонялся упрямо и умышленно – а когда приходилось с ними знакомиться и встречаться – я делал это очень радушно, если находил в них что-нибудь подходящее себе – и теперь там у меня есть приятели!» Этими приятелями были прежде всего такие личности, как писатель граф Алексей Константинович Толстой, графиня Александра Андреевна Толстая, наконец, великие князья, с которыми Гончаров общался по весьма конкретным поводам, стараясь избегать частых встреч без особенной необходимости.
Начиная с 1860-х годов Гончаров все более уходит от либерализма и западничества, все более тяготеет в своих личностнонравственных ориентациях к монархизму и православию. При этом он, по сути дела, чужд и официальным консерваторам, и либералам, которые так некрасиво обнаружили себя в полемике вокруг его «Обрыва». Обороняясь от насевших со всех сторон «друзей-либералов» и уйдя в себя, прослыв даже человеком с «навязчивыми идеями», Гончаров пишет в «Необыкновенной истории» о своем религиозном состоянии в 1870–1880-х годах: «За мной стали усиленно наблюдать, добиваться, что я такое? Либерал? Демократ? Консерватор? В самом ли деле я религиозен или хожу в церковь так, чтоб показать… Что? Кому?
Теперь, при религиозном индифферентизме, светские выгоды, напротив, требуют почти, чтоб скрывать религиозность, которую вся передовая часть общества считает за тупоумие. Следовательно, перед кем же мне играть роль? Перед властью? Но и та, пользуясь способностями и услугами разных деятелей, теперь не следит за тем, религиозны ли они, ходят ли в церковь, говеют ли? И хорошо делает, потому что в деле религии свобода нужнее, нежели где-нибудь».
В который раз приходится признать, что самим собой Гончаров был только в очень узком дружеском кругу людей и за письменным столом. Гончаров был просто патриотом, любил Россию со всеми её противоречиями, писал о ней и для неё. Политика же, с её стремлением в широкие общественные сферы, была ему чужда. Он никогда не присоединялся к «партиям», ему достаточно было своего собственного таланта и выполнения своего собственного долга перед Россией. Думается, великие князья, общавшиеся с ним, принимали его именно в этом качестве – не более и не менее. Кроме того, для них, очевидно, было важно, что Гончаров был не просто большим талантливым художником, с безукоризненным вкусом и обширным кругозором, но и писателем, состоящим на государственной службе, то есть человеком вполне благонамеренным. Разумеется, это было особенно учтено, когда Гончарова несколько раз приглашали преподавать великим князьям русскую словесность. Именно педагогическая деятельность со времени преподавания в семье Майковых незаметно заняла в жизни Гончарова значительное место и, по сути, сблизила его с царской семьёй.
Цесаревич Николай Александрович
Сближение романиста с царской семьей началось довольно рано, – после его кругосветного путешествия на фрегате «Паллада». Нельзя сказать, что Гончаров избегал знакомств при дворе. Но в то же время, не особенно стремясь к подобным знакомствам, он сходится лишь с теми людьми, которые так или иначе оказываются в поле его писательской деятельности и которые отвечают его обычным требованиям к друзьям и знакомым. С людьми неприятными ему Гончаров согласен общаться лишь по службе. Сходясь с людьми высшего света, писатель не делает никаких исключений, не проявляет искательства, подобострастия. В письмах к ним его разговор всё тот же, что и всегда. Связи с двором постепенно крепли, в особенности же в связи с востребованностью Гончарова как педагога. Мало кто знает о том, что романист преподавал русскую словесность наследнику царского престола Николаю Александровичу (1843–1865) – сыну императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Этот эпизод воспитания наследника пока не прописан ни биографами Гончарова, ни историками, изучающими царскую семью. Как известно, великий князь Николай Александрович должен был унаследовать российский престол, но неожиданно умер в возрасте двадцати двух лет. Как будущий государь, он получил прекрасное образование. Среди его преподавателей непродолжительное время был и писатель Гончаров. Преподавание русской словесности цесаревичу оказалось любопытной страницей не только в биографии великого писателя, но и в истории «придворного образования» в России.
В императорской семье русскую словесность чаще всего преподавали выдающиеся русские писатели, которые отличались не только литературным, но и педагогическим талантом, а также высокими нравственными качествами. Таким требованиям отвечали, например, поэт В. А. Жуковский, а затем друг A.C. Пушкина, ректор Петербургского университета профессор, литературный критик П. А. Плетнёв, который преподавал словесность будущему императору Александру И. Великому князю Николаю Александровичу непосредственно до Гончарова русский язык преподавал талантливый педагог, автор многих учебников Владимир Игнатьевич Классовский (1815–1877). Его перу принадлежали весьма популярные книги: «Версификация» (СПб., 1863); «Краткая история русской словесности» (СПб., 1865); «Русская грамматика» (СПб., 1865); «Латинская просодия» (СПб., 1867); «Основаниесловесности» (СПб., 1866); «Грамматика славяно-церковного языка»(СПб., 1867); «На досуге детям» (СПб., 1868); «Нерешённые вопросы в грамматике» (СПб., 1870); «Основания педагогики» (СПб., 1871 и 1872); «Знаки препинания в 5 новейших языках» (СПб., 1869); «Поэзия в самой себе и в музыкальных своих построениях» (СПб., 1871); «Заметки о женщине и ее воспитании» (СПб., 1874); «Состав, формы и разряды словесных произведений применительно к практическому преподаванию словесности» (СПб., 1876) и др. Его учебник «Грамматика славяно-церковного языка нового периода» выдержал уже семь изданий, причём последнее вышло уже в наше время – в 2005 году. Классовский, как и Гончаров, имел большую любовь к Античности и издал со своими комментариями латинских классиков: Вергилия, Юлия Цезаря,
Федра, Овидия, Тацита. Преподавал Классовский в Пажеском корпусе. О его педагогической деятельности ходили легенды. Будущий анархист Пётр Кропоткин, учившийся у Классовского в Пажеском корпусе, вспоминал: «Первая лекция В. И. Классовского явилась для нас откровением. Было ему под пятьдесят; роста небольшого, стремителен в движениях, сверкающие умом и сарказмом глаза и высокий лоб поэта… Он должен был преподавать нам грамматику, но вместо скучного предмета мы услыхали нечто совсем другое… Одни из нас наваливались на плечи товарищей, другие стояли возле Классовского. У всех блестели глаза. Мы жадно ловили его слова… В сердцах большинства кипело что-то хорошее и возвышенное, как будто пред нами раскрывался новый мир, о существовании которого мы до сих пор не подозревали. На меня Классовский имел громадное влияние, которое с годами лишь усиливалось… Западная Европа и, по всей вероятности, Америка не знают этого типа учителя, хорошо известного в России. У нас же нет сколько-нибудь выдающихся деятелей… в области литературы или общественной жизни, которые первым толчком к развитию не обязаны были преподавателю словесности. Во всякой школе, всюду должен был быть такой учитель. Каждый преподаватель имеет свой предмет, и между различными предметами нет связи. Один только преподаватель литературы, руководствующийся лишь в общих чертах программой и которому предоставлена свобода – выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить, таким образом, в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателя русской словесности». [347]347
http: // www.teopolitika.ru/ all/Markin/Markin_Neizvestniy_Kropotkin. htm
[Закрыть]
Однако в ноябре 1857 года Классовский по научным делам уехал за границу. Воспитатель цесаревича Владимир Павлович Титов попытался найти замену Классовскому, для чего обратился за помощью к управляющему Петербургским учебным округом П. А. Плетневу, который хорошо представлял себе задачи подобного преподавания. Плетнев предложил место наставника поэту А. Н. Майкову, однако тот откровенно объяснил, что область теории ему чужда, и рекомендовал вместо себя, как некогда в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», Гончарова [348]348
Мазон А. Материалы для биографии и характеристики И.А. Гончарова. СПб., 1912. С. 340.
[Закрыть].
29 ноября 1857 года Майков провёл с Гончаровым переговоры о возможности занять место преподавателя русской словесности при четырнадцатилетием наследнике, великом князе Николае Александровиче. Гончаров поначалу отказывался, ощущая огромную ответственность, но в конце концов согласился. 21 декабря того же года состоялось официальное назначение, причём за Гончаровым было сохранено место цензора. Гончарову пришлось преподавать наследнику и русский язык, и русскую литературу. Гончаров нигде не оставил письменного отзыва о наследнике, проявляя, может быть, излишнюю осторожность или щепетильность. Но благодаря запискам воспитателя Я. К. Грота мы знаем, что это был голубоглазый живой мальчик, который по внешности имел «много сходства с отцом и отчасти с дедом», императором Николаем I. Грот свидетельствует: «Нрав Николая Александровича весёлый, приветливый, кроткий и послушный. Для своих лет он уже довольно много знает, и ум его развит. Способности у него блестящие, понятливость необыкновенная, превосходное соображение и много любознательности». [349]349
Великий князь Александр Александрович. Сборник документов. М., 2002. С. 78.
[Закрыть]
Разумеется, преподавание русского языка было для писателя определённой проблемой. Эти занятия не могли быть столь же глубоки и интересны, как занятия по русской словесности. Первое занятие Гончарова посетил академик Яков Карлович Грот. А. Мазон отмечает: «Первый (урок. – В. М.)был очень интересен, как бы вступительная лекция, и очень понравился Я[кову] К[арловичу]. Второй менее его удовлетворил. Видно было, что недостаёт для преподавания языка положительной и отчётливой теоретической подготовки. Это осознавал и сам Гончаров и вскоре, весной 1858 г., стал отказываться от продолжения уроков по русскому языку, предлагая остаться, если угодно, для чтений, то есть по литературе». [350]350
Мазон А.Указ. соч. С. 340.
[Закрыть]
Цесаревичу Николаю Александровичу занятия Гончарова полюбились до такой степени, что вместо положенных двух уроков в неделю он стал брать у Гончарова три урока. [351]351
Штакенгинайдер Е. А.Дневник и записки (1854–1886). М.—Л., 1934. С. 211.
[Закрыть]К сожалению, мы почти ничего не знаем о том, какую систему образования избрал Гончаров для своего воспитанника, хотя слово «чтения» подсказывает, что романист опирался прежде всего на популярный в XIX веке метод комментированного чтения. Об этом же говорит письмо Гончарова к A.B. Дружинину от 22 июля 1858 года. Гончаров очень ценил перевод «Короля Лира», сделанный Дружининым, и его предисловие к этому переводу, насыщенное глубокими замечаниями о творчестве Шекспира и характерах героев: «Давно собирался я написать к Вам, почтеннейший и любезнейший друг Александр Васильевич, по многим другим уважениям, независимо от чувства постоянной приязни. Например, давно хотелось мне передать Вам, какой важный результат, на который Вы, конечно, не рассчитывали, произвел Ваш знаменитый перевод «Лира»: чтением его от доски до доски я заключил свои уроки с Ник[олаем] Алекс[андровичем], и если б Вы были свидетелем того увлечения, какому поддался ученик! Но это бы еще ничего, оно понятно: но я прочел от слова до слова и введение, к которому мне, с критической точки зрения, не нужно было прибавлять ни слова как к роскошнейшему, вполне распустившемуся цветку на почве – критики. Какой урок для ученика и как глубоко он его понял! Вот где прямая польза литературного образования и где единственными виновниками были Шекспир да Вы, а я только покорным посредником». Гончаров весьма серьёзно готовился к занятиям с цесаревичем. И долго хранил память об этих занятиях. Спустя более чем двадцать лет он всё ещё сохранял в ящиках письменного стола свои лекции, подготовленные для Николая Александровича. [352]352
Цит. по: И. А. Гончаров. Материалы конференции. Ульяновск, 1998. С. 241.
[Закрыть]
Романист вёл занятия с наследником, судя по всему, до июля 1858 года. Во всяком случае, 8 июля он писал своему брату H.A. Гончарову: «Уроки мои при дворе пока кончились». [353]353
Новое время. 1912. № 13 017. 9 июня; илл. приложение.
[Закрыть]Очевидно, Гончаров намеревался продолжить после летних каникул свои занятия с наследником. Однако планы пришлось изменить. А. Мазон приводит в этой связи следующее объяснение: Август Фридрих Гримм, заменивший Титова, «пригласил для переговоров (по поводу возобновления занятий. – В. М.)И. А. Гончарова, но принял его так неучтиво (растянувшись на диване), что Гончаров решил отказаться и по возвращении домой написал Гримму письмо, что по обязанности ценсора не имеет возможности взять на себя преподавательскую должность». [354]354
Мазон А.Указ. соч. С. 341.
[Закрыть]
Казалось бы, всё дело только в несложившихся отношениях Гримма и Гончарова. Однако это не так. Кто такой Гримм и каковы были его представления о преподавании в царском семействе? О нём известно очень мало, но то, что известно, наводит на размышления. Странно, но факт: Гримм не прошёл даже средней немецкой школы, а окончил лишь низшую школу. [355]355
Великий князь Александр Александрович. Сборник документов. М., 2002. С. 177–178.
[Закрыть]Август Фридрих Гримм был гувернером в Петербургском частном пансионе пастора Муральта. Кроме гувернерства, у него была педагогическая практика: он обучал чистописанию. В начале 1840-х годов Гримм поступил наставником к сыну канцлера графа Нессельроде, а вскоре его пригласили занять при великом князе Константине Николаевиче место помощника его воспитателя, адмирала Литке. Кроме того, он выполнял обязанности чтеца императрицы Александры Федоровны, которая ему покровительствовала. В 1847 году Гримм, в чине статского советника, был уволен в отставку и с тех пор проживал в Дрездене, получая от русского правительства весьма приличную пенсию в 3500 рублей.
«За границей Гримм занимался литературою и написал на немецком языке две книги о России: роман из жизни петербургского большого света и воспоминания о путешествиях своих с Великим Князем Константином Николаевичем. В обоих этих произведениях он, выражая личную преданность Императорскому Дому, отзывался о России и о русских, об их национальных свойствах и особенностях и вообще о русском народном характере в выражениях резких и презрительных и постоянно выдвигал вперед воспитательное значение немцев в истории России». [356]356
Великий князь Александр Александрович. Сборник документов. М., 2002. С. 173.
[Закрыть]
В 1853 году немецкая партия при императорском дворе предложила кандидатуру Гримма в качестве воспитателя сыновей будущего государя Александра II. Однако император Николай I сказал: «Этого не надо; и у себя найдем». Но после кончины Николая I молодая императрица Мария Александровна, бывшая высокого мнения о педагогических способностях Гримма, вспомнила о нем и пригласила его в качестве наставника для своих детей. [357]357
Там же. С. 172–173.
[Закрыть]Характерно, что Гримм абсолютно не знал русского языка. [358]358
Там же. С. 174.
[Закрыть]Как воспитатель цесаревича он делал главный упор на математику и музыку и совершенно не принимал во внимание русскую историю, русский язык и литературу, ибо считал Россию страной «вовсе не культурной». [359]359
Там же.
[Закрыть]«Гримм не считал вовсе нужным учить младших Великих Князей отечественной истории. В этой науке сам Гримм был не очень сведущ и скудость своих познаний плохо прикрывал высокомерными рассуждениями о том, что история России не может-де служить предметом серьезного изучения или преподавания, будучи не чем иным, как случайным сцеплением фактов, не имеющих между собою никакой внутренней органической связи. Не более высокого мнения был Гримм и о русской литературе, по поводу которой он вступал в бесконечные споры с Гротом, продолжавшим и при нем занимать должность наблюдателя классов Великих Князей. Так, по поводу отказа Гончарова от должности преподавателя русского языка и словесности при наследнике Гримм уверял, что для обучения этим предметам вовсе не нужен человек, одаренный знанием и талантом. Русская литература, рассуждал он, так бедна, что нетрудно передать ученикам понятие о ней, тем более что до Ломоносова о ней нечего и сказать. Грот возражал, что для того-то и необходимы в преподавателе талант и знание, чтобы к этим кажущимся Гримму неинтересными эпохам вызвать сочувствие, сделать их интересными, пробудить любовь к родному слову, а что касается до первоклассных писателей, то хотя у нас их и немного, но потому-то и следует изучить их со всем тщанием и дать почувствовать их красоты. «Да, – самоуверенно отвечал Гримм, – но такое развитие эстетического чувства и вкуса составляет задачу преподавателей иностранных литератур». Взволнованным голосом и с чувством глубокого убеждения Грот воскликнул: «Я с этим совершенно не согласен. Для русского надо, чтобы именно преподаватель отечественного языка и литературы исполнили это дело». Но голос его, конечно, оставался гласом вопиющего в пустыне». [360]360
Великий князь Александр Александрович. Сборник документов. М., 2002. С.177
[Закрыть]Нелегко было русскому ученому и академику Я. К. Гроту состоять в подчинении у иностранного педагога, не прошедшего даже средней немецкой школы и едва окончившего только низшую. Приглядевшись к нему ближе, Грот скоро убедился не только в педагогической несостоятельности, но и в глубоком невежестве Гримма по разным отраслям знания… [361]361
Там же. С. 178.
[Закрыть]Не зная ни русского языка, ни России, презрительно и враждебно относясь ко всему русскому в науке и в жизни, Гримм отодвинул на второй план изучение русского языка, словесности и истории и ввел преподавание всеобщей истории и географии на немецком языке. [362]362
Там же. С. 176.
[Закрыть]
И вот этот человек фактически отстранил «первоклассного писателя» Гончарова от преподавания русской литературы цесаревичу Николаю Александровичу. В преподавании русской литературы великим князьям Гончаров остаётся первым авторитетом своего времени, и вряд ли кто-либо мог его полноценно заменить на этом месте. Между прочим, сам Гримм вскоре также потерял своё место. A.B. Никитенко записывает в своём дневнике от 30 декабря 1860 года: «Вечером читал у меня Майков свое новое произведение: «Испанская инквизиция»… Еще были у меня в этот вечер Ребиндер, Гончаров и Чивилев. Кстати, о Чивилеве. Он назначен воспитателем великих князей на место Гримма. Он нашел маленьких князей ужасно запущенными в умственном отношении. О развитии их и приучении к умственному труду до сих пор вовсе не думали. Между тем в императрице Чивилев нашел прекрасную женщину с добрым, любящим сердцем и возвышенными понятиями. Как это могло случиться, что воспитание князей было ведено так небрежно? Вина не Гримма, но и не тех, которые его выбрали и так долго терпели».
Таким образом, эпизод преподавательской деятельности Гончарова при дворе показывает, что в процессе воспитания великих князей сталкивались две противоположные тенденции. Одна из них основывалась на ознакомлении царских детей прежде всего с историей и культурой России, другая – преимущественно ориентировалась на культурные ценности Европы. Гончаров стал своеобразной жертвой столкновения этих тенденций.
После смерти великого князя Николая Александровича в 1865 году наследником русского престола был объявлен великий князь Александр Александрович. Его ориентированность на русскую культуру и историю была общеизвестна. Он не принимал даже западной живописи в храмах и считал, что она может быть только византийской. [363]363
Стародубцев О. В.Русское церковное искусство X–XX веков. М., 2007. С. 687.
[Закрыть]Но это была уже другая страница русской истории.
Гончаров, как мудрый и несколько опытный человек, вероятно, подозревал, что любое прикосновение к высшей власти ещё долго может аукаться в судьбе и обсуждаться совершенно посторонними людьми без всякого благожелательства, напротив, с непонятной агрессией, непонятной тем более, что эти люди не имеют к делу ни малейшего отношения. Но в том-то и состоит их «дело», почти «профессия». И тем не менее спустя много лет писатель всё ещё удивлялся, что его неправильно поняли: «Искать я ничего не искал: напротив, все прятался, со страхом и трепетом принял приятное и лестное приглашение В. П. Титова заняться с покойным цесаревичем литературой (в ожидании, пока найдут другого учителя, вместо заболевшего) и потом испугался, оробел своей несостоятельности, по части знаний и педагогических способностей, а более дрожал за свою ответственность в этом важном деле – и с большой печалью удалился.
Многие, не зная моей нервозности, вероятно, приписали и это – нехотенью, может быть, недостатку сочувствия к этим, любимым всеми – и мною, конечно, – лицам. Можно ли так толковать чужую душу? Если б могли взглянуть в мою, то увидели бы в ней совсем противное!» («Необыкновенная история»).