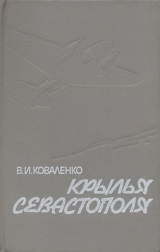
Текст книги "Крылья Севастополя"
Автор книги: Владимир Коваленко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Но мы ошиблись. Дежурный взял трубку и услышал:
– По приказанию штаба ВВС ЧФ пяти штурманам приготовиться к отбытию в Краснодар. Запишите фамилии: Пономарев, Галухин, Коваленко, Красинский, Пастушенко. Записали? Все!
Трубка замолчала. А мы стали ломать головы: что бы это значило?
Вскоре все прояснилось. Оказывается, в Краснодар прибывают самолеты Ли-2 («дугласы», как привыкли мы их называть) Московской авиагруппы особого назначения (МАОН) для оказания помощи Севастополю. Экипажи на самолетах опытные, не раз летали к партизанам, в глубокий тыл врага, в осажденный Ленинград, но над морем им летать не приходилось, сложных условий Севастополя они не знают, поэтому и попросили в помощь штурманов, работавших в осажденном городе и знающих каждый клочок севастопольского «пятачка».
Командировали штурманов не только из нашей эскадрильи, но и из других частей. Набралась солидная компания. Когда через несколько часов мы прибыли в Краснодар, на центральном аэродроме уже стояло 20 «дугласов», только что прилетевших из Москвы. Нас встретило командование МАОН – командир майор В. М. Коротков и комиссар И. М. Карпенко.
– Обстановку объяснять не буду, – сказал командир, – вы ее лучше нас знаете. Давайте сразу разберемся по экипажам, чтобы вы могли познакомиться, обсудить маршруты, приготовиться к полету. Первый вылет сегодня. [119]
Меня назначили в экипаж М. С. Скрыльникова. Он мне сразу понравился: немногословный, спокойный. Солидный командир. И еще одно обстоятельство вызывало особое уважение к этим гражданским летчикам: почти у всех на груди поблескивали ордена (у нас же тогда еще не было ни единой правительственной награды). У Скрыльникова, помнится, их было два: Красного Знамени и Красной Звезды. Мы понимали, что просто так, за здорово живешь, эти ордена не даются.
До вылета еще было далеко, и Скрыльников, собрав под плоскостью самолета весь экипаж, обратился ко мне:
– Лейтенант, мы тут все люди новые, района не знаем, поэтому давайте пройдемся по маршруту, да подробненько, не спеша, со всеми деталями.
Я достал карту, и мы «полетели». Я описывал характерные ориентиры по маршруту, объяснял, что нас ожидает, если отклонимся влево, вправо. На листке бумаги нарисовал Херсонесский аэродром, показал, где расположены капониры, откуда лучше заходить на посадку, какие опасности могут встретиться… Слушали меня внимательно. В общем, знакомство состоялось.
Первым на прокладку ночного маршрута вылетал командир эскадрильи В. А. Пущинский, штурманом шел наш Василий Галухин, только недавно прилетевший из Севастополя. Ответственность на нем лежала большая: не так сложен сам полет, как первая посадка большого перегруженного самолета на маленькой, к тому же изрытой бомбами и снарядами и постоянно подвергающейся артобстрелу площадке Херсонеса.
В этот день немцы прорвались на Северную сторону Севастополя, вышли к бухте, захватили площадки, где еще несколько дней назад базировались наши МБР-2. Это еще больше осложнило положение Херсонесского аэродрома, поскольку враг из Константиновского равелина мог вести огонь не только по аэродрому, но и по заходящим на посадку самолетам. Притом почти безнаказанно: в те дни наша артиллерия и минометы из-за недостатка боеприпасов больше молчали, огонь вели только прямой наводкой по атакующей пехоте и танкам. Каждый снаряд и мина были на строгом счету.
Мы должны были хоть немного пополнить их запасы. Все 20 самолетов загрузили до отказа. Для этого пришлось выбросить из фюзеляжей все, без чего можно обойтись в полете, даже парашюты и надувные спасательные лодки. [120]
Ушел самолет Пущинского, и мы стали ждать. Сразу после посадки он должен дать радиограмму – разрешение на вылет.
Время тянулось томительно. Два часа показались вечностью. Наконец долгожданная радиограмма: «Выпускайте все самолеты».
Один за другим, с интервалом 15-20 минут, взлетали и уходили в ночь «дугласы». Наш самолет ушел одним из первых. Специальной штурманской кабины в нем не было, поэтому после прохода ИПМ (исходный пункт маршрута) второй пилот уступил мне свое правое кресло. Перед гладами открылось ночное небо, усеянное мириадами ярких звезд. Луны не было, но погода стояла безоблачная, горизонт просматривался хорошо. Мягко, как-то даже умиротворяюще гудели моторы. Не верилось, что через какой-нибудь час мы попадем в огненный ад войны.
А она напомнила о себе очень скоро: где-то в районе Ялты заколыхалось далекое зарево. Когда подлетели ближе, увидели, что в горах горит лес: фашисты таким образом боролись с партизанами…
Севастополь был закрыт тяжелым покрывалом дыма, через который прорывались языки пожарищ. Вокруг города и на Северной стороне сверкали бесконечные вспышки орудий – враг продолжал разрушать уже разрушенный город.
У меня сжалось сердце. Севастополь! Никогда я не видел тебя таким. Всего несколько месяцев я находился среди твоих защитников, да и в мирное время бывал только редкими наездами, но ты стал мне дорог, ты стал моей судьбой – трудной, напряженной, незабываемой. Ты – боль, гордость и честь наша! Севастопольцы дали клятву: защищать, тебя до последнего патрона, до последней капли крови. И ты не сдавался!
Мы обогнули Херсонесский маяк, зашли на посадку с севера. Сразу почувствовалась близость врага: со стороны Константиновского равелина к нам потянулись нити трассирующих пуль.
На аэродроме вспыхнуло посадочное «Т», выложенное из электрических огней. Прожектор не включали, чтобы не привлекать внимание врага – «дуглас» планировал на посадку в полной темноте. Посадочные фары включили, когда до земли оставались считанные метры. Еще несколько секунд – и колеса черкнули по земле. Принимающий фонариком указал, куда надо отрулить с посадочной площадки – поближе к капонирам. [121]
Открылась дверь, и в самолет сразу ворвался гул войны: подрагивала земля от недалекого боя, над аэродромом свистели снаряды, раздавались хлопки разрывов. Матросы кинулись разгружать боеприпасы, рядом уже стояли машины с ранеными.
– Быстрее, товарищи, быстрее, – торопил руководитель приемки. – Пока не начался артналет.
Экипажу не разрешили даже выйти из самолета, вышел один Скрыльников, чтобы переговорить с руководителем полетов.
Ящики с боеприпасами укладывали прямо в машину, видимо, с ходу отправляли на передовую.
Быстро погрузили раненых. Многие были в тяжелом состоянии, но мы не услышали ни одного стона, ни одного крика. Воины-севастопольцы мужественно переносили страдания.
В эту ночь все самолеты благополучно возвратились в Краснодар. Утром, когда пришли на завтрак, увидели на стене свежий «боевой листок» с результатами полетов в Севастополь и обращением летчика Бибикова к товарищам по оружию: «Клянусь, – писал он, – что, пока руки держат штурвал, пока бьется сердце в груди, буду летать до последнего дыхания, всеми силами помогать севастопольцам бить, громить, уничтожать врага».
Под этими словами мог подписаться любой из нас: Бибиков выразил мысль всех своих товарищей.
В этот день наш экипаж вылетел в Севастополь еще засветло, в полночь вернулся домой и смог слетать на задание еще раз. По два вылета сделали и некоторые другие экипажи.
Но летать с каждым днем становилось все труднее. 24 июня Херсонес радировал, что принять «дугласы» не может. В этот день только по аэродрому немцы выпустили более 1200 снарядов и сбросили 200 крупнокалиберных бомб. Было выведено из строя одиннадцать самолетов. Посадочную полосу так изрыло воронками, что даже автомашине было не проехать. Требовалась по меньшей мере ночь для приведения ее хотя бы в относительный порядок.
Как же быть? Вот тут-то и пригодился опыт работы экипажей «дугласов» с партизанами: решили сбрасывать грузы на площадку рядом с аэродромом, без посадки. Это позволило значительно уплотнить график полетов, сократить интервал между вылетами до десяти минут. Без посадки можно было свободно слетать дважды. [122]
…К аэродрому подошли на небольшой высоте, сразу увидели треугольник огней – место сбрасывания. На следующем заходе снизились до бреющего, и, когда нос самолета поравнялся с треугольником, я нажал кнопку. Огромная сигара, похожая на торпеду, отделилась от самолета. У меня екнуло сердце: вдруг от удара о землю взорвутся упакованные боеприпасы?
Не взорвались. Техники-оружейники, готовившие грузы на сбрасывание, хорошо знали свое дело.
Сделали круг над аэродромом, легли на обратный курс. Мне показалось – небо над Севастополем стало еще чернее, еще зловещее…
26 июня начались 240-е сутки обороны города. С утра наша артиллерия и авиация нанесли по врагу чувствительные удары. Но после полудня огонь значительно ослаб: сказывался недостаток боеприпасов. А немцы наращивали огонь с каждой минутой. Во второй половине дня десятки бомбардировщиков обрушили на аэродром тяжелые бомбы. Наши истребители вылететь в этот день так и не смогли – полоса была разбита.
Перестала существовать плавучая батарея «Не тронь меня». Воспользовавшись отсутствием нашей авиации, большая группа вражеских пикировщиков накинулась на нее, когда в строю уже не осталось и половины орудий, вышел почти весь боезапас. Смертельно раненный командир батареи капитан-лейтенант С. Я. Мошенский обратился к команде: «Прощайте, друзья. Знайте, что я умираю с сознанием, что вы выстоите в бою».
…Новая волна бомбардировщиков. Два прямых попадания крупнокалиберных бомб потрясли платформу батареи. Она накренилась и легла на борт. Большинство членов команды погибло. Тяжелораненых, в том числе и комиссара Н. С. Середу, отправили в Камышевую бухту для эвакуации на Большую землю, а несколько человек, чудом оставшиеся невредимыми, пополнили ряды бойцов, оборонявших город.
Аэродром по существу лишился зенитного прикрытия. Да и истребителей в строю осталось всего три пары.
Херсонесская авиагруппа быстро таяла. Командование приняло решение: последние бомбардировщики и штурмовики перебазировать на Кавказ, на Херсонесе оставить только истребители.
К вечеру, когда налет немецких бомбардировщиков прекратился, все, кто был на аэродроме, кинулись приводить в порядок посадочную полосу, чтобы принять [123] «дугласы». Воронки забрасывали камнями, засыпали землей, следом ходил каток, утрамбовывая грунт, хотя то там, то тут еще разрывались артиллерийские снаряды. К назначенному времени удалось восстановить узкую ленточку посадочной полосы, и мы благополучно произвели на ней посадку. Правда, один «Дуглас» таки влетел в воронку, подломил стойку шасси, погнул винт. Его оттащили к капониру, но отремонтировать так и не успели. Сожгли.
На следующий день, перед заходом солнца, с Херсонеса взлетели последние Ил-2 и Пе-2 – всего 18 самолетов.
Сквозь грозу
Настал вечер 29 июня – десятый день наших полетов в Севастополь. Мы, как обычно, готовились к вылету, но поступило предупреждение синоптиков: с юга Черного моря движется мощный грозовой фронт, он может преградить путь на Севастополь. С вылетом надо поторопиться.
Наш экипаж вылетел последним. Когда дошли до траверза Ялты, в море уже стояла темная стена облаков, то и дело прорезаемая зигзагами молнии. Подумалось: «И правда, может отрезать дорогу домой».
На Херсонесе заходили на круг осторожно. В предыдущем полете перед последним разворотом прямо в лицо Скрыльникову ударил мощный луч вражеского прожектора с Константиновского равелина. Ослепленный пилот успел задернуть темную шторку, пространственную ориентировку не потерял, но последний разворот все же проскочил, развернулся уже над передовой линией. Немецкие пулеметчики основательно поупражнялись в стрельбе по движущейся цели. К счастью для нас, неудачно.
Повторять эту ситуацию теперь, понятно, не хотелось, и Скрыльников на сей раз зашел на посадку подальше, чтобы луч, если даже поймает его, светил не в глаза, а сбоку.
Однако опасения наши не подтвердились: прожектор не включился. Оказывается, только что, перед нашим прилетом, его «погасил» известный черноморский летчик, уже тогда Герой Советского Союза Михаил Авдеев. Он возвращался с задания, в сумерки заходил на посадку, и тут его осветил луч с Константиновского. Авдеев прервал посадку, снова ушел в воздух. Набрал высоту и с пикирования дал несколько очередей по прожектору. Луч погас. Но когда летчик снова зашел на посадку, луч опять потянулся [124] к аэродрому бледно-дымчатыми лапами. Так повторялось несколько раз: после атаки луч замирал, а уходил истребитель – оживал снова. Близилось время прибытия «дугласов», прожектор мог наделать беды. И тогда Авдеев решился на крайность: зашел с севера, с территории, занятой врагом, снизился до бреющего и пошел на прожектор из того сектора, откуда тот не ожидал нападения. Лететь на бреющем ночью, да еще на скоростном истребителе, смертельно опасно. Одно неосторожное движение ручкой управления – и самолет врежется в землю. Но другой возможности расправиться с прожектором Авдеев не видел. Он нацелился в основание луча, как в мишень, и, когда прожектор оказался почти рядом, нажал гашетку пушки и тут же дернул ручку управления на себя. Самолет взмыл вверх, летчику даже показалось, что он увидел разлетевшиеся стекла…
Во всяком случае прожектор погас надолго. Мы сели на Херсонесе благополучно. Бросилось в глаза, что на аэродроме, впритык к посадочной полосе толпится очень много народу. Площадка, где разгружали я загружали «дугласы», была оцеплена двойным кольцом матросов, которые стояли стеной, не пропуская никого к самолету. Обстановка была крайне тревожной. Над городом стояло яркое зарево, а огневая линия передовой уже просматривалась невооруженным глазом.
Боеприпасы сбрасывали прямо на землю. Машин на этот раз не было, ящики уносили на руках куда-то за линию оцепления. Когда начали грузить раненых, за линией возникло беспокойное движение.
– Только раненых, только раненых! – громко повторял руководитель посадки. И толпа стихла. Моряки работали четко, молча.
На аэродроме мы задержались совсем недолго. И все же опоздали: у мыса Сарыч путь преградила темная неприступная стена. Она уже закрыла горы, надвинулась на сушу.
– Что будем делать? – спросил Скрыльников.
– Пойдем вдоль фронта, с набором высоты, – ответил я. – Может, удастся обойти с юга.
– Добро, – совсем по-морскому ответил Михаил Семенович.
Он развернул самолет вправо, потянул штурвал на себя.
Полчаса мы шли на юг, забираясь все выше и выше. Стрелка высотомера уже задрожала у отметки 6000 метров. [125] Выше подниматься нельзя: в фюзеляже тридцать человек раненых замерзают, да и кислородное голодание на такой высоте чувствуется, можно внезапно потерять сознание. А грозовому фронту конца-края не видно. Но вот в сплошной стене облаков начали появляться просветы. Стена дождя осталась внизу, кучевые облака теперь клубились огромными шапками, словно вырываясь из гигантского котла. Они бурлили, сталкивались и расходились, оставляя между собой небольшое свободное пространство.
– Попробуем пробиться? – спокойно произнес Скрыльников.
Я вполне оценил его спокойствие, ибо хорошо знал, что представляют собой эти клубящиеся громады. Свирепствующие в них вихревые вертикальные потоки способны так тряхнуть самолет, что он развалится в одно мгновение, а мощные электрические заряды могут запросто зажечь металлический «дуглас». В общем, в такие облака лучше не попадать. Но и между ними находиться небезопасно. Если два облака с противоположными электрическими зарядами сближаются, то происходит замыкание – сверкает молния. Окажись между ними в это мгновение самолет – отличный громоотвод! – и вспышка кончится трагедией.
Все это, конечно, знал и Скрыльников. Но что я мог посоветовать командиру? Молча уступил кресло второму пилоту Саше Куримову – в трудную минуту нужна страховка в управлении самолетом, – а сам стал сзади между сиденьями.
Скрыльников начал плавный правый разворот, отходя в сторону от грозовой стены и выбирая наиболее широкий просвет. И вот самолет устремился к облакам, словно кидаясь в атаку, на таран. Сразу справа и слева замелькали сероватые громады, казалось, мы несемся среди снежных вершин и вот-вот врежемся в одну из них… Между ворочающимися справа и слева серо-мутными горами-великанами зияла черная пропасть. В ней мы и пытались найти свое спасение.
– Следи за облаками! – бросил второму пилоту Скрыльников. В его глуховатом, нарочито спокойном голосе чувствовалось огромное напряжение.
– Есть! – откликнулся Саша.
Это значило: командир всецело занят пилотированием, ему некогда разглядывать вокруг, определяя, какое из облаков плотное, а какое – более размытое, тут хотя бы успеть отвернуть в безопасную сторону. А второй пилот должен оценивать обстановку «на десять шагов вперед», [126] чтобы не залезть в круговерть, из которой и выхода потом не найдешь…
– Штурман, следи за курсом!
– Есть!
Возиться с полетной картой нет времени. Я поглядываю на компас и часы. Про себя отмечаю: курс – время, курс – время. И мысленно прокладываю отрезки на карте, чтобы хоть примерно знать, где мы находимся. То справа, то слева по курсу вспыхивают молнии. Хорошо, что хоть вертикальные – горизонтальные могут угодить и по самолету.
Тревожный голос стрелка-радиста:
– Командир, пулемет искрит!
– Снять пулемет! Выключить радиостанцию, – командует Скрыльников. И добавляет негромко: – Огни Эльма.
Мы уже заметили голубоватый, удивительно красивый ореол, возникший вокруг правого винта. Этим зрелищем можно было бы любоваться, если бы оно не грозило большой бедой.
Да, это были огни Эльма. Когда самолет приближается к сильно заряженному электрическому полю, он, как конденсатор, вбирает в себя электричество, которое накапливается прежде всего на выступающих деталях – пулемете, концах винта и плоскостей. При определенном насыщении такие детали начинают искриться. Поэтому и начал «стрелять» пулемет, поэтому и образовался ореол вокруг вращающегося винта. При большом накоплении заряда между самолетом и облаком может вспыхнуть короткое замыкание и тогда…
Что будет тогда, думать не хотелось.
Как только вспыхнул «ореол» вокруг правого винта, Скрыльников сделал плавный отворот влево. Голубоватый огонь исчез. Но через несколько секунд он еще сильнее вспыхнул на левом моторе. Я взглянул влево, и в душе похолодело: голубое пламя быстро ползло, переливаясь, от консоли по плоскости. Скрыльников подвернул вправо, пламя с плоскости сползло, но теперь огни Эльма заиграли на обоих моторах. Отворачивать было некуда. Пилот потянул штурвал на себя, и «дуглас» полез вверх, на седьмую тысячу метров.
Что же дальше?
В воздушном бою, когда тебя атакуют истребители, ты весь в действии, думаешь лишь о том, как отбиться от врага; и над целью, когда тебя берут в переплет прожектора и зенитки, ты тоже весь в напряжении, мысль работает [127] стремительно, подгоняемая молниеносно меняющейся обстановкой, когда каждое мгновение – граница между жизнью и смертью, когда не то что спокойно проанализировать обстановку, даже глазом моргнуть некогда. И все же многое зависит, прежде всего, от тебя, от твоего умения, твоей воли.
А тут – какая-то унизительная зависимость от слепой стихии. На высоте свыше шести километров мечемся между сверкающих облаков – без парашютов, без спасательных средств, с тридцатью ранеными на борту, и судьба наша – в руках случая. Ни изменить что-либо, ни помочь себе мы не можем. Остается лишь одно – ждать.
Так мы и шли, то отворачивая вправо и влево, то забираясь еще выше, то проваливаясь вниз. Долго шли, минут тридцать-сорок. Эти минуты показались нам вечностью.
И вдруг серая кутерьма оборвалась, стремительно умчалась назад, самолет завис над бездонной черной пропастью…
– Подержи, – коротко сказал Скрыльников второму пилоту и выпустил штурвал из рук. Он расслабленно откинул голову на спинку сиденья, руки безжизненно повисли. Через секунду он тряхнул головой, обратил ко мне бледное, усеянное капельками пота лицо.
– Вот так банька! – протянул, хотя за бортом было градусов пятьдесят ниже нуля. И уже твердо, вновь берясь за штурвал:
– Штурман, курс!
Я уже прикинул, где мы находимся, и ответил:
– Сорок пять!
– В горы не вмажем в такой темени?
– Не вмажем.
Самолет плавно заскользил вниз, теряя высоту.
Под Новороссийском, на горе возле озера Абрау-Дюрсо, были установлены прожектора. Один кидал луч вертикально вверх, другой шарил по горизонту: сигналили самолетам, идущим ночью со стороны моря. Минут через двадцать прямо по курсу мы увидели такой луч, устремленный к небу.
– Молодец, штурман! – сказал Скрыльников.
На аэродром наш экипаж пришел последним, минут на сорок позже предпоследнего. Все остальные успели проскочить метеофронт до того, как он надвинулся на берег и закрыл путь на Кавказ. «Баня» досталась нам одним. [128]
Последний полет
Накануне у нас произошло ЧП: в Севастополе остался штурман Саша Красинский. Нелепый случай.
В Краснодаре перед вылетом пришел работник штаба с пачкой писем, сказал летчикам:
– Просили передать в Севастополь. Другой возможности у нас нет.
– А вы знаете, что там сейчас творится? – не очень любезно отозвался командир экипажа.
– Знаю, но, понимаете… просили.
Красинский, который стоял в стороне, прислушиваясь к разговору, подошел, взял пачку:
– Может, эти письма, – сказал он, – сил людям прибавят, жизнь спасут! – и положил их в летный планшет.
В Севастополе Саше советовали:
– Отдай письма матросам, пусть передадут.
– Нет, – сказал Красинский, – я должен передать их в штаб. А то еще затеряются.
Он вылез из самолета, пробрался через двойное оцепление моряков и исчез в толпе.
Назад он не вернулся. Экипаж прождал его полчаса, больше нельзя было: в самолете лежали раненые. Не возвратился Саша и к следующим самолетам.
Экипажи были предупреждены: сегодня, в ночь на первое июля, на Херсонесе всем искать Красинского. Но обстоятельства сложились так, что искать его не представилось никакой возможности. Линия фронта проходила сразу за аэродромом. На Херсонесе скопилось много раненых. Корабли уже не могли заходить в бухту, а самолеты не в состоянии были забрать всех. Создалась трагическая обстановка.
По самолетам, заходящим на посадку, немцы палили не только из пушек, но доставали уже и из пулеметов и зенитных автоматов. Били, что называется, в упор. А наши в ответ больше молчали: не было боеприпасов. Только темная ночь спасала нас от неминуемой гибели. До сих пор не пойму, как немцы тогда не сбили ни одного «Дугласа»…
Для меня этот полет в осажденный Севастополь был шестнадцатым (в пяти случаях мы успевали за ночь слетать дважды). Как только мы приземлились, руководитель полетов приказал Скрыльникову отрулить к пустому капониру, который прикрывал бы самолет от огня противника с востока, а экипажу укрыться. И сразу двойное кольцо [129] матросов охватило «Дуглас» вместе с капониром. Аэродром гудел не только от непрерывного артобстрела, но и от взволнованных голосов людей, которые стекались сюда из города и со всех секторов обороны. Каждый стремился попасть в самолет, и сдержать такую массу людей морякам было нелегко.
Разгрузили «дуглас» быстро. Но распоряжения на погрузку раненых не поступало.
– Ждите! – последовал приказ.
Аэродром в эти минуты напоминал ад: без конца рвались снаряды и мины, дымный воздух прорезали бесчисленные трассы пулеметных очередей, от взрывов стонала земля. Бой уже гремел сразу за границей аэродрома.
Время шло. Скрыльников заметно нервничал: в любую минуту снаряд мог угодить в самолет. Он несколько раз ходил к дежурному по полетам в соседний капонир, но ответ был тот же: ждите. На аэродроме к этому времени не осталось уже ни одного исправного самолета, все ушли на Кавказ, наш был последним.
Мы еще не знали, что в тот вечер Ставка Верховного Главнокомандования разрешила командованию СОР оставить Севастополь, поручив руководство оставшимися на Херсонесе войсками генерал-майору П. Г. Новикову…
Уже далеко за полночь к капониру подошла группа людей, перед которой сразу расступилось оцепление. Я узнал командующего Черноморским флотом Ф. С. Октябрьского, члена военного совета флота Н. М. Кулакова, командира нашей 3-й Особой авиагруппы полковника Г. Г. Дзюбу. Других я не знал, да и некогда было разглядывать.
Когда все забрались в самолет, кто-то спросил у полковника Дзюбы:
– Где Михайлов?
– Он остался принимать самолеты.
– Какие самолеты?!
Я даже вздрогнул. Михайлов! Наш комиссар остался! Но времени на раздумья не было, моторы уже запущены. Поступила команда: «Взлетать немедленно!»
Через минуту мы были в воздухе. Члены экипажа «Дугласа» не знали Михайлова и на реплику Дзюбы не обратили никакого внимания. Я же никак не мог успокоиться: остался на «пятачке» Херсонеса наш славный комиссар, человек, которого черноморские авиаторы не просто хорошо знали, а горячо любили – за чуткость, внимание к людям, за то, что он, комиссар, в трудные минуты оказывался [130] за штурвалом самолета, личным примером показывая, как надо бить врага… И вот теперь он остался. Как же так?
В Краснодаре мы узнали: в эту ночь лишь 13 самолетов произвели посадку благополучно, доставив 24 тонны боеприпасов и 232 человека командного и летно-технического состава. Остальные 7 «дугласов» заблудились в неспокойном после прохождения метеофронта море, не нашли Севастополь и возвратились на Кавказ. Саши Красинского среди вывезенных не было. Горькая, обидная потеря!
Больше «дугласы» в Севастополь не пошли.
За одиннадцать ночей Московская авиагруппа особого назначения произвела 229 боевых вылетов, доставила осажденным более 200 тонн боеприпасов и продовольствия, вывезла 1542 раненых, 630 человек летно-технического состава и эвакуированных, 12 тонн специального груза.
Небольшой была наша помощь защитникам Севастополя, но ведь и море состоит из отдельных капель.
…В тот же день мы распрощались с летчиками МАОН и возвратились в Геленджик. Нерадостные вести ждали нас. В Севастополе немцы подошли к границе Херсонесского аэродрома, к позициям 35-й батареи береговой обороны, расположенной рядом с маяком, на самом конце севастопольской земли. В ночь на 2 июля, расстреляв все снаряды, команда взорвала батарею, а ее бойцы влились в ряды оборонявших Херсонес. Ночью к Херсонесу подходили тральщики, морские охотники, подводные лодки, которые подбирали бойцов, уходивших в море на лодках, плотах, а то и вплавь.
Вечером из Геленджика в Севастополь вылетело два больших гидросамолета ГСТ. Экипажам было приказано произвести посадку в море, возле Херсонесского маяка, забрать оттуда Михайлова и других летчиков, не успевших эвакуироваться, особенно раненых. Мы с волнением ждали возвращения самолетов. Никто не уходил с аэродромной площадки. Наконец перед рассветом послышался гул моторов, а затем мы увидели и миганье сигнальных огней. Самолеты, один за другим, подрулили прямо к берегу, ткнулись носами в гальку. Прозвучала команда:
– Принимайте раненых!
Все бросились к самолетам, прямо в воду, стали выносить раненых. Потом спрыгнули члены экипажей. Штурманом на одном из самолетов летал Ваня Ковальчук. Он и поведал мне о последних часах жизни комиссара Михайлова. [131]
…В группе командиров, шедших по живому коридору к самолету Скрыльникова, Михайлов был замыкающим, последним. До «Дугласа» оставалось несколько шагов, когда к Михайлову кинулась женщина с ребенком на руках.
– Возьмите хоть его, чтобы гадам не достался! – крикнула она, протягивая малыша.
Михайлов остановился, посмотрел на женщину, на ребенка, и, уступая им дорогу, сказал матросам:
– Пропустите!
– Товарищ комиссар!…
– Я остаюсь для приемки самолетов, – спокойно ответил он.
Михайлов знал, что самолетов больше не будет, знал, что остается на «пятачке», с которого вряд ли удастся выбраться живым. Но знал и другое: в такой обстановке слово старшего командира значит для остающихся бойцов очень много. И уступил дорогу жизни женщине с ребенком.
Когда улетел самолет, Михайлов собрал моряков, летчиков, бойцов – всех, у кого было оружие и кто был способен драться с врагом. Приближалось ясное летнее утро, но именно оно, утро, сулило новые бешеные наскоки врага. Комиссар обратился к бойцам:
– Ночью будем пробиваться в горы, к партизанам. Но для этого надо продержаться еще один день.
Раненые рассказывали, что это был день ада. Фашистские самолеты пикировали, бомбили и обстреливали безнаказанно, потому что наших истребителей в воздухе уже не было. Артиллерия врага «перепахивала» каждый метр аэродрома. Но когда гитлеровцы в очередной раз кидались в атаку, их встречал дружный огонь.
Выстояли севастопольцы и в этот день! А когда наступил вечер, Михайлов с автоматом в руках повел группу на прорыв. Дважды моряки бросались врукопашную, но пробиться не могли – слишком неравными были силы.
Оставив раненых в землянке, вырытой в высоком обрыве берега, Михайлов повел бойцов на прорыв в третий раз. Падали убитые на каменистую землю, но живые пробивались вперед. В последнюю минуту, когда уже брешь была пробита, у ног комиссара разорвался снаряд. Он успел крикнуть:
– Вперед, братцы!
А может, он произнес эти слова еще до того, как разорвался снаряд… [132]
Враг в Севастополе. Мы понимали это, но примириться не могли. И вот сообщение Совинформбюро: «По приказу Ставки Верховного Главнокомандующего наши войска оставили город Севастополь…» Слова падают, как тяжелые камни, болью отзываются в сердце.
Мы стоим у репродуктора тесной группой, объединенные общим горем, слышим знакомый голос Левитана: «Сколь успешно выполнил Севастопольский гарнизон свою задачу, это лучше всего видно из следующих фактических данных. Только за последние 25 дней штурма Севастопольской обороны полностью разгромлены 22, 24, 28, 50, 132-я и 170-я немецкие пехотные дивизии и четыре отдельных полка, 22-я танковая дивизия и отдельная мехбригада, 1, 4-я и 18-я румынские дивизии и большое количество частей из других соединений. За этот короткий период немцы потеряли под Севастополем до 150 тысяч солдат и офицеров, из них не менее 60 тысяч убитыми, более 150 танков, до 250 орудий. В воздушных боях над городом сбито более 300 немецких самолетов. За все 8 месяцев обороны Севастополя враг потерял до 300 тысяч своих солдат убитыми и ранеными. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели же – руины»…
…Прошли годы, десятки лет. Многое стерлось из памяти, но тот горестный день остался со мной навсегда. Словно это было вчера, вижу бледное, с дрожащими губами лицо Дмитрия Кудрина, окаменевший взгляд Евгения Акимова и слезы Николая Астахова. Балагур и острослов Астахов стоял онемевший, из его глаз одна за другой катились по щекам крупные слезы, он не замечал их…








