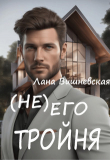Текст книги "Дверной проем для бабочки"
Автор книги: Владимир Гржонко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Владимир Гржонко
Дверной проём для бабочки
Посвящается Наталье Вернадской
Прелюдия
В тот день мисс Оффенбах неторопливо прогуливалась по Центральному парку, предаваясь приятным размышлениям. В этот послеполуденный час парк казался относительно безлюдным, но прохожих было вполне достаточно, чтобы мисс Оффенбах не чувствовала себя одиноко и неуютно. Она всегда гуляла в парке в это время суток. Мисс Оффенбах прошла по центральной аллее и спустилась по ступенькам к озеру – конечной цели своей прогулки, чтобы, как обычно, понаблюдать за двумя забавными белыми лебедями. Мисс Оффенбах, следуя правилам, лебедей никогда не кормила, но они всё равно всегда подплывали. Лебедь, которого мисс Оффенбах определила как мужскую особь и называла Карлом, обычно косил в её сторону маленьким пуговичным глазом, сразу же начинал поводить своей длинной шеей, будто рукой, и совсем не по-лебединому многозначительно покряхтывать. Мисс Оффенбах находила в этих движениях самца-лебедя что-то неприличное – какой-то двусмысленный подтекст, не подобающий в обращении к незамужней даме. Тем более что к лебедю тут же присоединялась его подруга, названная мисс Оффенбах Кларой, и старалась оттеснить самца от кромки берега. А если не удавалось, то она, с совершенно неприкрытой злобой, начинала клевать отражение мисс Оффенбах в зеленоватой воде. Отражение становилось каким-то неряшливым, опасно нечётким, можно сказать, даже вульгарным. Однажды мисс Оффенбах увидела себя в воде не совсем одетой, чуть ли не голой, бесстыдно двигавшей бедрами, и она поспешно отпрянула в сторону, поправляя блузку и отвороты жакета. И ещё ей тогда показалось, что ревнивая Клара удовлетворенно и радостно посмотрела на неё и захлопала крыльями, окончательно разбивая неприличную картинку на тысячу мелких брызгов-осколков.
Но всё равно мисс Оффенбах часто навещала лебедей, если позволяла погода: в глубине души она была польщена и поведением Карла, и ревностью злой Клары. Мисс Оффенбах даже сама не могла бы сказать, кому из этой занятной парочки она симпатизирует больше. Конечно, для Карла, как особи мужского пола, вполне естественно проявить интерес к женщине. Но и лебедиха Клара была совершенно вправе негодовать и, возможно, даже наказывать беспутного друга за легкомыслие. Разумеется, мисс Оффенбах и сама была приличной девушкой и поэтому ничего такого Карлу никогда бы не позволила. Нет, ну конечно, всё это забавно, несерьёзно. Никак не более! Но то, как встречала её лебедиха Клара, как била по воде красноватым клювом, странным образом вовлекало мисс Оффенбах в мир этих красивых и независимых птиц…
Сегодня ей показалось, что кривляния лебедя Карла стали совсем уже неприличными и похожи на приглашение. Может быть, и потому ещё, что лебедиха Клара куда-то запропастилась – и так и не появилась. А лебедь Карл совсем распоясался: делал шеей откровенные движения и привставал в мелкой воде, окуная трепещущий хвост и выгибая грудь.
К счастью, на площади не было ни души, хотя, конечно, мисс Оффенбах всё равно ужасно смутилась. Забыв о здравомыслии и едва не замочив ботиночки, она шагнула вперёд, желая только одного – пнуть наглого Карла и таким образом усовестить. Но в тот момент, когда она уже почти дотянулась до него рукой, подлый Карл вдруг сам ринулся на мисс Оффенбах. От неожиданности она очень испугалась, резко выпрямилась и попыталась отступить назад. Но не успела. Лебедь Карл налетел на неё, сверкнул глазом и, изогнув в последний раз шею, изо всех сил клюнул мисс Оффенбах прямо между ног! От ужаса она, наверное, потеряла сознание. Иначе как объяснить то, что сразу вслед за пронзительной болью мисс Оффенбах почувствовала где-то внутри себя короткий толчок, потом ещё один… А потом началось что-то совсем уж невероятное, что никакими приличными словами и описать невозможно. Ей почудилось, что она лебедиха Клара и летит под неведомо откуда взявшуюся быструю и лёгкую музыку, высоко над землёй, и потом вдруг падает, и всё обрывается внутри, а музыка падает вместе с ней… Все это длилось и длилось, хотя мисс Оффенбах уже понимала, что никуда не летит, а так и стоит у воды, с трясущимися коленками и влажным лбом. И лебедь успел куда-то спрятаться. Но музыка всё звучала и звучала. Быстрая, до дрожи щекотная мелодия… А-а, – подумала мисс Оффенбах, – а-а-а! Она вдруг почувствовала себя почти невесомой, как будто этот мерзавец Карл разбил внутри её тела какую-то привычную чугунную тяжесть. И только когда ноги окончательно замерзли и мисс Оффенбах сделала шаг назад, она сообразила, что музыка существует не вообще в пространстве, как казалось раньше, а действительно звучит где-то за её спиной. Мисс Оффенбах медленно обернулась.
В самом центре совершенно пустой площади, у неработавшего фонтана, не обращая внимания на отсутствие слушателей, играл на скрипке странно одетый молодой человек. Как водится, у его ног лежал раскрытый скрипичный футляр, где под неярким солнцем жалко поблескивало несколько монет. Именно его музыку и слышала бедная мисс Оффенбах! Одинокий, но сильный звук скрипки наполнял пустое блюдце небольшой площади. Во всяком случае, именно так показалось мисс Оффенбах. Она растерянно шагнула поближе к музыканту, поймав себя на мысли, что если музыка оборвется, то вместе с ней исчезнет и это блаженное состояние легкости, а разбитый чугун вернётся на прежнее место.
Стыдно признаться, но до этого момента музыка не играла в жизни мисс Оффенбах совсем никакой роли. Она, конечно, слышала популярные мелодии, несколько раз бывала в опере и всё же к музыке оставалась достаточно равнодушной. Из-за полного отсутствия музыкального слуха все мелодии казались ей похожими одна на другую. Когда же её спрашивали, какую музыку она предпочитает, то она, улыбаясь, отвечала, что тихую. Она действительно не любила громких звуков.
Подойдя к музыканту поближе, мисс Оффенбах разглядела потёртую бархатную курточку, из-под которой выглядывали желтоватые кружева жабо, короткие до колен штаны, белые несвежие чулки и какие-то почти женские остроносые туфли. На голову был надет белый свалявшийся парик с косичкой. Что только не придумают, чтобы заработать, – жалостливо вздохнула мисс Оффенбах. И почувствовала себя неловко. Обычно, отправляясь на прогулку, она из предосторожности не брала с собой сумочку и, следовательно, не могла сейчас положить в футляр несчастного скрипача даже мелкую монету.
Музыкант, не прекращая играть, вдруг посмотрел прямо в глаза мисс Оффенбах. Она совсем смутилась; щёки под слоем пудры горели, но она чувствовала, что уйти не может. Это было бы очень невежливо – оставить его на круглой площади у фонтана в одиночестве.
А музыкант легкомысленно улыбнулся, подбородком поправил скрипку и заиграл что-то новое, неожиданно медленное и грустное. Мисс Оффенбах, к своему удивлению, продолжала стоять и слушать, понимая, что теперь скрипач играет для неё. Она даже забыла про нелепость ситуации – про то, что застыла прямо напротив этого молодого мужчины с глупой улыбкой на лице. Наконец музыка закончилась, скрипач расслабленно опустил инструмент, рукой со смычком потер подбородок и весело рассмеялся.
– Любите Моцарта? – просто, будто у старой знакомой, спросил он. Мисс Оффенбах растерялась: она не помнила, кто такой Моцарт. Наверняка речь шла о композиторе, но ведь могло оказаться, что так звали и самого парня. Она неопределенно кивнула. Музыкант перестал улыбаться, хмыкнул и поправил сбившееся набок жабо.
– Я теперь редко играю для публики. Особенно на улицах. Почти никогда. Кому сегодня нужен Моцарт? Но здесь, на площади, замечательная акустика… Мне и захотелось сыграть для себя, а теперь вот случайно и для вас…
Мисс Оффенбах вдруг почудилось, что музыкант совсем не молод и не весел, а наоборот, очень стар, грустен и темен лицом. Она ещё больше пожалела бедного скрипача и представила его голодным и больным. От сочувствия ей даже захотелось дотронуться до рукава его нелепой курточки. Обычно трезвая и здравомыслящая, сейчас мисс Оффенбах сама себя не узнавала: такой трепетной, как будто раскинувшей чуткие лебединые крылья над площадью и озером, показалась ей собственная душа.
– Вот вы, вы меня понимаете, – вдруг горько сказал музыкант, и мисс Оффенбах почувствовала, что и действительно понимает его. И это тоже было очень непривычно, потому что она совсем не понимала мужчин, да еще таких – нелепо одетых уличных музыкантов.
– А жена у меня, – опять улыбнулся скрипач, – только и делает, что стирает… Всё время стирает… Зачем? Не знаю. И зачем она мне, тоже не знаю. Знаю только, что каждая женщина – нота…
Мисс Оффенбах представила себе жену музыканта похожей на лебедиху Клару, которая плавает в ванне, полной мыльной пены. И это почему-то не показалось ей странным. А музыкант стал рассказывать и вовсе непонятное: про чей-то дар, тяжкий и сладкий, про струны, уходящие в небо, про настоящую музыку, не слышную обычным ухом… Удивительно: мисс Оффенбах, хоть и не понимала ничего, но ясно видела всё то, о чём он говорил! Наконец музыкант вздохнул, прижал подбородком скрипку, закрыл глаза и снова заиграл. И душа мисс Оффенбах еще шире раскинула крылья, топорща перья-ощущения. Ей даже захотелось, чтобы проклятый лебедь ещё раз клюнул ее. Тогда она, наверное, полетела бы снова. Туда, где, по словам музыканта, день соединяется с ночью нитями струн с подвешенными на них нотами-человечками – нитями, по которым свет – Великий Дар дня – переливается в предназначенный для этого сосуд ночи… Это было так непонятно, но так красиво!
Он играл ещё долго, временами открывая глаза, как будто для того, чтобы убедиться: мисс Оффенбах всё ещё здесь, всё ещё слушает его. И она слушала – и думала о том, что всё в этом мире устроено удивительно; что самое постыдное и нелепое, вроде удара-клевка гадкого лебедя, неожиданно может оказаться таким прекрасным. И уже без стеснения смотрела на музыканта.
Ночь для мисс Оффенбах прошла совершенно отвратительно, чего никогда ещё не случалось в ее размеренной жизни. Сильно ныло внизу живота: она даже подозревала синяк или ссадину, но взглянуть отчего-то не решилась. Вдобавок в полусне у нее возникло ужасное чувство чего-то недополученного или безнадежно упущенного. Почему-то виноваты в этом были и лебедиха Клара, и всё время занятая стиркой жена музыканта. Мисс Оффенбах поняла, что днём ушла из парка слишком поспешно, и от этого душа её уронила бессильно свои лебединые крылья… К рассвету она не выдержала, оделась и, поражаясь собственной отчаянности, отправилась в парк, к озеру. Пусть это сумасшествие, да, но имеет же она право хоть на один невероятный поступок в жизни? Иначе может быть поздно…
У самой воды было уже почти совсем светло. Мисс Оффенбах сразу увидела лебедей, дремлющих в камышах неподалеку. Она тихонько подкралась поближе, сняла обувь и осторожно ступила в холодную утреннюю воду. Когда вода была ей почти по колено, а до лебедей оставалась пара шагов, Карл и Клара одновременно вздрогнули, вытянули из-под крыльев змеиные шеи и, не двигаясь, уставились на неё колючими глазками. Мисс Оффенбах робкой рукой раздвинула жидкие камышины, наклонилась и тоже неподвижно смотрела на птиц. Взгляд лебедя Карла был сонным, но, кажется, он приятно удивился и даже восторжествовал. Лебедиха Клара следила за ней настороженно и недобро. А когда мисс Оффенбах решилась сделать ещё один шаг, то шея Клары дрогнула, изогнулась, темный клюв приоткрылся, и мисс Оффенбах услышала тихое противное шипение.
– Клара, – шепотом сказала мисс Оффенбах, – я же совсем не за этим пришла. Я пришла к тебе, глупая ревнивица.
Она покосилась на настороженного Карла, снова вспомнила летящую томительную музыку, скрипача, его лебедеподобную жену, тяжело вздохнула и потянулась погладить Клару. Но злая птица выскользнула из-под ладони и небольно, но совершенно издевательски ущипнула мисс Оффенбах за руку.
– Ай, – погромче сказала мисс Оффенбах, – ты же стирать должна, а не кусаться. Может, потому у музыканта грязный камзол, что ты кусаешься, а не стираешь? Он же гений, у него дар… Мне бы твои крылья!
Тут лебедь Карл оживился, с довольным видом подобрался поближе к мисс Оффенбах и коротко крякнул. От его голоса у мисс Оффенбах опять заныло укушенное днем место, но она не обратила на это никакого внимания.
– Я тоже нота, – упрямо сказала она, глядя на лебедиху Клару, – и тоже хочу увидеть эти струны, связывающие день с ночью. Понимаешь? Я, наверное, замечательная нота. Только раньше об этом не знала. И теперь мне тоже нужна струна. За этим я и пришла.
– На-ш-ш-лась тут! – прошипела ей в ответ Клара-жена и снова, уже больнее, ущипнула мисс Оффенбах. – Ух-ходи! Ух-ходи, давай!
Мисс Оффенбах стало очень обидно. Она наклонилась к Кларе, но тут лебедь Карл не выдержал, гоготнул и, неожиданно толкнув мисс Оффенбах, опрокинул её на спину в мутную от тины воду. Руки мисс Оффенбах в поисках опоры глубоко, по локоть, ушли в липкий ил, а лебедь Карл воспользовался этим и стал сильно, как накануне, бить её клювом между ног. Но сейчас, когда не было никакой музыки, а была мгновенно намокшая юбка, совсем не защищавшая от ударов, мисс Оффенбах почувствовала, что вот-вот умрет от боли, холода и унижения. И всё же успела заметить, что красные глазки жены-лебедихи смотрят на неё с жадным, безжалостным любопытством. Мисс Оффенбах кое-как умудрилась оттолкнуться от дна и с усилием рывком подняться на колени. Увлекшийся лебедь Карл даже не заметил этого, и мисс Оффенбах удалось схватить его черной от ила рукой за белую прохладную шею, прямо под клювом – так крепко, что она почувствовала, как неистовствует горячая жилка.
– Ещ-щ-щё бы! – прошипела лебедиха, злобно посмотрела на извивающегося Карла и тоже бросилась на мисс Оффенбах. Вторая лебединая шея оказалась безнадежно запачканной черным илом. Обе птицы забились, захрипели и, ударяя мисс Оффенбах сильными крыльями, забрызгали грязной водой лицо. Эти крылья ужасно мучали её, заставляли ещё сильнее сжимать тонкие хрупкие шейки, напоминавшие сейчас натянутые, трепещущие, столь вожделенные и ненавидимые ею струны. Потому что не было у мисс Оффенбах ни крыльев, ни струн, ни сосуда, ни света. Потому что сама она, оказывается, всего-навсего глухая, ненужная, несыгранная нота… И мисс Оффенбах заплакала. Наверное, впервые в жизни.
…Когда лебеди перестали биться, мисс Оффенбах с ужасом обнаружила, что белые птицы стали черными. А-а, – беззвучно закричала мисс Оффенбах, – а-а-а! Она выпустила из рук обмякшие неживые шеи, и лебеди неуклюже опрокинулись набок. Мисс Оффенбах передернуло, и она медленно, всё время оглядываясь на нелепо замерших птиц, поползла через камыши на берег.
Глава первая
С днями рождения всегда происходит невероятная путаница. Если вдуматься, то тридцать третий день рождения означает тридцать четвертую годовщину твоего появления на свет. Или это не так? А может быть, процедура разрешения от бремени столь неаппетитна, да и сам новорожденный – лиловый и скользкий – столь малопривлекателен, что не только родителям, но и родственникам гораздо проще и приятней чествовать розовенького и пухлого годовалого бутуза. Отсюда, наверное, и путаница в датах.
Как бы там ни было, Билли МоцЦарт, отдаленный, но совершенно прямой потомок великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, не любил свой день рождения. Эта нелюбовь отчасти была отголоском давнего детства. Дедушка, мистер МоцЦарт-старший (именно он зачем-то переделал известную фамилию на шотландский лад), увлекшийся на старости лет никчёмными поделками, подарил трёхлетнему Билли собственноручно изготовленный картонный домик с настоящими и очень хрупкими оконными стёклами. В том, что стёкла были настоящими, Билли тут же и убедился. Дед хмуро посмотрел на порезанный пальчик с яркой капелькой крови, отвернулся и с тех пор никаких подарков не делал. Отец, мистер МоцЦарт-младший, однажды решив, что подарил Билли более чем достаточно, а именно жизнь, такими «пустяками», как дни рождения сына, не интересовался никогда. Свою мать Билли помнил очень смутно: она исчезла, когда он был совсем маленьким.
Сестра отца тётка Эллен – невысокая худенькая женщина с круглым лицом толстушки – обычно недоумённо приподнимала тонкие брови и объясняла, что мать уехала по делам. И тут же отсылала его к роялю (надо ли говорить, что Билли с рождения была уготована судьба великого музыканта?). Точно так же недоуменно она округляла и без того круглые глаза, когда Билли интересовался, почему ему нельзя спать в одной постели с горничной, или что за странную резиновую штуку почти ежевечерне выносят из тетушкиной спальни, после чего она сама, не по годам быстро, бежит в туалетную комнату. И почему, например, ему нельзя отпраздновать день своего рождения… Тогда Билли думал, что это не он задает все эти неприличные вопросы, а они кружатся в воздухе сами по себе, выписывая петли вокруг тёти Эллен, время от времени присаживаясь то на ее большой нос, то на подбородок. Билли казалось, что промолчать было бы даже невежливо, как нехорошо и невежливо не заметить случайно попавший в чужую тарелку кусочек пластилина. К десяти годам Билли обнаружил, что неудобные вопросы кружат и вокруг него тоже, и понял, что, как мухи к подгнившим фруктам, такие вопросы слетаются ко всем. кому есть что скрывать. Больше Билли никогда не расспрашивал тётку о матери, хотя догадывался, что с её исчезновением связана какая-то неприятная или неприличная история.
Он перестал дружить с мальчишками в своем классе, у которых, вероятно, не было тёти Эллен, и поэтому они не только засыпали Билли нехорошими вопросами, но и придумывали ещё более отвратительные ответы. А когда потом в школе докопались, что он дальний, но совершенно прямой потомок великого композитора… В общем, Билли МоцЦарт очень не любил многие вещи и в том числе свой собственный день рождения…
Билли уныло сидел на кровати и смотрел в окно на Центральный парк. С семнадцатого этажа ухоженный парк казался диким лесом. Билли подумал, что вот уже много лет этот лес представляется ему по утрам заманчивым и волшебным, а в темноте, освещаемый редкими, по-вечернему приглушенными фонарями, – жутковатым и непредсказуемо недобрым. Он слышал множество страшных и, наверное, не очень правдивых историй о том, что происходит в парке с наступлением сумерек. Иногда по ночам Билли специально подходил к огромному, во всю стену, окну у себя в спальне и вглядывался в тёмный прямоугольный провал в никуда, похожий на дочерна сожжённый пирог посреди бессонного, расцвеченного огнями города. И представлял себе все те мерзкие и жестокие, почти фантастические вещи, которые, может быть, творятся где-то там, внизу, в эту самую минуту. Но отсюда, из безопасной спальни, ночной парк смотрелся хоть и страшноватым, но привлекательным, словно престарелая проститутка у фонаря, которая привлекательна не сама по себе, а только как воплощение греха и преодолённого запрета.
Билли глубоко задумался и совсем забыл о том, что его ждёт отвратительный день. Но всплеск воды за стеной – казалось бы, совершенно мирный звук – заставил его вздрогнуть и отвернуться от окна. Сегодня, в его тридцать третий день рождения, ему предстояло множество неприятных дел. Билли встал, слегка поёжился, покорно надел махровый халат и открыл дверь в смежную со спальней комнату. Там всё было так, как обычно бывало по утрам: в большом неправильной формы бассейне плескалась новенькая – Изабелла, а у входа в зимний сад стояла неизменная тётушка Эллен в длинной байковой ночной рубашке с накинутым на плечи пледом. Они вернулись в спальню, тётка, не расставаясь со своей утренней чашкой кофе, повозилась с ключами и наконец кивнула:
– Пять минут, дорогой мой!
Билли скинул халат и, выбежав обратно к бассейну, торопливо полез в воду, к помахавшей ему рукой Изабелле. Тётушка громко фыркнула в чашку, и этот – такой неожиданный в гулком помещении – звук, казалось, подтолкнул Билли в спину. Он сделал глубокий вдох и сразу же поплыл к дальнему краю бассейна, глядя на мозаичное дно. Ничего не изменилось, подумал он, и никогда не изменится. Хотя, конечно, сама по себе эта короткая ежеутренняя свобода всё равно хороша…
Он добрался до бортика, неуклюже развернулся и поплыл обратно. Где-то на середине бассейна его догнала Изабелла, поднырнула под него и засмеялась под водой, отчего сразу стала похожей на объевшуюся мыла лягушку. Билли не очень любил бассейн, он вообще не любил воду, и эта проказница Изабелла была ему сейчас просто невыносима. Впрочем, предыдущая девица, Диана, тоже любила баловаться в воде. Хотя та была широкобедрой, с большой, на удивление крепкой грудью; а Изабелла, наоборот, тоненькая и плоскогрудая. Только соски были большими, тёмными, продолговатыми и выпуклыми. Но вот что странно: на обеих столь непохожих друг на друга девиц он реагировал одинаково. Наверное, потому, что редко заглядывал им в лицо. Внизу живота заныло, и Билли счел себя вправе не доплывать до ступенек. Он опустил ноги на дно и смахнул с лица брызги.
Изабелла уже сидела на бортике бассейна и болтала ногами. Капли воды на ее грудях почему-то не падали, а покачивались и сверкали в тёплом свете боковых ламп. Билли даже показалось, что Изабелла – конечно же, весьма легкомысленная особа – умудрилась сегодня, в его честь, повесить на свои соски бриллиантовые сережки. Наверное, это было игрой воображения. Он почти уже вылез из воды, когда Изабелла вдруг резко вскочила – он заметил, что она вообще все делала порывисто – и, взвизгнув, убежала. Билли взглянул на появившуюся в дверях тётушку. Та закивала головой и показала ему большой секундомер, который держала в руках.
– Пять минут ровно, можешь мне поверить, ровно пять.
Билли кивнул головой, ещё сам не понимая, доволен ли он тем, что время уже вышло, или разочарован. Тётушка демонстративно смотрела в сторону. Ну-ну, подумал Билли, какая разница. И побрёл под душ. В прошлый раз Изабелла долго вытиралась, и, только когда он ухватился мокрой рукой за край полотенца, приподнялась на цыпочки и набросила это полотенце ему на голову. Пока Билли разбирался с тяжёлой мокрой тканью, Изабелла, конечно, исчезла. Но сегодня Билли показалось, что она смотрела… Ну, в общем, пока он, как дурак, разглядывал ее грудь… Да какая разница! Тем более что сегодня день его рождения. Наверное, Изабелла знает об этом. Или не знает?
Билли вылез из душа, оделся и спустился вниз, в столовую. Длинная анфилада комнат заканчивалась библиотекой со старым камином, похожим на раскрытый от изумления рот. Большие серые булыжники, из которых был сложен камин, казались Билли морщинами на этой навсегда удивлённой физиономии. Иногда камин напоминал ему лицо отца, тоже очень удивлённое, когда много лет назад отчаявшийся преподаватель музыки сообщил ему, что у Билли МоцЦарта совершенно нет музыкального слуха. И поэтому продолжать заниматься его музыкальным образованием было бы по меньшей мере… м-м-м… нецелесообразно. И – вот любопытно! – этот разговор состоялся тоже в день его, Билли, рождения. Что происходило дальше вспоминать совершенно не хотелось, тем более что сегодняшний день и без того обещал быть пренеприятнейшим.
В столовой появилась кузина Матильда, как всегда, и особенно по утрам, всем своим видом старательно изображавшая, что мир совершенен и прекрасен, как на картине, висевшей над обеденным столом: яркий солнечный полдень – такой яркий, каким бывает только во сне, – и широкая зеленая улица – тоже, как во сне, безлюдная. Если в этом нарисованном мире чего-то и не хватало, так только самой Матильды… Но вот, впрочем, и она!
– Милая Матильда, – сказал Билли как можно более язвительно, – не сделать ли нам на денёк перерыв? Пусть сегодня будет хмуро и уныло. Нужно изредка менять настроение. Нет, серьёзно: после холода, дождя и слёз…
– Знаю, знаю, солнышко! После плохого хорошее кажется еще лучше, – перебила его Матильда, молодая, полная и не очень красивая женщина. Всё в ней было раздражающе крупным: ноги, руки, груди, черты лица. И всё равно, на нём, этом лице, выделялись большие, пухлые и какие-то нескромные губы. Может быть именно из-за них Билли называл ее «радостной пираньей». Хотя какие губы могут быть у рыбы? И уж по-рыбьи холодной Матильда, конечно же, не была…
– У гения свои представления о мире, – заметила тётушка Эллен, когда он как-то сообщил ей, что при виде кузины ему хочется постучать по стеклу и проверить, не кинется ли Матильда, как рыбка в аквариуме, на поиски корма.
– Может быть, – добавила тётушка, – она тебе кажется русалкой, а у них, говорят, очень даже не холодная кровь… Но если ты завел этот разговор, чтобы выпытать у меня, кто её отец, то извини… Тётушка привычно приподняла брови и удалилась.
Матильда уселась за стол, аккуратно положила ладони на скатерть и ласково улыбнулась. Похоже, она была единственной в доме, кто не воспринимал его всерьёз. Никак она не может привыкнуть… А эти её постоянные подковырки, а смех со значением?! А чего стоит эта её дурацкая привычка называть всех, и его в том числе, «солнышко»?! Эх, дать бы ей, дуре, по голове! Билли вдруг представил себе, что он со всего размаху бьет Матильду. И отчётливо увидел, как, опрокидывая стул и стол, но не теряя при этом своего утренне-радостного выражения лица, она со стуком валится на пол, и её короткая юбка задирается, открывая мощные неженские ляжки… Но даже и после этого Матильда не стала бы относиться к нему по-другому.
– А где мама? – спросила она, не догадываясь, что лежит на полу истерзанная и с пышных губ по-киношному стекает струйка крови. – Всё ещё плещется в бассейне?
– Наверное, – гася разыгравшееся воображение, коротко ответил Билли и уселся в противоположном конце стола, откуда хорошо был виден камин. Появилась Леди с подносом и взглядом спросила, наливать ли Билли кофе.
– И эта тоже дура! – подумал Билли. – Эти бабы сведут меня с ума. Если уже не свели! Каждое утро одно и то же…
Леди, разлив кофе, давно уже ушла, а Билли всё ещё не знал, куда ему девать скопившееся, как кислая слюна во рту, раздражение. Ну да, конечно, – день рождения! В полдень соберутся все эти идиоты, и он будет вынужден снова сесть за рояль и играть!
В его пятнадцатый день рождения профессор консерватории Эпштейн заявил, что даже развившийся путем многочисленных тренировок музыкальный слух и неистовая работоспособность не могут заменить таланта… Категорически не могут! Впрочем, он, конечно же, не считает своё мнение истиной в последней инстанции, потому что в искусстве, как известно… Ничего, сказала тогда тётушка Эллен, всё это ерунда. Прямой, хотя и дальний, потомок великого человека – это, во-первых, кровь, а, во-вторых, есть ещё и другие способы… В нынешние времена в консерваторию могли бы не принять и Самого, что ж говорить о Билли!
Почему, подумал тогда молодой прыщавый Билли, почему его прадед мог быть счастлив и удачлив, разводя кур где-то в Европе; дед играл на нью-йоркской бирже и тоже был вполне доволен жизнью. И успешен в делах настолько, что отцу вообще не оставалось ничего другого, как, скупив чуть ли не половину Манхэттена, внести свой вклад в семейный бизнес, только лишь затруднив себя произведением на свет сына. Почему именно он, Билли, обязан стать продолжателем дела великого музыканта? Какая всё-таки глупость и несправедливость!
Потом произошло очень неприятное и странное событие. Тётка Эллен, подгоняемая ответственностью, взваленной, как она любила повторять, на её слабые женские плечи умершим братом, однажды ворвалась в ванную комнату, где разомлевший и потерявший бдительность Билли сидел на корточках в теплой мыльной воде. Он и сам не понимал, кого именно в тот момент воображал: недавно уволенную горничную; свою маленькую, но уже очень взрослую кузину Матильду; или (сейчас об этом и подумать противно!) худенькую и молодящуюся тётку Эллен. И вот когда эта тётка появилась перед ним в самый-самый момент, он не сразу и сообразил, настоящая ли она или накатывающийся восторг просто материализовал её образ. Никаких хотя бы отдаленно правдоподобных оправданий найти было совершенно невозможно! Какие, к чёрту, оправдания, когда он всхлипнул, дёрнулся, стараясь удержаться на скользком краю пропасти (или это был край ванны?), но не удержался и рухнул в неё (или только плюхнулся в воду?). А на длинном тёмном бархатном халате тёти Эллен появилась неожиданная и предательская капля. Билли сжался в остывшей мыльной пене и почувствовал, что сейчас по-дурацки расплачется. А затем случилось невероятное. Вместо того, чтобы гадливо удивиться, закричать или хотя бы округлить глаза, тётушка слегка сморщила свой невысокий лобик и внимательно и заинтересованно посмотрела на скользящего теперь к другой пропасти – пропасти отчаяния – племянника. Потом неожиданно поставила ногу на бортик ванны, тяжёлые полы халата при этом разъехались, и Билли увидел её белое с синеватыми жилками бедро.
– Да, – задумчиво и как бы обращаясь к самой себе сказала тётушка Эллен, – да, ты уже взрослый. Почему-то эта мысль не приходила мне в голову…
А Билли уставился на эту голую ногу и с ужасом понял, что именно её – свою тётку – он и представлял в своих фантазиях. Но то была воображаемая, несуществующая тётка. А сейчас перед ним стояла живая, настоящая… И, оказывается, у неё такие вот живые, настоящие ноги, и она… Ознобец всё ещё сворачивал его кожу в тугие гусиные комочки, а тётушка уже поправила халат, деловито сняла с бархата позорную каплю, растёрла её между ладоней и зачем-то понюхала кончики пальцев.
– Одевайся, – изрекла она своим обычным тоном, – и сразу иди в мой кабинет. Да, скажи Леди, чтобы она принесла туда горячего чая для тебя и коньяка для меня. Я, кажется, заслужила рюмку хорошего коньяка, да и тебе несколько капель спиртного не повредит.
Сегодня, через столько лет, Билли совершенно не чувствовал себя мучеником идеи, и тем более чьей-то чужой (тётушкиной, например) идеи. Его гениальный предок умер в нищете; и даже, по некоторым сведениям, был отравлен завистниками. Правда, последнее утверждение почему-то передавалось в семье шёпотом… В любом случае необходимость платить за что-то, что, увы, нельзя получить даром, не возмущала Билли, а только огорчала изредка, вот как сегодня, превращалась в раздражение, желание бросить всё это к чёрту. Билли никогда не додумывал эту мысль до конца и потому совершенно не представлял, куда именно он мог бы уйти. Но почему-то его воображение всегда рисовало недобрый ночной Центральный парк, с его мнимыми или настоящими ужасами, как конечную точку, как символ не смерти даже, а чего-то большего, куда не уходят, а во что проваливаются навсегда, без возврата.