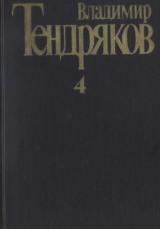
Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. Повести"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Евлампий Никитич вместо отца родного… Что ж…
Чистых-младшийПримерно через год после ареста секретаря райкома в селе Пожары произошел маленький случай.
Иван Слегов приходил по утрам в контору всегда первым. Жена засветло вставала, подымался и он. Она уходила на поля, и он брался за костыли – не любил слушать тишину в доме.
Раз он тащил по росе свои валенки, обремененные галошами. В спину кричали петухи, в лицо дул свежий ветер с реки, клал на крыши дым из труб. Село раскачивалось со сна.
В этот-то ранний час, подходя к крыльцу конторы, он увидел народ: несколько баб, собравшихся на работу, а перед ними, опираясь на стянутую проволокой берданку, картуз сбит на затылок, физиономия победно-генеральская, хотя и давно не брита, стоит, выставив тощее бедро, ночной сторож Кривой Трифон.
– Что за митинг?
Бабы, издали заметившие ковылявшего бухгалтера, все как одна прорвались хором:
– Гостюшки ночные объявились!
– На запашок прискакали!
– А ведь, молоденькие, мо-ло-денькие!
– Не стыдно небось зенками-то лупать…
– Цыц! Закудахтали, бесхвостые! – стукнул о землю треснувшим прикладом Трифон, с вальяжной картинностью отступил. – Глянь-ко, Иваныч, на деле уловил.
На ступеньках крыльца, прижавшись друг к другу, сидели трое, лет по шестнадцати, босые, лохматые, с пугливым онемением мигающие широко распахнутыми глазами. У одного вырван рукав, проглядывает тощее плечо, у другого бархатный синяк под глазом.
– При исполнении мною служебных обязанностей было оказано сопротивление…
– Оно и видно, жизнь подвергал опасности.
– Ну не то чтобы уж жизнь, – заскромничал Трифон. – Это, значит, марширую я мимо старой кузни, не ухо держу востро, службу помню…
Старую кузню Лыков недавно переоборудовал в коптильню. Коптили свиные окорока и грудинку – дело новое, а потому доходное. Туда-то и залезли три охотничка, сломав замок.
Через час их разглядывал исподлобья сам председатель.
Тот, у кого фонарь под глазом, – длинный, узкий, даже сквозь рубашку видно, составлен из хрупких хрящиков, шею пальцем перешибить можно, лицо щекасто, и глаза светло-круглые – совенок.
– Как фамилия? – спросил его Лыков.
– Чистых.
Лыков долго молчал, посапывая.
Он, как и все, знал, что у арестованного Николая Чистых остались жена и сын. Жена, первая в Вохрове модница, в районном клубе, который Лыков помог покрыть железом, играла в спектаклях самодеятельности обманутых девиц, теперь же на железнодорожной станции лопатой-грабаркой чистила шлаковые ямы. Что делал сын? Кто этим интересовался. Выходит, промышлял.
– Хочешь стать человеком?
Парнишка заплакал.
Чувствовал ли Евлампий вину за отца или просто пожалел сироту? Неизвестно. Но на полевые работы он парня не послал.
– Хлипок, долго не выдюжишь, сбежишь. Снова начнешь щупать замки. Ты сколько классов кончал?
– Восемь.
– Грамота есть. Будешь помогать избачу. Нам так и так культурные штаты расширять надо.
Валерка Чистых получил на харчи пятнадцать трудодней в месяц, угол в доме одинокой Клювишны (Михайло Чередник пристроился к одной вдовушке) и уличное прозвище – Приблудный.
С первых же дней он отличился примерным старанием: сам полы мыл в читалке, ни одна газета не стала уходить по рукам на раскурки – подшиты, пронумерованы, спрятаны под замок, во всем полный порядок. Но старание-то обычно замечается в поле или на скотном дворе, там за это лишний трудодень подкидывают. В избе же читальне хоть из кожи вон лезь, а особой награды не жди – назначено тебе пятнадцать трудодней в месяц, получи и не гневайся, так как новых центнеров хлеба, новых литров молока твое старание не приносит. Газетки бережешь, эка заслуга – ты в колхозном стаде яловая корова. Избач – самая бесперспективная должность, попробуй тут обратить на себя внимание.
И надо же, Валерка Приблудный обратил…
Сам ли додумался, или откуда-то из газет выудил идейку – никто не дознавался. Идея нехитрая: следует собирать материал по истории колхоза. Колхоз-то со славой, сколько о нем сейчас трубят, в прошлом трубили, а ведь покричат да забудут, а зря.
Своя история… Всем это понравилось, а больше всех Евлампию Лыкову.
И сразу Валерка Приблудный стал полезен, не так, как, скажем, доярка, конюх или плотник, нет, конечно, но все-таки… Не зря же вспомнили: полтрудодня на сутки получает, не густо, у ночного сторожа Трифона Кривого заработок куда больше, давайте-ка ставить парню «палку». «Палка» на день, целый трудодень – можно уже не только быть сытым, но, поднатужившись, скопить деньжат на новые сапоги.
Решением правления Валерке выделили даже особый фонд – конечно, копеечный – «на восстановление утраченных материалов по истории колхоза». Впрочем, Валерка этими фондами не смел пользоваться, пешком бегал в Вохрово, целыми днями сидел в районной библиотеке, ворошил подшивки старых газет – те, что до его прихода были раскурены из читалки, – искал статьи, где хвалили колхоз «Власть труда». Газеты он обычно «изымал», если не удавалось тайком изъять, сговаривался с машинисткой и перепечатывал. Все материалы он складывал в особую папку.
Конечно, Валерка сообразил, что Евлампию Никитичу не столь уж интересно будет видеть материалы, где его не упоминают. Поэтому история начиналась с Евлампия Лыкова.
По сей день существует почетная должность колхозного историка, совмещенная для экономии с должностью библиотекаря. Толстые папки с историческими документами ныне хранятся уже не в простом шкафу, а в специально купленном сейфе. Однако этот сейф охотно открывается любому, кто проявит интерес.
Интересовались приезжие очеркисты, они, с легкой руки Валерки Чистых, возвестили всем, что колхозная жизнь в селе Пожары начинается с Евлампия Лыкова, он первый, он единственный, других таких исторических личностей не было. К этому времени Матвей Студенкин работал простым конюхом, равнодушный к тому, что вычеркнут из истории.
Лыков строился, районная и областные газеты отмечали каждую его удачу – в колхозе «Власть труда» появился новый коровник, новый свинарник, клуб со стационарной киноустановкой, – Валерка добросовестно собирал эти сообщения. Коровник, свинарник, клуб, а колхозная контора размещалась все еще в старом тулуповском доме. Иван Слегов – уже не простой счетовод, подымай выше – главный бухгалтер. У неге целый штат – счетовод-помощник, делопроизводитель-кассир. Все они ютились и одной комнатушке, выставив стол председателя Лыкова за дощатую перегородку. Теснота, толчея, шум, махорочная вонь и никакой представительности, словно здесь не центр процветающего колхоза, а бригадный толчок в захудалой деревеньке. Пора было строить новое здание колхозного правления.
Его возводили два года под личным присмотром архитектора из областного города. Тот знал свое дело: поставил толстые колонны возле входных дверей, а перед ними широченное крыльцо из цементных плит, крыльцо гостеприимное – милости прошу.
У Ивана Ивановича Слегова – отдельный кабинет, соединенный дверью с просторной комнатой, где сидел его счетоводческий штат. В углу отгорожен особый закуток для кассира – тяжелый несгораемый шкаф, узкое окошечко, весьма неудобное, на случай если вдруг да кому вздумается через него потянуться к кассе.
У Слегова – апартаменты, а уж кабинет Евлампия Лыкова – районное начальство бедные родственники. Все как положено: два стола, один под сукном цвета озими – персональный, другой под кумачом – заседайте с удобствами.
На столе Лыкова – чернильный прибор, чугунный младенец с крыльями, вещь памятная, служащая колхозу с самого зарождения, рано ли поздно в музей пойдет; на красном столе – графины с водой, не один – несколько, захотел пить – изволь, не надо бежать в угол к ведру с ковшом. Кстати сказать, при первом заседании правления на новом месте графины так понравились, что к ним не переставая деловито тянулись, все осушили до капли.
Казалось бы, стульев хватает, но нет, есть еще мягкие диваны, да такие, что и сесть не посмеешь, особо если ты прибежал прямо с поля в рабочей одежке. У самого хозяина креслице с высокой спинкой. По правую сторону от него этажерка, всего в две полочки, верхняя – для толстых книг – «Капитал» Маркса, скажем, поставить, нижняя – пустая, картуз с головы сунуть сподручно. По левую – фикус, самим Лыковым у жены реквизированный, листья словно вырезаны из хромового голенища, уборщице строго-настрого наказано поливать его каждый день.
Выше самого председателя – вождь во весь рост. Когда Лыков сидит в креслице, макушку его попирают начищенные сапожки. И попасть в эти с любовью оформленные покои можно было только через маленькую проходную комнатушку и двойную, с тамбуром, дверь, тепло обшитую клеенкой. Шагнул за порог, казалось бы – ты уже у председателя, ан нет, погоди, еще одна глухая дверь, берись опять за ручку, проникайся.
У таких дверей положено сидеть специальному человеку – личному секретарю, хорошо разбирающемуся в том, кого сразу пропустить, кого попридержать, а кому и просто дать от ворот поворот.
Валерка Чистых был на примете. Валерка знал грамоту и вежливое обхождение. Его-то и усадил Евлампий Лыков у своих дверей за столик с телефоном.
У Валерки Приблудного появилась власть. Если ты не бригадир, не посыльный от бухгалтера Слегова, если ты не при почете, так себе, рядовой колхозник, да еще лезешь со своей нуждишкой – э-э нет, не спеши.
– В чем дело? – круглый глаз со строжинкой, остро отточенный карандашик на весу.
Объясняй, положено, человек при службе. И невольно назовешь его по имени-отчеству. А давно ли молокососа Тришка Кривой на воровстве застукал, с позором привел, да еще синяком украсил. Ай да Приблудный!
Валерка женился, не с разбегу – с разбором. Взял Галку Купцову, сама девка спелая, дом большой, хозяйство не запущено, теща покладистая.
Он просидел только год у лыковских дверей. Началась война: Валерка вместе с другими парнями был потревожен военкоматом, оставил насиженный стул, дом, молодую жену, собиравшуюся родить.
* * *
Старый бухгалтер качнулся к дверям. Выяснять родственные чувства Валерия Чистых – кто ближе, умирающий председатель или отец-пенсионер? – желания не было. Пора восвояси.
– Иван Иванович! – У Чистых нетерпеливая дрожь в губах и в ласково выкаченных глазах надежда.
Иван Иванович надавил на воротник пальто пухлым подбородком, секунду поглядывал через плечо, спросил:
– Ну что тебе, голубчик? Что-то ты от меня хочешь? Не крути, говори прямо. Скоро ночь на дворе, а меня по старой немощи к постели тянет.
– Иван Иванович, извините, я машину отпустил на полчасика. Не думал, что мы тут так быстро…
– Вот как. Вроде как в плен меня забрал. Ну, что же тебе от меня нужно?
– Одним словом не скажешь, Иван Иванович. Разговор серьезный. И по душам хотелось бы… Коль разрешите, я тут к местечку сведу, посидим с глазу на глаз.
– Что ж, раз машину спровадил… Давай.
– Тогда сюда, пожалуйста. Вот сюда…
Чистых, бесплотно касаясь рукава главного бухгалтера, повел к двери, прячущейся за выступом печи.
За все тесное, больше трех десятков лет, знакомство с Лыковым Иван Иванович ни разу не бывал у него в гостях, ни в старом доме, ни в этом новом, выстроенном после войны. Зато Чистых, по всему видать, свой человек.
– Сюда… Осторожненько, тут порожек.
Узкая комнатушка с несвежими обоями была занята. На смятой койке, уставившись в синее вечернее окошко, сидела жена Лыкова.
– Ольга Максимовна, уж извини…
Ольга покорно поднялась.
– Извини, у нас важный разговор.
Иван Иванович каждый раз удивлялся Ольге. Лицо, словно вымоченное, выжатое, да так и высохло – в сплошных морщинах, даже цвет глаз голубовато-блеклый, старческий. Такая бы подошла в пару любому из деревенских дедов, что коротают век на побочной работе – вяжут корзины, чинят сбрую, – и уж никак не Евлампию Лыкову, вокруг которого всегда все ходило ходуном. И возраст ее не столь уж велик – только-только перевалило за пятьдесят, – и трудилась не больше других, и родами не измучена – выносила всего двоих, чем же так жизнь ее измочалила?
– Ольга, зря мы тебя тревожим. Сиди. Мы в другом месте приткнемся, – сказал Иван Иванович.
– А мне все одно где, – равнодушно отозвалась она.
– Странная ты баба – скучна, словно ничего не случилось. Неужели о муже не горюешь?
– Разучена, – бесцветно обронила Ольга.
– Что – разучена?
– Да все… Горевать, радоваться…
– Ну и ну!
– Устала я! О господи!
Она вышла, тихо прикрыв дверь.
– Не обращайте на нее внимания, – успокоил Чистых. – Не привыкла. Вам вот на коечке будет удобно. Я – на стул, он хроменький.
В синем сумерке за окном вплотную стояли угрюмые заснеженные поленницы. В этом доме как-то все не вязалось с Лыковым. Иван Иванович вспомнил еще лыковских сыновей, двух великовозрастных лоботрясов, и подумал: «Задворочки-то у Пийко невеселые».
Он поставил перед собой костыли, приготовился слушать. В общем-то, он догадывался, о чем пойдет разговор.
За стеной лежит пока не холодный труп, еще там теплится жизнь, но людские страсти с этим не считаются.
По селу в каждой избе откровенно гадают – кто? В районном городе Вохрово идут глухие суды и пересуды – какие кандидатуры? Наверняка кто-то из номенклатурных, как кот на скворца, облизывается на жирное лыковское местечко. И даже в области, в высоких инстанциях, озабочены.
Лыков пока жив, но уже не настолько, чтоб живые считались с ним.
Вот и этот Чистых, чтящий Евлампия Никитича за отца родного…
Иван Иванович ждал, что разговор начнется издалека, с ощупкой, с пристрелкой – наберись терпения. Но Чистых начал в лоб:
– Коренник выпал из упряжки, как бы наши саночки косо не пошли, не опрокинулись. Загодя спасать надо, Иван Иванович.
– И у тебя, наверно, план есть?
– Да, есть.
– Гляди ты, какой дальновидный. Что ж, выкладывай, послушаю.
– В прежние-то годы жизнь наша шла, как часы, – снаружи стрелки, внутри пружина. Евлампий Никитич нашими стрелками был, на виду на примете, время по нему узнавали. А пружина… пружиной-то колхоза, всем это известно, вы были, Иван Иванович!
– Хм…
– Если бы эти годы вернуть. А можно, можно, Иван Иванович! И очень просто…
Широкое лицо бухгалтера замаслилось от удовольствия:
– Яс-но! Оч-чень даже. Могу и не утруждать тебя дальше, сам все готов выложить.
– Не хитро, Иван Иванович, признаюсь. Потому и словил умного человека, чтоб посоветоваться.
– Хочешь сказать: дедушка Иван есть такой молодец-удалец, который бы в оба уха ловил каждое твое слово. Тебе, калеке, удобно, и молодец не останется в накладе, времечко старое вернется, заживем припеваючи. Так ведь?
– Ну и что? – смиренно признался Чистых. – Ловил бы ваше слово, считался с ним.
– Так сказать, починить подержанную пружинку.
– Чинить, Иван Иванович, нет нужды. Она еще работает.
– Спасибо! Ой, спасибо большое, что уважил! Ведь в самую точку попал, не глядя, в самую! Конечно, я стар, конечно, в ногах нет прыти, но тоже не хочется пустым-то местом быть. Ой, как не хочется! Когда-то метил – уж что скрывать! – в отцы-командиры. Осечка тогда вышла. Но, право, ежели теперь попробовать?.. В голове шагать не могу, но командовать можно и сидючи. Почему бы и нет?.. Ведь как просто, надо только мальчика найти не тугого на ухо. Я ему – шепотком, он – эдаким дискантиком. Любо-дорого, споемся. Да ты мне, брат, мечты молодые вернул!
Чистых, отвернувшись, спросил тихо:
– Не надо мной издеваетесь, над собой. Зачем это?
Иван Иванович сразу посерьезнел, пропал блеск под опухшими веками, втянул голову в воротник пальто, ответил ворчливо, с горечью:
– А что мне еще остается?
– Как что? – горячо вскинулся Чистых. – Не дайте залезть на место Евлампия Никитича какому-нибудь хвату, который станет ломать по-своему. Тридцать же лет строили, а теперь – ломать, теперь – по-новому! Не-ет, добром не кончится.
– Верно, старый дом с клопами все лучше кучи свежих бревен.
– Иван Иванович! Сейчас в колхозе нету никого такого, который бы авторитетом вас переплюнул. Скажите слово – вас послушают. Одно только слово! Назовите нужного человека – вам нужного! – поддержат колхозники, да и в районе возражать не станут. В районе тоже знают – Иван Иванович Слегов слов на ветер не бросает.
– «Сначала было слово, и слово было бог». Сотвори единым словом паиньку председателя…
– Не шутите, Иван Иванович, не пристало вам. Сила Лыкова к вам переходит. Людям же надо чье-то слово слушать. Ваше слово может теперь все сотворить.
– Тогда назови-ка – чье имя мне кликнуть? У кого это слух подходящий? А?
Чистых, чуть зарумянившись, выдержал взгляд бухгалтера, твердо ответил:
– Ошибаетесь, Иван Иванович. Себя не назову и не собирался.
– Да ну-у! А почему же? Чем ты не подходишь? На ухо чуток, характер покладист, дрессировку тоже прошел. Из тех умных собачек – хозяин только свистнуть собирается, а они уже на задних лапках здравия ему желают. Лучшего, брат, не найду.
Красные пятна выступили на круглой, парнишечьи моложавой физиономии лыковского зама. Он, вытянув тонкую шею, молчал, помаргивал птичьими глазами.
– За что?.. – наконец выдавил.
Ивану Ивановичу стало неловко. Теперь этого подмоченного зама любой мог клюнуть, не только он. Грозный-то заступник лежит в параличе.
– Ладно, парень, не будем выяснять. И разговор нам надо скорей кончать. Договориться не договоримся, а дерьмом друг друга накормим.
– Ненавидите! За что? Все меня ненавидят… За честность же! Только тем и виноват я, что честно службу нес. За это плевки получай!..
– Что же ты Леху передо мной не защищал, даже выгнать помог. А он тоже куда как честно свое дело исполнял.
– По слабости я его выгнал! Признаю! Пусть я слаб, а вы?.. Вот вы, Иван Иванович! Вы хра-абренький, как же. Словно вам неизвестно, что Леха Шаблов и Чистых на вожжах шли. Не лошадь винят, когда она прохожего потопчет, а извозчика. Что ж вы этого извозчика прежде не хаяли? Да что прежде, вы и теперь его боитесь! Вы и мертвым его бояться будете! Хара-аши!..
Чистых, с пятнистым лбом, с расширившимися, готовыми лопнуть от напряжения глазами, кричал на Ивана Ивановича.
* * *
Он прошел всю войну с комендантским взводом, с автоматом стоял в карауле у денежного ящика, у штабных землянок, потом получил погоны с широкой лычкой – старший сержант сам не караулит, а руководит караулом. При бомбежке на левом берегу Донца он даже был легко ранен, в госпиталь не пошел, остался при части.
В войну везло Валерию Чистых, после войны начались неудачи.
Он «сообразил» посылку из Германии, не барахлишка, не туфли, не шелковое белье, не отрезы на костюм, а… хозяйственное мыло. Жена Галка костила муженька на чем свет стоит – сынишка-то без штанов бегал, все начисто пообтрепалось. Она носила это мыло на базар в Вохрово. На дешевые послевоенные деньги кусок стоил двадцатку, да и то отворачивались. Продала все, кроме одного куска, и в нем-то, стирая, нашла золотые часы.
Валерий ночевал со своим командиром взвода в покоях улепетнувшего немецкого барона, совсем случайно они обнаружили в стене тайничок – кольца с камнями, часы, цепочки, брошки, забавные ерундовины, у которых, кто знает, есть ли даже названия. Взводный свою долю сохранить не сумел, стал менять золотое кольцо на водку и засыпался – отобрали. Валерий схитрил – посылочки-то на проверку были самые безобидные, куски хозяйственного мыла, ишь, простота, покорыствовался.
На всю жизнь был бы богат. По двадцати рублей за кусок, глупая баба! Буханка хлеба в те годы стоила двести.
А под дороге из Германии у него стянули чемодан, как раз тот, где лежало кожаное пальто. Но второй чемодан он все-таки привез с собой, и не пустой.
На улице села Пожары, где свиньи раскачивали плетни, он объявился – костюм тонкой шерсти, манжетки из рукавов, зарубежный галстук, даже судить не смей, не ворованное, честные солдатские трофеи. Галке, безмозглой корове, тоже подарки – ночную рубаху, сквозь которую все бабье богатство до подробностей видно, и еще туфли, похожие на лисьи морды.
Со стороны каждому казалось: такому не в колхозе работать, в городе занимать руководящий пост.
Но что там город, в самих Пожарах повис в воздухе. Его старое место у дверей председательского кабинета было занято Алькой Студенкиной, молодой смазливой вдовушкой, муж которой погиб еще в сорок первом. Евлампий Лыков не собирался снимать Альку. Нечего и рассчитывать, что поставит бригадиром или заведующим фермой. Даже простым кладовщиком на склады не мечтай – занято тыловиками.
Валерий Чистых ходил по селу празднично нарядный, носил на лице, как вывеску, выражение – защитник родины, бывший воин пропадает без места. Не расстилать же ему лен с бабами? Старался чаще попадаться на глаза Евлампию Никитичу, чтоб не забывал – вот он, нужный человек.
Евлампий Никитич обещал, не отказывал: «Обожди, придумаем что-нибудь». Обещанного три года ждут, а Чистых недосуг. Галкины туфли были спущены, ночную рубаху, что наготу не скрывала, разглядывали охотно, похохатывали, но не покупали. Того и гляди, вскорости придется спустить костюм с галстуком в придачу – будешь серенькой овечкой в стаде. Жена плакалась – иди пока в бригаду. «Молчи, дура!» Молчала, знала – крупно виновата, беды б не ведали, если бы не ее сноровка. Вот уж воистину, простота хуже воровства.
Помогла «лыковская паперть». Во время войны так стали называть широкое крыльцо новой колхозной конторы. Оно и вправду смахивало на церковное.
Война кончилась, но в Петраковской, в Доровищах, во всех окружающих селах и деревнях выдавали на трудодень по двести граммов зерна. По-прежнему к Евлампию Никитичу шли на поклон. Вдовы погибших фронтовиков, бывшие фронтовики, просто прижатые нуждой бабы и мужики с утра пораньше занимали места на «лыковской паперти». Теперь далеко не все просители смиренны, многие – особо бывшие фронтовики – крикливы, напористы, часто под хмельком, стучат кулаками в грудь, требуют: «За что кровь проливали?» Почти каждый идет с такой бедой, что отказывать в помощи просто совестно. А их много, для всех мил не будешь. Всесильный Лыков, распоряжающийся миллионами рублей, раз по десять в день выслушивал: «Сквалыга, свинья жирная, барин» или же – «Сердце у тебя, сатана, ссохлось камушком!» Кто-кто а Евлампий Лыков не заслужил того, чтобы переживать неприятности. Он от природы человек щедрый – душа нараспашку. Все должны это видеть.
Но как сделать, чтоб зайку съесть и шкурку на волосок не тронуть? Наверно, нельзя.
Лыков придумал. Нужен специальный человек, который бы принимал удары на себя. Специальный заместитель, верный, непробиваемый.
Тут-то подвернулся Валерий Чистых.
С рассвета на «паперти» просители. Каждый хотел бы встретиться не иначе как с самим Евлампием Никитичем: «Умру, а не встану, коль Евлампий Никитич не примет».
Пожалуйста, почему не принять. Теперь двери председательского кабинета распахивались даже легче, чем прежде; входи, мил человек, выкладывай, Евлампий Лыков – душа нараспашку!
– Так, так, верно. Положение твое того… Надо бы хуже. А заявление где? – Евлампий Никитич не против тебе помочь, он добр, он щедр, он готов сделать все, что в его силах, он не просто сочувствует, а выводит на углу заявления размашистую резолюцию: «Тов. Чистых! Удовлетворить по возможности!» И кудрявый завиток с хвостиком, означающий без обману, что Евлампий Лыков свою руку приложил.
Проситель вцепляется в освященное самим Лыковым заявление, не нудит, не спорит, не отымает время, осыпает доброго председателя благодарностями, ног не чуя, летит с бумагой.
Лететь недалеко, в конец коридора. Там – комната-конурка с одним окном, не чета просторному, солидно обставленному кабинету Лыкова – едва умещается письменный стол, даже лишнего стула нет, не на что присесть просителю. За столом горбится узкоплечий, с уныло навешенной над бумагами зализанной головой новый зам Лыкова – Чистых Валерий Николаевич. Он без восторга читает размашистую, доброжелательную резолюцию председателя, кисловато объявляет:
– Не можем.
– К-как?! Сам Евлампий Никитич!..
– Не можем.
– Но тут же написано!..
– Тут написано: «По возможности». Евлампий Никитич, наверно, не знает, что сейчас таких возможностей не имеем.
– Как это он не знает?!
– Очень просто. У нас хозяйство громадное. Он все знать не обязан.
Крик, обида, слезы, но Чистых этим не прошибешь:
– Не можем.
Тряси кулаками, надрывайся стращай.
– Не можем!
С заявлением и с гневом нужда летит по коридору, обратно к доброму Евлампию Никитичу. Так просто распахнулась дверь кабинета, так внимателен и участлив был знаменитый председатель!..
Но на этот раз секретарша Алька Студенкина телом заслоняет дверь.
– Вы уже были.
– На минутку… Тут безобразие сплошное!..
– Вас много, а Евлампий Никитич один. Глядите, какая очередь.
Да, очередь. В ней ждут своего времени такие же, как и ты, изболевшиеся, исстрадавшиеся, как от Христа-спасителя, ожидающие помощи от Лыкова, мечтающие попасть в заветную дверь. Они с тобой особенно не церемонятся.
– Эй ты! Проваливай! Не маячь!
– Ловок! Им одним занимайся, а мы в стороне!
– Гнать его в шею!
Не знают эти крикуны, что через несколько минут будут так же рваться в эти двери во второй раз. Каждому из них Чистых кисло бросит:
– Не можем.
Лыковский заместитель Чистых и на самом деле – не может. Если б ему в голову пришла дикая мысль согласиться с резолюцией Лькова, не обратить внимания – «по возможности», то заявление, сделав круг, попало бы на председательский стол. Тогда, как знать, Лыков, может, помог бы, но Чистых наверняка пришлось бы распрощаться с должностью. Такого на практике не случалось.
Для всех мил не будешь… Для обычных людей это верно. Как ни старайся, как ни жертвуй собой, а для кого-то все равно окажешься не милым, не красивым, с камушком вместо сердца. Для обычных, но не для Евлампия Лыкова. Оказывается, это «немилое» обличье, черствость, скупость можно, как грязную шапку, повесить на другого. Тот, другой, будет безобразен, а ты – пригож. Правда, надо быть очень влиятельным, чтобы отыскать такого, кто не тяготясь согласился бы повесить на себя то, чем брезгуешь сам.
Чистых хорошо платили и трудоднями и узаконенным почетом – введен в члены правления, ни от кого, кроме как от Лыкова, не зависим, кой-кто из простаков, особенно старухи, доверчиво дивились: «Эвон, чудеса в решете. Видать, хваток, коль так скоро вошел в силушку. Ну-тка самому Евлампию перечит, с самим не считается».
Поначалу должность Чистых мыслилась – отваживай просителей со стороны. Но просителями-то были и свой брат, законные колхозники «Власти труда». Перед ними председателю еще больше хотелось выглядеть добрым и щедрым. Евлампий Лыков стал посылать к новому заму и своих, с теми же размашисто доброжелательными резолюциями на заявлениях.
– Нельзя! Не можем!
К Чистых копилась крутая ненависть – мало кто был им не обижен. Все ворчали: «Собака в кресле – не укусит, не облает, и тронуть не смей».
Но в праздник, особо по вечерам, Чистых уже выходил из дому с опаской – наткнешься еще на пьяного, а пьяному море по колено. Не раз по ночам кто-то разбивал камнями окна его дома.
* * *
И сейчас Чистых кричал на Ивана Ивановича:
– Что я для Евлампия Никитича по сравнению с вами? Моль! Уж кто-кто мог указать Евлампию Никитичу, то вы только. Много ли указывали? Часто ли за руку хватали? Да, не было этого! Чем вам передо мной гордиться? Чем, спрашиваю?!
Иван Иванович слушал, не перебивал: пожалуй, даже и хотел бы, да не возразишь – прав.
Впрочем, один раз он пытался повернуть Лыкова, Один раз всего…








