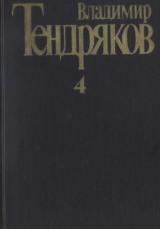
Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. Повести"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Через полчаса или менее того услышал под своими окнами голоса братьев Лыковых Валерий Николаевич Чистых, только что вернувшийся домой.
– Эй, ты! Сука приблудная! Высунься!
– Гасите скорей свет. От греха подальше, – забеспокоился Чистых.
Ребятишки были рассованы по койкам, свет погашен, сам Чистых улегся с женой. Как ни напугана была жена, но уснула быстро. Чистых спать не мог, лежал с открытыми глазами, заполненными ночью, тоской, страхом.
Если при Евлампии Никитиче у него по ночам били окна, то что же будет теперь?
В чем он провинился?
Он вор?.. Он мздоимец?.. Он злодей, который только и ждет случая, чтоб кого-то сжить со свету?
Да, украл один раз в жизни. Был глуп, был молод и очень хотел есть. Один раз, единственный – и то попался. Больше никогда не присвоил себе гроша ломаного.
Мздоимец?.. А как легко было им стать! Валерий Николаевич, заходи в гости, Валерий Николаич, мы вчерась теленочка зарезали, молочный еще… Как легко было сорваться! Не попрекнете – чист!
Злодей?.. А что он сделал плохого? По своему умыслу, по своей воле?..
Что делал бы любой и каждый, если б сел на место Валерки Приблудного? То же самое в точности. Да нет, хуже, со срывами на телятинку, да дармовую водочку. Валерка-то выстоял без осечки. Уважайте!
Он нормальный человек. А нынче нормальных людей мало, кого ни задень, тот с сумасшедшинкой. Человек порядок должен любить – чем железней он, тем жить покойней.
Он служил Евлампию Никитичу, душу отдал порядку. Нормальный… Сумасшедшие вырвутся на свободу! Что-то будет, что-то будет! Пронеси, господи!..
Ночь, тишина, он затравленный в собственной постели…
Вдруг в темном доме гулко загрохотало. Подбросило с подушки, обдало жаром, взмок лоб. Но через секунду Чистых понял – это же телефон! В душной тишине усердно натопленного дома раскатисто гремел телефон, властно звал к себе.
Кто?.. Зачем?.. Кому понадобился?.. Среди ночи, не дождавшись утра!..
Проснулась жена:
– Что это?
– Лежи!
Полез из-под одеяла, ступил босыми ногами на холодный крашеный пол, от щиколоток до ушей покрылся гусиной кожей, слыша стук собственного сердца, двинулся к телефону, в переднюю, по пути больно врезался плечом в косяк дверей.
Долго ловил впотьмах висящую трубку, наконец поймал:
– Да… – Закашлялся. – Алло!.. Послышалось что-то лающее.
– Вал!.. Вал!.. Вал!.. – Наконец икающий лай прорвался в членораздельное, истошное: – Валерий Николаич!!
– Это кто? – лязгнул зубами Чистых.
– Это я – Митрий!
– Какой – Митрий?
– Да Пашенков, сторож… – И дико завыл: – У-убий-ийст-во, Валерий Николаич!
– Ты что?!
– То-по-ра-ми!.. Топорами порубили, паршивцы!
– Кого? Что? Чего мелешь?
– Леху-у! Леху Шаблова… Топорами!.. Я только к складам вышел на ночное дежурство, слышу крик… Я еще подумал – не по-доброму кричат. Голоса-то признал – сынки Евлампия Никитича, чтоб им лихо было, пьяные вдребезинушку…
– Они – Леху?
– Так с топорами ж… Я сразу-то не пошел, обождал, а потом – дай, думаю… О господи! Прямо на дороге, недалече от фуражного складу… О господи! По всей дороге раскинулся, а снег под ним черный… Топор в стороне брошен. Топорами его…
– Откуда звонишь?
– Тута, от телефонисток… Каждая жилочка дрожит.
– Беги к Наталье Петровне, фельдшерице. Может, жив еще Леха.
– Не побегу… Оне, бешеные, до сих пор где-то бродют.
– Ты – кто? Ты ночной сторож, за порядком по ночам должен следить. С ружьем иди!
– Эхма-а… С ружьем… Да мое-то ружье для красы, кабы оно стреляло.
– Беги к фельдшерице на дом! Приказываю! Я участковому звоню.
– Валерушка-а! – застонала из соседней комнаты жена.
– Цыц! – прикрикнул Чистых. – До тебя тут!.. Участкового мне!
Долго ждал, пока участковый раскачается со сна, подойдет к телефону. Ждал и зяб, стоя босыми ногами на холодном полу. Наконец дождался, недовольный, с сипотцой голос ответил:
– Младший лейтенант милиции Ступнин слушает!
– Убийство, Александр Степаныч!..
Дрожа и захлебываясь, рассказал, что узнал от ночного сторожа.
– Тэк! – голос участкового лязгнул медью. – Тэк!.. Ситуация ясна! Валерий Николаевич, ты оденься, прибудь к месту преступления, для оформления будешь нужен.
– Я срочно выезжаю в район, – соврал Чистых. – Да ты оформления потом, ты сперва преступников обезвредь, преступники-то у тебя с топорами по селу ходят. Тебе фор-маль-нос-ти нужны!..
Охота ли идти сейчас через все ночное село к складам, одному…
Дом погружен во тьму, за окнами мутно сереет снег. Где-то на дороге валяется порубленный топорами Леха Шаблов. Леха! На всех наводивший страх!..
– Валерушка-а!
– Цыц!
Лыков мертв, заместитель Чистых распутывай, влезай по уши, привлекай к себе внимание… Леху топорами… Он – не Леха, его легче…
Стучало сердце в тишине, по всей коже гулял озноб. Жена за спиной робко шевелилась, чуть слышно поскрипывала кроватью.
Он соврал участковому – едет в район. И в самом деле, куда как лучше спрятаться в городе Вохрове, хотя бы до утра, чтоб сейчас не втянули, не заставили, – шевелись! К утру с этой страшной заварухи сливочки уже снимут.
Леху – топорами…
Чистых снова снял трубку. Гараж не отвечал, но Евлампий Никитич, установивший в свое время коммутатор, щедро разбросал телефоны по селу. Телефон был на дому и у механика гаража.
«Газик», возивший не столь давно и Евлампия Лыкова, и Леху Шаблова, катил по прихваченной морозом дороге к Вохрову. Механик, ввиду особого случая сам севший за руль, сурово молчал, жал на газ, лишь изредка качал головой, ронял:
– Да-а дела… Да-а, начинается без хозяина…
Свет фар скользил по окаменевшим весенним сугробам.
У Чистых прошел испуг, вернулась способность трезво взвешивать. Надо уходить из колхоза. Какое уж тут житье.
– Да-а, дела-а… Да-а, теперь заиграют без хозяина…
Подальше от такой игры. Лучше всего обратиться к директору леспромхоза Семенову. В свое время тому «клеили дело», подводили – снять с работы. Семенов жил в тесной дружбе с Лыковым. Обсуждать директора леспромхоза решили тогда, когда Евлампий Никитич утрясал колхозные дела в области. Покатился бы товарищ Семенов, если б не он, Чистых. Это он дозвонился до Лыкова, поймал поздним вечером в номере гостиницы, Евлампий Лыков в области нажал на кого нужно, спас Семенова, тот и до сих пор директорствует. Хозяйство у него большое, местечко для Чистых подыскать не трудно. Правда, в Пожарах свой дом. Что ж, все распродаст, будут деньги на первое устройство…
– Да-а, дела-а… Теперь жди веселья…
Кто-то жди да поеживайся, а он, Чистых, – нет, увольте.
В центре Вохрова он остановил машину, сказал:
– Езжай домой. Мне придется здесь остаться.
– Дела…
«Газик» развернулся и укатил.
Городок крепко спал под черствыми заснеженными крышами – окна темны, калитки наглухо закрыты. Городок спал, но наверняка участковый из села Пожары Ступнин уже сообщил в районное отделение милиции, наверняка дежурный уже поднял начальника милиции майора Россохина, тот сейчас тревожит первого секретаря, кого-то из врачей районной поликлиники. Городок крепко спит, но тревога уже вошла в него, мечется по телефонным проводам, срывает кого-то с теплых постелей.
Чистых чувствовал успокоение и легкость в душе. Пусть разбираются, судят и рядят, наказывают, подбирают кандидатов на место Лыкова. Утром он явится к директору леспромхоза Семенову.
Утром… Но до утра еще далеко. Город спит, город будет спать еще добрых пять часов. Где-то надо прокоротать эти долгие часы.
Здесь, в районном городе, колхоз «Власть труда» имел свою квартиру – для Лыкова, на случай если тот задержится на заседании, если не посчитает нужным трястись ночью к себе в село. Квартира для Лыкова и для тех, кто к нему близок. Ее обиходит Агния Кузьминична, чистоплотная, рассудительная тетка, нагулявшая богатые телеса на харчах, отпускавшихся на прокорм Лыкова со товарищи. Она-то – милости просим – встретит как положено, чаем напоит, чистые простыни застелит. Но на той квартире одно плохо, – телефон. Где Чистых? Бросятся вызванивать и вызвонят… Увольте. Завтра после встречи с Семеновым, завтра, когда схлынет первая горячка, когда он уже будет знать свое новое место, – явится, последние обязанности честно исполнит, сдаст дела, а пока – увольте.
Здесь в городе живет его отец. Валерий Чистых немного помогал старику – посылал иногда кило масла, кусок свинины, баночку меду, жалко же, как-никак родная кровь – нахлебался лиха человек, одинок, нет здоровья, нет почета. Баночки с маслом и медом пересылались, но сын и отец встречались очень редко.
В другое бы время Чистых среди ночи ни за что не постучался бы к отцу. Но теперь обстоятельства особые, вряд ли старик успел узнать, что Лыкова уже нет в живых, а к этому у него наверняка свой интерес, ради него простит ночное сыновье вторжение.
Старик долго и подозрительно выспрашивал через закрытую дверь – кто да зачем? Притворялся, что не узнает голоса сына. Наконец смилостивился, признал – «а, это ты», – загремел запорами.
Свисающая с потолка пыльная лампочка освещала негостеприимного хозяина. Давно не стиранное белье, из распахнутого ворота выглядывали изогнутые, как дверные ручки, ключицы, рукава, лишь едва прикрывающие локти, выставляли напоказ тонкие руки в сплошных мослах, жестких сухожилиях и набухших венах, узкие кальсоны все же были слишком просторны для тощих ляжек. И над всем этим плохо укрытым костяным сочленением – глянцевитая лысина и глубоко врезанные, столь же жесткие, как и сухожилия на руках, морщины. Они изображали в данную минуту величавое презрение и подозрительную враждебность.
– Чем обязан?
– Новости знаешь?
Старик жил скучно и однообразно, как только может жить одинокий пенсионер, отпугивающий всех несносным характером. Не такому выпроваживать гостя с новостями.
– Слышал, что Лыков того… Еще вечером…
– Гм… – Нет, старик не слышал этого.
– Ну так вот, теперь пошло пузыриться, все, что назаквашивал, поползет через край.
Новости должны быть приятны старику. Лыков мертв, а он, Николай Чистых, жив… Однако старик не смягчился, ничем не выразил удовольствия, по-прежнему глядел на сына с неприязнью и подозрительностью.
– Как это понимать – «поползет через край»? – холодно спросил он.
– Лыковские-то сынки отличились. Топорами, стервецы… отцовского шофера…
– Сыновья Лыкова?
– Родные сыновья. Вот дела-то какие.
– Сыновья теперь пошли не в отцов.
– Лыков – тяжелый мужик, всех гнул – хребты трещали, а теперь, видишь ли, распрямляться начнут, друг друга задевать. И еще как!
– Сыновья не в отцов – гнилое племя. Вот хотя бы ты, Валерко, ты – мой родной сын! Удивительно! Ты – и от меня родился!
Чистых-младший досадливо поморщился:
– Опять – двадцать пять! И что ты со мной все делишь? Я ведь всегда к тебе по-доброму…
– Ты – прихвостень, ты – разложившийся прохвост!
– Ну и ну, злобы же в тебе…
– К таким, как ты, – да! К таким, как ты, – не простая злоба, а классовая ненависть! Разве я не вижу сейчас, чего ты от меня ждешь?!
– Чего мне от тебя ждать? Чем ты меня одарить можешь?
– Ты ждешь, поганец, что я буду радоваться смерти Лыкова!
– Радоваться не радоваться, а уж слезы лить не станешь.
– А ты слышал, чтоб я когда-либо плохо говорил о Лыкове?
– Попробовал бы сказать.
– Подлец! На свой аршин меряешь. Все считаешь, что твой отец трус, что он из страха…
– Стыдного в этом нет, многие, не нам с тобой чета, побаивались – матер мужик.
– Я побаивался? Я – его? Что он мне мог сделать? Мне, который уже отсидел двадцать лет! Что еще можно сделать такому?
– Двадцать-то лет не без его помощи. Почешешься.
– А не приходит в твою подлую башку простая мысль, что я уважаю Евлампия Лыкова?
– Ты – Лыкова?
– Да, я – Лыкова!
Чистых-младший недоверчиво поежился под сверлящим взглядом старика.
– Все считаешь, что мы с Лыковым из-за куска пирога царапались. А между нами шла борьба. Не ради шкурных интересов! Я считал, что Евлампий Лыков гнет в своем колхозе вражескую линию. Так считал, был убежден! Да, я хотел ареста Лыкова. Если б я победил, то Лыкову не поздоровилось. Но победил-то Лыков… Теперь должен или не должен я задать себе вопрос – кто был прав? Кто?.. Честно, без виляний! Он или я? Так вот!.. Со всей революционной прямотой теперь признаю – он прав! Он создал выдающийся колхоз, которым гордится не только район, а и вся область. Жизнь доказала! И мне после этого ненавидеть Лыкова?.. Ты понял, пресмыкающееся? Уважаю Лыкова!
– Уж не считаешь ли, что вы – два яблока с одной яблоньки? – спросил сын.
– Считаю. Одного корня мы.
– Но и с одного корня яблоки разные на вкус – какое-то спело, другое в кислую зелень.
– Моя ли вина, что мне не дано было вызреть?
– А кто не дал? Но Лыков ли?..
– Виновника ищешь. А его нет. Что глаза таращишь?.. Нет, и все. Не каждая икринка взрослой щукой становится. Кто в этом виноват? Жизнь так устроена – нельзя без отходов.
– Выходит, тебя посадили законно и выпустили зря?
– Я перед народом чист как слеза!
Старик стоял перед сыном, горделиво откинув голову, на остром подбородке искрилась седая щетина, в выцветших глазах гордый горячечный блеск, морщины залиты густыми тенями – усохшие живые мощи, прикрытые давно не стиранным исподним.
Сын молчал, и тогда костлявый кулак старика ударил в костлявую грудь:
– Глядишь?.. Гляди, от кого ты родился! Нас называли твердокаменными! И как могло случиться, что от меня, твердокаменного, родился ты, резиновый? Ты служил Лыкову не за идею, а за жирный кусок! Презираю тебя, как презираю сытость!
– Ишь ты, «презираю»… – скривился Чистых-младший. – А небось когда я от себя посылал тебе маслица там или медку, то не презирал, на помойку не выбрасывал – внутрь принимал.
– Вон-но что… Медок… А ты помнишь, чтоб я тебе за этот сладкий медок хоть раз когда-нибудь сладко улыбнулся? Медок принимал… А почему, разреши спросить, поч-чему весь мед должны съесть шкурники? Пусть хоть немного перепадет честному человеку… И чтоб доказать, что меня медом не купишь, то вот… – Старик выкинул в сторону дверей костлявую руку с крючковатым, неразгибающимся, разбухшим в суставах указательным пальцем: – Вон! Слышишь – вон отсюда, лизоблюд!..
Примерно в это самое время в селе Пожары втихомолку переживалась еще одна беда.
Вечером вернулась к себе изруганная женой Лыкова Алька Студенкина.
Дед Матвей, Алькин свекор, пропутешествовавший после долгих лет лежания на печи до дому председателя (это, считай, другой конец села), ни на полати, ни на печь от усталости взобраться не смог, лежал на голой лавке, не скинув валенок, накрывшись о головой полушубком.
Алька его трогать не стала, сама по привычке разделась, по привычке легла в постель – ночь подходит, положено спать.
Но спать, какое уж…
Стояло перед глазами лицо Ольги – злоба до синевы, слова одно другого дурней, с надрывом. А Ольга-то – смирней бабы не найдешь по селу. А Чистых… К Восьмому марта духи дарил в коробочке с кисточкой… Шуганул: «Марш отсюда!»
Стояло перед глазами перекошенное лицо Ольги… Глухая ночь во дворе, только где-то в стороне прокричали пьяные голоса да смолкли… Глухая ночь и долгая. В такую ночь не единожды можно пробежать по жизни, от какого-нибудь солнечного зайчика на бревенчатой стене – первого, что попало в детстве в твою память, – и до… до крика Ольги.
Бывала ли счастлива?.. Как не бывать.
Она идет из города, ей девятнадцать лет. Да было ли еще девятнадцать-то, пожалуй, чуть не хватало… Шла из города. И пошел теплый дождь, и облака какие-то кисейные, свет пропускают, так что весь воздух сверкает серебром. Тяжелые, нацеленные с неба капли бьют по клеверу, клеверные головки сердито вздрагивают. А после дождя – синие лужи, после дождя – медовый запах с обмытого клевера, мокрое насквозь платье, босые ноги чувствуют тучную силу влажной земли. И сила притекала, заполняла тело, рвалась наружу, хотелось бежать, бежать вперед, вперед, хотелось жалеть кого-то крепко, кого-то утешать и радовать.
На темной дороге среди временных синих лужиц стоял одинокий путник. Чем-то он был озабочен, что-то он творил про себя. А она изнемогала от переполнявшей силы, от щедрости, от острого желания кого-то жалеть. Она смело подошла к нему: военная фуражка, гимнастерка, мешок за спиной. И чуть не застонала – рука-то у него ранена, висит на шее. И вот оно что, колдует – свертывает цигарку, весь в это ушел, ее не замечает. Не простое дело – рука-то одна, вторая в бинтах.
– Дай помогу.
Он вскинулся и оторопел… от ее лица. И она сразу смутилась – рука на перевязи, мокро поблескивает медаль на груди (тогда боевая медаль была редкостью), да еще глаза, застывшие в изумлении под лаковым козырьком военной фуражки.
– Дай помогу.
– Помоги, – согласился он.
Семен Студенкин ушел в армию, когда ей исполнилось едва четырнадцать лет. Попал на финскую – попортило руку, получил медаль «За отвагу». Рука срослась быстро, на войну с немцем его мобилизовали одним из первых. Алька получила только одно письмо с фронта, второй весточкой была уже похоронная.
Была ли счастлива?.. Как не быть. Год жила с Семеном душа в душу. За этот счастливый год она много лет обиходила старика Матвея, отца Семена, как могла, следила, чтоб был сыт, чтоб ходил в чистом да не драном…
А Евлампий?.. Нет, с ним не было счастья. Жила, как белка на жидком тальнике, загнанная собаками, сорвись – попадешь в зубы.
Долго же держалась, теперь, считай… сорвалась.
Ольга Лыкова – смирная баба, завтра подымутся все, кому не лень: ты сводня, ты блудница! Беги, Алька, спасай себя!
Бежать?.. А куда?..
Кому ты нужна, растолстевшая, сорокадвухлетняя баба? Нет ни молодости, ни красоты, руки от настоящей работы отвыкли. Кому нужна? Только деду Матвею, и то ненадолго, и тот скоро помрет. Короток бабий век.
Алька лежала в темноте на своей вдовьей кровати. Когда-то на ней впервые обнял ее Семен, крик утренних петухов пробивался к ним сквозь стены. У Семена были жесткие, ласковые руки, до сих пор, как вспомнишь их, – тоска во всем теле. Семен не успел состариться, старилась она, а он так и остался молодым.
Здесь она принимала Евлампия, принимала, случалось, и других после него. Евлампий не Семен – молодым никогда не был. Теперь и Евлампия, считай, нет. Все остальные – тоже для нее покойники, живет о них только смутная память.
Далеко, далеко позади серебряный дождь, а впереди от минуты к минуте все ближе утро. Это утро не стоит видеть, за ним – плевки, ругань, грязь взахлеб. Для кого-то и настанет утро, для нас – ночь без края.
Минута за минутой идет время. Идет к концу бабий век.
Она лежала с сухими глазами – не так уж и богато ее прошлое, чтоб горько оплакивать, а будущего нет. Лежала, не спешила, спешить некуда – пока время есть, рассвет не скоро.
Лежала отдыхала, набиралась сил, еще и еще раз без устали припоминала серебряный дождь, оторопелые глаза из-под мокрого козырька военной фуражки…
Она дождалась первых петухов и поднялась… Покинула теплую постель, где было так уютно перебирать незатейливую жизнь, со стороны дерзко, с чужим равнодушием оглядываться на себя и испытывать горькое удовольствие от принятого решения.
Она покинула постель и сразу же почувствовала зябкий страх – не мечтай, а делай, что решила.
Ночь еще не прошла, душная, жирная тьма заполняла избу, только вкрадчиво синели окошки. С далекой окраины долетел последний хрупкий петушиный крик – сломался. Лишь тревожно шумела кровь в ушах да галопом рвалось из груди сердце.
Чего-то не хватало в избе, чего-то привычного. Обжитой до устали дом казался сейчас чужим. И зябкость, и жирная ночь, заполнившая бревенчатые стены, и невнятный страх, мешающий сделать шаг от кровати. Тишина шуршала в ушах, непонятная тишина, в ней чего-то недоставало.
И вдруг Алька поняла – чего! На ознобленной коже зашевелились мурашки. В тишине не слышно было надсадно тяжелого дыхания старика. Словно его нет в избе. А он же лежит, он тут, на лавке, она его чувствует, даже видит мягкую округлость стариковского полушубка, чуть прикрывшего низ невнятного синего окна.
Леденея от ужаса, хватаясь за стену руками, она двинулась к выключателю, нашарила – звонкий щелчок, до ломоты в глазах яркий свет.
Жмурясь всем лицом, дрожа всем телом, с усилием донесла себя до лавки на ослабевших ногах, боязливо, издалека потянула на себя полушубок.
– Дед… Эй, дед!..
Изуродованная работой рука старика свалилась с лавки, костляво стукнула в пол.
По селу на серых снегах улочек натужно вызревал дымчатый унылый рассвет. Село покойно спало, равнодушно пережив еще одну петушиную перекличку.
Лампочку Алька только что выключила. Мутный свет вползал в избу, означая щели на темных бревенчатых стенах, фотографии в простенках, узловатые сучки на изношенном полу.
Матвеи Студенкин лежал на лавке животом и грудью, плоский, спрятав голову в полушубок, выставив напоказ огромные растоптанные валенки, упираясь чугунно-темной рукой в пол.
Алька, накинув поверх нательной рубахи шаль, сидела, съежившись, под выключателем и плакала. Оплакивала и старика, который много лет сиротливо прожил с ней под одной крышей, оплакивала и самое себя, свое круглое одиночество.
Бабьи слезы целебны. Вместе со слезами растаяла решимость – не ждать утра. А утро исподволь, но упрямо наступало, рассольно мутный свет сочился в избу. Алька глядела на оброненную руку старика и уже боялась смерти, жалела себя. И суетливые мысли теснились в голове: «Может, Сережка Евлампия сменит. А Сережке она всегда добра желала. И Ксюшка его как-никак родня ей… Не дадут в обиду…» Сама не очень-то верила в это, но размякла от слез.
По улочкам спящего села полз рассвет. Ночь, начавшаяся смертью Евлампия Лыкова, первая ночь без прославленного председателя, кончилась.








