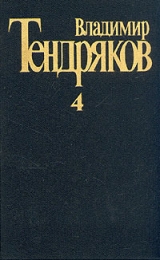
Текст книги "Три мешка сорной пшеницы"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
20
Вера убежала за фельдшерицей. На крыльце выли собаки. Бахтьяров сидел возле койки Кистерева – локти в стороны, руки в колени. Женька топтался у него за спиной.
Кистерев пришел в себя, лицо стало, как в прошлый раз, из бледного до зелени воспаленно–розовым, лоснилось от пота. Он лежал и глядел в потолок мутными глазами.
Выли собаки на улице.
– Иван… – позвал Кистерев тихо, почти одним дыханием.
– Что, Сережа? – склонился Бахтьяров.
– Иван… помнишь… элитные поля за Звонцовом?
– Лежи, брат, лежи. Не трать сил.
– Колосья на них… на ладони не помещались…
– Еще будет расти такой хлеб у нас! Будет, Серега!
Молчание. Выли на улице собаки.
– Без меня… – шелестел шепот.
– Нет уж, держись до победы. Не смей сдавать.
– Иван… ведь получился бы из меня агроном, если б… не война!
– Из тебя я, Серега, тогда хотел не простого агронома – метил вместо себя двинуть. Думал: сам на пенсию – директором совхоза тебя оставлю.
И больной слабо пошевелился:
– Хотел тут в колхоз… председателем… Но где… бегать по полям…, Вот в сельсовете… должность кабинетная…
– Молчи. Я буду вспоминать, а ты слушай… Помнишь, как в школу к вам пришел, рассказывал, что такое элита?
– Хлебный жемчуг…
– Рассказываю, а сам приглядываюсь: деревенские парнишки – волосня кудельная, носы от солнца облезли, рубахи латаные. Среди них один – ростом мал, но, видать по всему, гвоздь, не хватай голой рукой – уколешься. И вопросы задает дельные, и в глазах интерес. Вот, думаю, кого надо выманить на селекционную работу…
– Как давно…
– Да не так уж и давно по времени – восемь лет. Только годы–то уж очень крупны, из них четыре военных – эпоха… Черт! Что это твои собаки так закатываются? Под такую музыку и здоровый сляжет.
– Боятся – помру…
– Сергей, держись! Мир скоро.
– Не будет мира…
– Будет! В дверь стучится!
– Мир? Пока божеумовы живы?…
– Божеумовы истории не остановят.
Собаки на минуту перестали выть. На крыльце раздались шаги. Это Вера привела фельдшерицу.
В тесной комнатушке пятерым не пошевелиться. Женька вышел, чтоб не мешать.
За окном на дворе стояла лошадь, на которой Женька приехал из Княжицы.
Чалкин с Божеумовым за закрытой дверью в кабинете что-то сердито бубнят между собой. Скорей всего обсуждают его, Женьку. С ними связан, числится в одной бригаде, вместе придется возвращаться обратно в свой район. А там–то Чалкин и Божеумов хозяева… В их глазах он, Женька, – предатель.
А для Кистерева и Бахтьярова он – приезжий, временный, собственно, тоже чужой.
Дремлет на морозе лошадь за окном. Воют собаки.
Вернуться в Княжицу?… Ужо простился. Там–то он и вовсе теперь не нужен.
Не нужен и Вере…
Женька никогда в жизни еще не был одиноким. До войны – какое одиночество у мальчишки. Дома – отец с матерью, улица полна товарищей… На фронте… Там и днем, и ночью с людьми: спишь под одной плащ–палаткой, ешь из одного котелка, даже если вылезешь на порыв линии один в открытое поле, под пули, под рвущиеся мины, то знаешь – о тебе сейчас думают, на тебя рассчитывают, твоего возвращения ждут.
Сейчас словно подвешен в воздухе – все рядом и все в стороне. Куда девать себя? К кому приткнуться? И собаки воют, выматывают душу.
Проскрипели половицы, кто–то встал за спиной. Заставил себя обернуться. Вера! Закутана в шаль, под длинными ресницами страдальческая синева, глаза устремлены в окно, на Женькину заиндевевшую лошадь.
– Ты сейчас куда? – спросила она.
– А не знаю.
– Вот и я… не знаю…
– Тебе ночью придется дежурить, как в прошлый раз.
– Не придется. Фельдшерица ни на шаг не отойдет. Бахтьяров не разрешит.
Помолчали. Неспокойный блеск глаз из–под шерстяной шали, тихое:
– Едем в Юшково.
– Если приглашаешь…
Она качнулась к нему, припала лицом к шершавому шинельному плечу:
– Ой, Женечка!… Спрятаться от всего, хоть на времечко!
И стало сразу жарко. И весеннее таяние в груди: смейся и плачь – не одинок.
На сельсоветском крыльце выли кистеревские псы…
21
Луна снова заглядывала в оконце, только сегодня она была не целой, а споловиненной. В темноте сияли никелированные шары на кровати. Вера, уткнувшись в плечо Женьке, тихо дышала – то ли забылась в дремоте, то ли тоже обдумывала свое.
Как то осенью, такой же глубоком, как и эта, что упрямо держится за окном, был поход. Под дождем, по перемешанным танками, машинами, пушками степным дорогам, по колено в грязи. Позади – окопы, впереди – окопы, еще не вырытые.
На пути стоял хутор, отрадно целый, обойденный войной. И врезался в память один дом, ничем, ровно ничем не отличающийся от других. Разве что под окнами у него стоял кленок–подросток, еще не облетевший, весь кричаще–багряный, да за мокрыми стеклами в окнах маячили белые занавески.
Из дома вышел старик, крепкий, несгорбленный, с топором в руках. Вышел старик, вынес на лице мелкую хозяйскую заботу – дров наколоть, поправить ступеньку крыльца. Поход без сна и отдыха сквозь грязь, окопы за спиной, окопы впереди – и дровишки для печки, ступенька крыльца подгнила, и багряный кленок под окнами, и белые занавесочки… Прожил этот старик, день за днем, год за годом, немыслимо долгую, ровную жизнь.
Месящий грязь Женька позавидовал ему лютой завистью. Ничего не надо – ни славы, ни богатства, ни власти – только ровной жизни, где завтра будет походить на сегодня, где какой–нибудь кленок под окном, то распуская почки, то багрянея от первых заморозков, станет напоминать о повторяемости, о неизменности, значит, о надежности текущего времени. Только тот может оценить эту надежность, кто, просыпаясь утром в окопе, не знает, доживет ли он до вечера. Великое счастье заложено в однообразии.
Упрямый монах Томмазо Кампанелла заставил Женьку забыть кленок под окном: не в однообразии счастье, совсем в ином – твое завтра должно стать новым, не похожим, ищи его, беги от того, что было.
А Вера нет, не приняла: дай тихое счастье, самое обычное, самое бесхитростное – похожие дни, плывущие один за другим.
– Вера…
– Что? – отозвалась она одним дыханием.
– А если мы… поженимся.
Она помолчала.
– Только здесь жить не станем, и в своем Полдневе не хочу.
Она потерлась щекой о его плечо и опять ничего не ответила.
– Я тебе серьезно…
– Миленький, только не серчай…
– Ты не хочешь?
– Не пара мы.
– Это почему?
– Снесло нас нынче вместе, а люди то мы не подходящие друг к дружке.
– Ты мне подходишь.
– Ой ли? Вспомни: я же хочу – как у всех.
– Вера, я, пожалуй, тоже…
– Это сейчас, это на минутку у тебя. А потом ты из моего «хочу», как из тесного хомута, выпрастываться станешь. Ты рвешься, я держи – что за жизнь? Кончится тем, что ты остервенишься, а я надорвусь.
– Вера, в прошлый раз я говорил глупость, самому стыдно.
– Миленький, – она греющей ладошкой провела по его щеке, – не серчай уж. Ты – что сосновое полено, ровно гореть не можешь, только с треском, со вспышечками. Эвон как вспыхнул сегодня – жизнь пополам, лишь бы правда–матка цела осталась.
– Разве это плохо, Вера?
– Очень даже хорошо, миленький. Для правды… А для семьи?… Жизнь пополам – семья вдребезги. Ты ведь в семью меня зовешь. Как не задуматься, а задумавшись, не ойкнуть.
Он помолчал и спросил с обидой:
– Сколько тебе лет, Вера?
– А что?
– Слушаю сейчас, и кажется – не старуха ли рядом учит?
– И верно, иной раз спохватываюсь – не в матери ли тебе гожусь. Муж?… Мне надо потяжелей, понадежней. Да ты не серчай и горевать не вздумай. Еще многие из девок по тебе сохнуть будут. Без жены не останешься, авось и я в бобылках не просижу. Война кончится, парни придут, там выберу.
Он лежал, глядя вверх, пытался смахнуть веками темноту с глаз. Лежал и мигал.
Уехать в случайно уцелевшее покойно–райское место… Клен за окном с переливами – весной в зеленой дымке, осенью в багрянце, сегодня в точности похоже на завтра. А возможно ли такое?… Никак не отвыкнет от детской привычки раскрашивать мир розовыми красками. Раскрасит и верит, хочет, чтоб и другие верили. Дураков нет!
Он все-таки попытался защищать себя, просто так – с отчаяния:
– Что ж ты допустила меня к себе, коли не нравлюсь?
– Кто тебе сказал, что не нравишься? Ласков, добр и собой не дурен. И почему бы мне отказываться… Может, вдруг заболею завтра, помру в одночасье… Зачем мне отказываться?
– Хищница ты – вроде хорька.
– Какая же я хищница, миленький? Опомнись! Хищное-то чужой кровью да чужой бедой живет. А от меня кому плохо? Тебе?… Не наговаривай зря. Видать, хорошо, ежели жениться предлагаешь. Не вырываю у тебя куски, сама даю, что могу. Хоть минутку, да радости. Сказал бы лучше спасибо за эти минутки, нет, обзываешь – хищная-де, на злого хорька смахиваю.
Она отодвинулась. Он долго молчал, наконец сказал:
– Прости… Это я сдуру брякнул.
– Вот и ладно, – она снова обняла его.
– Согрела… а тут опять на холод выскакивай.
– Болезный ты мой! Пожалеть, что ли, да выйти за тебя? Будь что будет.
– Нет уж, не надо.
От мороза во тьме крякали нагие березы. Звуки шагов по каменной земле, скрип ворот, собственный голос, понукающий лошадь, не желающую выходить из стойла, – все какое-то призрачное, потустороннее.
Она ловко и быстро помогла запрячь, только попросила затянуть супонь: «Юбка узка, мешает».
Женька решил: не вернется в Княжицу. Пить там с Кириллом самогон, ждать, как решат за тебя, – нет, уж лучше быть со всеми. Поедет вместе с Верой.
В скудном свете налитых звезд она стояла перед ним – большая от намотанной шали голова, смутно поблескивающие глаза на размытом лице, куцее пальтецо, едва прикрывающее каменно крепкие колени, все еще избяно теплая, вытащенная из постели. Наверное, в последний раз вот так они близко с глазу на глаз. Будут видеть друг друга, будут и разговаривать, но уже на людях, по-чужому.
– Ну, лезь первый. Да ноги-то в сено зарой. В сапожках ведь при таком морозе, – сказала она.
И бесхитростная забота обварила, как кипятком: век бы от нее такие слова слышать, ан нет. Он взял ее за плечи, взглянул в глаза – там, в глубине, во мраке, поблескивали пылинки звезд – притянул, поцеловал:
– Спасибо.
– За что, миленький?
– За минутки.
– Тебе спасибо. Помнить буду.
Прощание, но странное – не друг с другом пока, с теми «минутками», которые удалось провести вместе.
Залезли в телегу, устроились. Вера укрыла его ноги сеном, сама прислонилась к нему поплотней. Он разобрал вожжи, лошадь тронулась.
В звездной ночи страдающе заплакало несмазанное колесо.
Звезды еще не слиняли, только потеряли свою чеканность, но краешек неба вылинял, и по земле, прижимаясь, полз едва уловимый – зыбкая мечта о новом дне – рассвет. Можно уже различить рваную комковатость дороги, сухие остья травы на обочине.
И причитает во всю ширь полей, во всю глубь неба, до водянистых звезд, несмазанное колесо. И согревает сквозь шинель тесно прижавшаяся Вера.
Неожиданно она отстранилась:
– Кто это?
В плотной, неподатливой просини что-то маячило на дороге, словно под ветром шатало забытое с лета огородное пугало. Но нет ветра, нет вблизи огородов – поля и дорога, и застывший воздух, и завороженные звезды вверх.
– Кого это несет?
А лошадь не спеша шагала вперед, везла их навстречу пьяно бредущему путнику. Страдало несмазанное колесо.
Бесформенный, не похожий на человека, – встрепанная копна, решившаяся двинуться по дороге. Женька потянул вожжи, лошадь остановилась, колесный истошный плач захлебнулся. Гулкая тишина скованных морозом полей надвинулась на них, оглушила. И в этой тишине послышалось неровное звонкое постукивание палки о мерзлую землю.
– А–а, знаю… – произнес Женька. – Старый знакомый.
Поклевывая палкой черствую дорогу, он приблизился – без своего бабьего платка на голове, волосня раскосмачена, лицо безглазое, с чугунным клювом из бороды, – Митрофан, странник–убийца. Стук палки и натужное дыхание…
– Ты куда это? Эй! – окликнул Женька.
На секунду палка повисла в воздухе.
– Туды… куды и ты придешь, – с сиплым выдохом, с нелюдимой важностью.
И, шевеля тряпьем, с присвистом дыша, ожесточенно вбивая палку в непробиваемую землю, он миновал телегу.
– Сумасшедший! По такому морозу! Шуба–то у тебя сквозная! – крикнул Женька вслед.
Тишина окоченевших полей, упрямый стук палки.
– Женечка, это тот самый?
– Да, Митрофан Зобнин.
– Ой, слыхала о нем.
– Носит нечисть. И куда?
– Совесть, поди, покою не дает.
– Да нет у него совести. И была ли?
Стук палки стал тонок–тонок, как звон сухих промерзших травинок, бьющихся под ветерком друг о друга, – вот–вот оборвется…
– Блукает – его дело… Ладно, поехали.
И снова над землей раздался колесный плач, снова Вера прислонилась к Женькиному боку.
В это утро так и не показалось солнце. Незаметно прокравшиеся облака ровно и плотно затянули небо. Неохотно посыпал сухой, редкий колючий снежок, копясь в дорожных выбоинах.
Но Митрофан не выходил из головы. Бродит неприкаянная старая беда по свету, настолько старая и дряхлая, что уже никого не пугает. Но зачем–то шатается, живет, не хочет исчезнуть.
Живет?!
Женька вздрогнул и остановил лошадь.
– Ты что? – спросила Вера.
– В ту сторону… куда шел этот… там у вас кладбище?
– Да. За овражком, в березнячке.
– Так он же на кладбище!
– Нам–то что, пусть ходит.
– Он умирать шел… На могилу. Давно собирался.
И Вера отстранилась.
– Ляжет и замерзнет, скотина. Может, повернем?
Вера промолчала с натянутым лицом, словно изо всех сил вслушивалась – не застучит ли в тишине палка.
– Мы, считай, час едем, – тихо сказала она. – Да туда – еще час…
Женька нерешительно перебирал вожжи. Мертвеца от смерти не спасешь. Митрофан давно мертв. И два часа…
Он неуверенно тронул лошадь.
Вера остаток дороги сидела отстраненно. Чужая смерть встала между ними, сделала чужими. А может, невольное чувство вины: не повернули, не пытались даже спасти, пусть никому не нужную – совсем никому! – жизнь, но жизнь же!… Два часа…
Уже показались крыши села Кислова.
Сыпал реденький снежок, укрывал скованную землю. Первый снег в этом году. И надрывал душу надсадный крик несмазанного колеса.
Едва они въехали в село, как сразу же пришлось забыть кладбищенского Митрофана…
22
Захлебываясь, лают собаки. Напротив магазина толкутся люди, люди торчат и на высоком магазинном крыльце. Падает снежок. Черные люди на белой земле. И остервенелый собачий лай.
Женька скатился с телеги, забыв палку, судорожным сорочьим прискоком кинулся к толпе, стал расталкивать, пробиваясь вперед. Путь преградила широкая спина, хотел потеснить и ее, но стоявший впереди оглянулся – известковая маска, расплывшиеся зрачки истекают мраком – Бахтьяров. Он узнал Женьку, подался в сторону…
На сияющей белой припорошенной земле лежал он лицом вниз, маленький, скомканный, неловко выбросивший вперед единственную руку, в коротком пальтишке шинельного сукна, раскидав в стороны валенки с галошами. Шапка свалилась с головы, снег падает на жидкие белесые волосы.
А над ним, распушив загривки, прыгают собаки – глаза налиты кровью, уши прижаты, желтые клыки напоказ, и захлебывающийся бешеный лай. Маленький, скомканный, без шапки – великий господин на земле. Он изнемог, не смей его тревожить! Остервенелые оскалы, красные глаза, рычание. Великий господин изволил лечь посреди улицы… И люди свято блюдут невидимую черту, дальше которой им заказано переступать, кто потрусливей – прячутся за спины, митингуют в задних рядах, размахивают руками.
– Настька Семехина первая его увидела…
– Уже с полчаса лежит.
– Шестом бы их…
– Попробуй. Поглядим–резво ли ты бегаешь.
– Ишь, загривки–то!
– Ружьишко бы…
– Есть у старой Нютки, что сторожит горючее.
– Ружье–то у нее есть, да патронов нету.
– Живой ли?
– На мерзлой земле и здоровый загнется…
Желтеет на белом снегу кисть руки, валяется возле нее серая армейская ушанка. Собаки, напружинившись, стоят перед шевелящейся толпой, скалятся.
Женька дернулся вперед:
– Я отвлеку собак… Тащите его!
Рука Бахтьярова тяжело легла на плечо:
– Не сметь! Изорвут.
Из толпы поддакнули:
– Да уж, в клочья.
– Еще один покойник будет.
Держа Женьку за плечо, Бахтьяров сказал:
– Сейчас… участковый с оружием… Я послал.
Известковое лицо, тусклый голос… И колышется вокруг толпа.
– А вон и он… – возглас позади.
– Милиция да пожарные – всегда последние!
– Скорей, брат, скорей. Давно ждем!
Участковый Уткин в черном, туго перепоясанном широким ремнем полушубке, просторно тяжелый, красный, запыхавшийся, прорезал толпу, встал, расставив валенки.
Собаки взъярились с новой силой, припадали к земле, хрипли от лая.
– А ну, все… по сторонам! – участковый Уткин произнес это негромко, и, наверное, многие из–за лая не услышали его голоса, но все поняли.
Вместо со словами Уткни скупым жестом вынул из кобуры наган, чеканно–вороненый, с хищным топким стволом. Под мирным небом села Кислова такая вещь не часто появлялась на свет божий. При виде нагана толпа расплеснулась – одни хлынули к магазину, другие тесным роем сплотились за овчинной надежной спиной участкового. И все замерли, и даже собаки на минуту оборвали лай. В тишине хрустнул взведенный курок.
– Смотри, брат, не влепи в лежачего, – трезвенько предупредил кто–то из–за плеча.
Подняв хищный ствол, участковый враскачку двинулся, но не прямо на собак, а по дуге, выманивая в нужную сторону. Собаки разрывались в лае, припадали к земле. Наконец одна рванулась прямо на ствол. Хлопок! Собака перевернулась в воздухе, покатилась по земле, завизжала. Вторая перемахнула через нее. Хлопок! Хлопок! Лохматая морда уткнулась в валенки участкового Уткина.
И толпа вздохнула, зашевелились, загудела сдержанно:
– Чисто сделал.
– Заработали себе, дурьи головы.
Первая собака продолжала визжать и кататься по застланной ярким снежком земле. Участковый сверху вниз в упор дважды выстрелил в нее.
Женька одним из первых подскочил к Кистереву.
Его осторожно перевернули на спину. Он лежал, уронив за голову единственную руку, падал снег, и снежинки не таяли на костисто–желтом лбу. Голубые, ничуть не потускневшие глаза успокоенно и важно взирали в небо, куда–то в незримую бесконечность.
Уткин, пригнувшись, обхватив за грудь, Женька бережно придерживая падающую голову, какой–то доброволец из толпы в ногах, обутых в валенки с галошами, медленно, толкаясь, неслаженно понесли тело к сельсовету. Бахтьяров, не сводя разлитых зрачков с разглаженного лица Кистерева, шагал рядом, слепо спотыкался на каждом шагу.
А сзади, плотно сбившись, двигалась толпа – скорбно сморкающиеся, утирающие слезы женщины, среди их платков то там, то сям торчали шапки мужчин. Молчание, шорох одежды, хруст снега под ногами, прерывистое дыхание несущих.
На крыльце сельсовета стоял Чалкин, зябко зарывающийся подбородком в шарф, и надсадно прямой, в распахнутой дошке Божеумов. Толпа, торжественно молчащая, пугающе медлительная, двигалась прямо на них. И они при ее приближении беспомощно зашевелились: Чалкин шагнул было навстречу, остановился, передернул плечами, втянул голову, отступил в сторону. Божеумов потоптался на месте, словно решая, куда деваться, сошел, с крыльца, остолбенело вытянулся.
Бахтьяров первый поравнялся с ними. Распрямил пухлую спину, с натугой повернул крупную голову, бросил отрывисто:
– Пройдите в кабинет. Ждите меня.
Отрывисто, вполголоса.
И Женька понял: обстановка изменилась – с этой минуты Бахтьяров снова хозяин Нижнеечменского района.
Участковый Уткин, не сняв полушубка, занял стол Веры, углубленно сочинял отчет о случившемся.
– «Собак пришлось»… «Аннулировать» – через два «нэ» пишется или через одно?…
Женька следом за Бахтьяровым прошел в кабинет. Чалкин и Божеумов ждали их.
Чалкин при появлении Бахтьярова встрепенулся, уставился тревожным вопросительным взглядом. Божеумов выпрямился и застыл.
Бахтьяров занял место за столом. На кумачовой скатерти – лиловое пятно от пролитых Кистеревым чернил. Чернильный же прибор стоял, однако, на своем месте – стеклянная чернильница на подставке из тусклого мрамора.
Складки на лице Бахтьярова утратили свою рубленую резкость, само лицо – известковость, рыхлое, мятое, старческое, без былой тяжеловесности.
Чалкин заговорил первым:
– Иван Васильевич, что с ним?
– То, что нужно было ждать.
– Но почему это он на улице оказался? Словно сам смерти искал.
– Искал возможности жить… – глухо возразил Бахтьяров. – И что-то делать. С утра почувствовал себя лучше и поднялся… Таких смерть настигает на полпути.
– Больной человек, ненормальный, – подал голос Божеумов.
Бахтьяров повел в его сторону глазом, холодно ответил:
– Никто вас не собирается обвинять в этой смерти, товарищ Божеумов. Чужой смертью себя оправдывать!
– А я вовсе и не собираюсь оправдываться! – с вызовом возразил Божеумов.
Бахтьяров налег пухлой грудью на стол.
– Я вас позвал не в связи с кончиной Кистерева, а чтобы сообщить свои окончательные решения, к которым пришел в последние дни.
– Да, да, слушаем, – откликнулся Чалкин.
– Я подаю в обком партии официальное заявление, где доказываю, что действовать через бригады уполномоченных – порочный метод. Как вы понимаете, я постараюсь мотивировать это.
Божеумов хрустнул переплетенными пальцами на колене. Чалкин озадаченно глядел и молчал.
– Я буду настоятельно просить обком, – продолжал Бахтьяров, – оставить на местах те скудные резервы хлеба, заготовку которых вы производите сейчас.
– Тэ–эк! – протянул Божеумов. – Никак не новенькое. Ну, а еще чем вы нас обрадуете?
– Еще буду решительно требовать немедленного освобождения Глущева, Вот мои решения. Ваше дело – согласиться или протестовать.
– И вы еще думаете, что мы можем согласиться с вами? – спросил Божеумов.
– Лично вы – не думаю. Нет! А бригада… Не все в вашей бригаде такие, как вы, Божеумов. Многие, наверное, тяготятся выпавшими обязанностями. Что вы скажете, Чалкин?
Чалкин сосредоточенно помаргивал под очками, соображал.
– Я протестовать не намерен, – сказал он негромко.
– Что–о?! – удивился Божеумов.
– То, что ты слышал, голубчик. Не буду протестовать!
Бахтьяров пожал губами, покачал головой.
– Этого мало, Чалкин, – устало, без напора, произнес он. – Не протестовать, но и не поддерживать. Ни на той, ни на другой стороне… Не получится! Вы участник событий, Чалкин. Вам придется выбирать позицию.
– Наша позиция выбрана. И не нами!… – возвысил голос Божеумов. – Вы запамятовали, Бахтьяров, что мы посланы сюда с готовым заданием!
– Да, вы правы – приехали с готовым заданием, столкнулись с жизнью, вынуждены решать: выполнить это кем–то придуманное задание или отказаться от него?
– Вот именно – отказаться, сдать позиции! – выкрикнул Божеумов.
– Слышите, Чалкин, как мы недовольны вами – и я, и Божеумов, оба. Довольны ли будут другие?
Чалкин долго сидел согнувшись, смотрел в пол, наконец пошевелился:
– Мне пора на покой.
– Что это значит?
– Значит – напоследки крутить и изворачиваться навряд ли стоит. Значит, считайте, что с вами буду…
Божеумов вскочил со стула:
– Вам на покой! Может, и мне прикажете на покой? Не вый–дет, Иван Ефимович! Я тут вам не слуга покорный! Не–ет! Меня поддержат, не вас! Там, наверху, когда нас посылали, наверное, думали, а не на картах гадали! Лезьте в петлю, если хотите, меня не тащите!
Чалкин искоса, нехотя взглянул на него:
– Петля тебе страшна, а целый район пусть загибается?… Дорого же ты себя ценишь, друг Илья.
– Ценю доверие, которое мне оказали! Спасайте перед смертью кого хотите, меня не невольте!
– Вот и договорились. Ты – сам по себе. Я же попробую заручиться поддержкой всей бригады. На этом и кончим.








