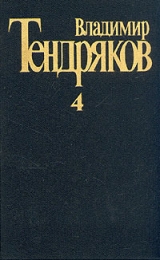
Текст книги "Три мешка сорной пшеницы"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
3
Грузовик–полуторка, сельское детище военных лет, сколоченное, свинченное из других погибших грузовиков, с рычанием, смахивающим на истерику, вгрызался в грязную дорогу. Обшарпанный кузов качало, как на морской волне. В нем страдали два знакомых угрюмых пса, которых волочило от борта к борту.
Божеумов занял место в кабине, рядом с шофером, Женька – в кузове, на смятом мокром брезенте, бок о бок с председателем Кисловского сельсовета Кистеревым. Его искусственная рука упрятана от дождя под брезент. Женька поинтересовался:
– Зачем вы ее с собой таскаете, если не носите?
– Для парадных случаев.
– Где ранены?
– Хотите спросить: где покалечен? В безымянной степи, на подступах к хутору, название которого так и осталось для меня тайной.
Сидит напряженно прямо, держась за борт едипственной рукой, лицо под мокрой кепчонкой хрупко–костистое, упрямо хранит капризное выражение ребенка, презирающего взрослых. Тонкие губы сложены в пресыщенно ядовитую складку, а линия заостренного подбородка невинно чиста – старичок–подросток; трудно сказать, сколько ему лет, – может, с небольшим за двадцать, может, все пятьдесят. Вот уж воистину – маленькая собачка до старости щенок.
какое-то время ехали молча, отдавшись качке. А мимо тянулись широкие поля, знаменитые поля Нижней Ечмы, – в гнилой стерне, размокшие, еще более унылые и однообразные, чем ровное нависшее небо. Глаз невольно с тоской рыскает по ним, ищет признаки жизни: не выглянет ли из стерни обугленно–черная голова грача, не вспорхнет ли озябший жаворонок, – но нет, пусто, пусто, безнадежно мертво кругом. Только где–то на краю, забитые в щель между плоской землей и плоским небом, – темные крыши деревенек, почему–то трудно поверить, что и в них кто–то сейчас живет. И грязная, истерзанная дорога – рваная рана на неопрятной, до бесстыдства небритой земле. И с истерическим воплем лезет по грязи машина. И качается кузов, и маются две собаки с мученически угрюмыми мордами, сползают то к одному борту, то к другому.
– Вы что же это не всю свору захватили? – не выдержал молчания Женька. – В село собак вокруг вас было около десятка.
Кистерев, глядя вдаль, чеканной скороговоркой и ясным голосом ответил:
– Эти – моя семья. Те, что остались, – добрые знакомые. Так что – свиделись и расстались до новой встречи.
– Вы только передо мной шута разыгрываете или всегда такой?
– Придурковатый? – подсказал Кистерев.
– Да уж, не в обиду, – вроде этого.
– А кто в жизни без придури? Вот вы, например, едете сейчас собирать хлеб, когда он давно уже собран и вывезен. Собрать собранное, искать найденное, глотать проглоченное – не придурь ли это?
Машину вдруг бросило, собаки скатились на Женьку, на собак – Кистерев. Собачий визг, тенористое чертыхание Кистерева, Женькино сопение. Наконец кой–как отделились друг от друга, – машина по застряла, вихляя кузовом, плелась дальше, захлебывалась в истерике. Посреди кузова каталась вырвавшаяся из–под брезента рука Кистерева, подпрыгивала Женькина мыльница. Женька на коленях добрался до протеза, поймал мыльницу, стал искать глазами свою полевую сумку. Она оказалась под ногами у Кистерева. Тот выудил ее, зажав сумку между коленями попытался запихнуть вывалившееся полотенце, мешала книжка, Кистерев вынул ее, взял в зубы, справился с полотенцем, повертел перед глазами книжку:
– Вон как! Кампанелла, «Город Солнца».
– Дайте сюда! – Чего доброго, еще над этим начнет издеваться.
– Не беспокойтесь, почтительно положу на место.
Женька упрятал в брезент протез, Кистерев вернул ему застегнутую сумку, собаки на время пристроились в заднем углу кузова, с надеждой прижимаясь друг к другу, – прежний порядок был восстановлен.
Кистерев какое-то время заинтересованно разглядывал Женьку, наконец спросил:
– Как это вас бросило?
– Куда бросило?
– На утопию. «Город Солнца» – сказка о праведном мире.
– А что тут такого?
– Вы же из окопа только что выскочили.
– Окоп, по–вашему, человека снова обезьяной делает: думать не смей, интересоваться не смей!
– Окоп – самое трезвое место на земле. В нем не до сказочек. Или не так?
– Я эту книгу у раненого взял, значит, не я один в окопах сказочками интересовался.
– Мда–а… Мечтатели в обнимочку со смертью. Ликуй, святой Томмазо!
– Вы, вижу, Кампанеллу не очень…
– А разве можно к нему теперь – очень?
– Это почему же нельзя? – обиделся Женька.
– Триста лет назад он надавал людям кучу советов: как из плохого мира сделать мир хороший. Триста лет прошло, а советы так до сих пор и не использованы. Значит, одно из двух: или все человечество глупо – не умеет их использовать, или глупы сами советы. Вы считаете – глупо человечество?
– Есть ли для вас святые люди? – Женька уже не скрывал недоброжелательства.
– Часто вижу и вам покажу. Святые апостолы нынче председателями колхозов работают.
– И какая польза от этих апостолов?
– От святости никогда большой пользы не было. Пользу делают те, кто не боится согрешить.
– Интересно бы хоть одним глазком посмотреть на такого, кто выше святости.
– Вы сегодня видели одного.
– Кого?
– Ивана Васильевича Бахтьярова, который вас принимал.
– Не видно, чтоб он большую пользу своему району принес. Без хлеба сидите.
– Бахьяров в нашем районе месяц с неделей.
– Тогда что же он сделал такого?
– Да у него подвигов – что у Геракла. В тридцать третьем году он спас от голода свое село да еще помимо него многих. А через пять лет на голом месте поставил город – полсотни двухэтажных домов, залюбуешься. А в войну, в сорок втором – уже и вовсе великое: накормил тысяч двести человек! Иисуса Христа славят: мол, пятью хлебами–пять тысяч, чудо! Бахтьяров – без чудес, греша по мелочам: где–то нарушал втихомолку инструкции, где–то ловчил, даже вымогательством занимался, если видел, что лежат неиспользованные кредиты, заброшенные земли, бесхозные стройматериалы. Не святой, нет. И не чудотворец.
Машина завывала, изнемогая в муках и трудах. И поля кругом не двигались – стыли в величавой унылости. Казалось, они засасывают в себя машину, она лишь роется на месте, судорожит расхлябанным корпусом, не продвигается вперед.
Женька произнес с надеждой:
– Ну, тогда он и этот район…
Кистерев ничего не ответил, глядел мимо Женьки в мутную даль, подергивал скулой.
– Здесь – не двести тысяч, здесь легче накормить…
Кистеров не отвечал. Кузов качало из стороны в сторону. Ползали по кузову собаки, не находили себе места.
4
Кисловский сельский Совет – две полутемные комнаты, занимающие чуть ли не весь каменный низ двухэтажного дома, наследство забытого всеми купчишки.
Актив уже собрался и ждал. Главным образом женщины, закутанные в платки, какие–то кротко–печальные, беседующие голова к голове с тихим шелестом. Мужчин только двое: хромой старичок с сепараторного пункта да представитель МТС, белобрысый человек с лицом, словно навечно закисшим в плаксивости.
Распоряжалась всеми легко, бойко, весело секретарь сельсовета Вера, румяная, широкобедрая, слепящая белозубым оскальцем девица.
Божеумов и Кистерев уселись за председательский стол, Вера пристроилась у того же стола на торце, положила перед собой лист разграфленной бумаги, как–то по–особому певуче выгнула спину, приготовилась записывать выступления.
Кистерев тихо, не вставая, домашним голосом открыл собрание актива и сразу же предоставил слово Божеумову.
Женька Тулупов знал этого человека еще с довоенных времен – Илья Божеумов работал завхозом в их школе. Был он тогда криклив, суматошен, за длинные ноги ребята его прозвали Циркулем.
В начале войны Божеумова не взяли в армию – нашли очаги в легких, – однако отправили на трудфронт в рабочий батальон. Рассказывают, что вернулся он скоро, еле передвигал ноги, держался за стенку. Но отлежался, отъелся на картошке и снова забегал: «Работку бы мне сподручную, на тяжелую теперь не годен».
Как–то в порядке общественной нагрузки его послали с подпиской займа в Пунькино–Осичье. Это едва ли не самая глухая деревня в Полдневском районе, народ в ней лесной, упрямый, к общественным мероприятиям всегда глух, от займов отлынивал. И вот эти–то пунькинцы у Божеумова оказались на первом месте в районе по подписке. Божеумов сразу же был примечен Чалкиным, взят на работу в райисполком. Месяц назад его перевели завотделом сельского хозяйства. Отдел ведущий, Божеумов, по сути, стал правой рукой Чалкина.
Если Божеумова спрашивали, чем же ты берешь: у тебя и госпоставки легко выполняют, и на заем без особых затруднений подписываются, и в лес по разнарядке быстренько выезжают, поделись, каким секретом пользуешься, – Божеумов отвечал:
– Секрет тут один, веди себя подобающе, чтоб видели – ты не шуточки шутить явился.
Сейчас для Божеумова – особое в жизни собрание. Он еще никогда не появлялся перед народом с таким солидным мандатом, с такими высокими полномочиями. Он сегодня не фигура районного масштаба, а наделен правом говорить от имени области. И, уж конечно, шутить не намерен.
Чуть надломленный в лопатках, свесив нос, свесив волосы, Божеумов опирался костяшками пальцев на стол, бросал взгляды исподлобья и говорил ровно и глухо:
– Область послала к вам целую бригаду. Это, товарищи, последняя мера. Мы вынуждены поставить вопрос ребром: или хлеб, или саботаж! Других разговоров с вами не будет…
Ровно и глухо, без крика, без надрыва – обычно от такого подхода слушателям становилось зябко.
Но сейчас активисты и слушали, и не слушали, глядели без выражения в сторону, терпеливо ждали, когда приезжий оратор выдохнется. Для Божеумова – особое собрание, а для них–то – самое обычное. Сколько здесь прошло уполномоченных! Наезжали и не такие, не такими басами сотрясали воздух. Взгляды в сторону, послушание и терпеливость на лицах.
Божеумов сел, потный, бледный, недовольный собой. По собранию прошел шорох, раздались полуоблегченные вздохи, еще ниже пригнулись головы – на всякий случай, чтоб не бросаться в глаза.
Кистерев никого заставлять не стал, заговорил сам, опять домашним негромким голосом, словно извиняясь за Божеумова:
– Наш уважаемый гость не знает нашей обстановки, потому–то не совсем верно вас ориентирует, товарищи…
Божеумов откинулся назад, округлил глаза, нацелился на Кистерева гнутым носом.
– Вот тут вы, товарищ Божеумов, стращали нас. А вам было страшно, товарищи?.. Да нет, не заметно. Вы все сейчас поедете по колхозам, не перенимайте метода товарища Божеумова. Не пугайте понапрасну баб в деревнях. От громкого крика и грозного голоса они не ойкнут и хлеб из–за пазухи к нашим ногам не выронят.
– Послушайте, эт–то пахнет… – у Божеумова посерели губы.
– Вы хотите сказать – выпадом? – спросил Кистерев.
– Нет, прямой деморализацией!
– Ни то ни другое, товарищ Божеумов. Мы давно уже примечаем, что страх в людях умер, а совесть… Представьте себе, совесть еще жива! Так давайте и пользоваться тем, что живо. Давайте соберем баб в деревнях и скажем: «Знаете ли вы, что на фронте каждый день убивают? А умирают ли у вас в деревне каждый день? Нет! Вам трудно, вам голодно – знаем! – но кому трудней – солдатам в окопах или вам, бабы, в своих избах?» Криком, угрозами уже не возьмешь, товарищ Божеумов, а добрым словом можно. Последнее отдадут. Если есть у них это последнее…
За Женькиной спиной кто–то вздохнул:
– Эхма! Что верно, то верно – народ пуганый, какой год с осени бесхлебье.
– Страшней голоду, поди, ничего нет. Немца обломали, а голод остался.
Божеумов переводил взгляд с лица на лицо, встретился глазами и с Женькой – пепельные тени под скулами, в углах сплюснутого рта жесткие складки. Женьке даже вчуже стало жаль его: приехать впервые в жизни с таким мандатом и получить сразу в макушку – не возносись, мол! Запереживаешь.
Божеумов повернулся к секретарю Вере:
– Вы запротоколировали эти рассуждения?
– Нет.
– Прошу вас… Запишите все, и поточней. И еще запишите: я согласен! Да, товарищ Кистерев, вы считаете, что ваш метод даст хлеб. Отлично! Какой может быть разговор… Но вот ежели выяснится, что ваш метод хлебом государство не обогатил… Тогда уж извините. Тогда уж я буду вынужден поставить вопрос о дезориентации… И деморализации! Занесите все это в протокол!
Собрание притихло, женщины прятали лица в платки и отворачивались. Вера растерянно переводила взгляд с Кистерева на Божеумова, с Божеумова на Кисте–рева.
– Записывайте! Что же вы! – прикрикнул на нее Божеумов.
И Кистерев спокойно сказал:
– Запиши, Вера.
Народ разошелся, в комнате, загроможденной лавками и стульями, осталось только четверо: Кистерев, Вера, Божеумов и Женька.
Божеумов широкими шагами ходил от стены и стене. Кистерев сидел за столом согнувшись, на зеленом лице – ввалившиеся глаза, тонкий синий рот.
– Вы и в самом деле рассчитываете добыть хлеб одним лишь добрым словом? – обратился Божеумов к Кистереву.
Тот помолчал, сгибаясь над столом, и наконец обронил:
– Хлеба нет.
– Это как понимать?
– Да так и понимайте. Хлеба нет, его нельзя добыть ни добром, ни злом.
Божеумов повернулся всей грудью, заложил длинные руки за спину:
– Та–ак! Тогда зачем же вы свой метод подсовывали?
– Чтоб вашим не пользоваться, разумеется.
– Та–ак! – Божеумов сделал шаг вперед, грудью на Кистерева, руки по–прежнему заложены за спину: – Не знаю, как вы себя вели на фронте, а здесь вы пораженец, Кистерев! Даже удивительно, как таким доверяли взвод!
– Мне доверяли батальон.
– Тем более страшно.
– Где вы раньше были, товарищ Божеумов? Проявили бы ко мне недоверие, перед тем как отправить на фронт, глядишь, был бы я сейчас таким, как вы, – с двумя руками.
– Откуда–то вы принесли пораженческие настроения. Государство это должно насторожить.
– Вы, похоже, путаете себя с государством.
– Я здесь не по своему желанию, меня сюда послало го–су–дар–ство, Кистерев. Вы этого не поняли, так поймете!
– Смотрю, вам очень хочется напугать меня до смерти.
– Не храбритесь, Кистерев, не храбритесь. С пораженцами у нас теперь разговор короткий.
Минутное молчание, затем тихий, с усилием голос Кистерева:
– Поглядите на меня, Божеумов. Поглядите внимательней – кого вы пугаете? У меня не только рука откушена, я еще ношу в себе, как дорогую память, под сердцем несколько железок. Врачи не могут понять, почему я до сих пор еще жив. Вы пугаете, Божеумов, а ведь самое страшное, что может случиться с человеком, со мной уже случилось. Что еще?.. Что на свете может испугать меня?… Молчите, Божеумов. Не знаете, что сказать… Сказать нечего…
Божеумов молчал, он смотрел на Кистерева, и лицо его с хрящеватым большим носом постепенно стало испуганно–асимметричным. Кистерев был голубовато–бледен, на его лбу, словно роса на камне, лежал пот. Он попытался встать, и ному бросилась Вера:
– Гос–по–ди! Опять?
– Похоже…
– Обопритесь на меня, Сергей Романович. Вот так, вот так… Раньше проходило, и теперь ничего…
Кистерев доверчиво обнял единственной рукой крепкую белую Верину шею, Женька кинулся расталкивать стулья и скамьи, прокладывать проход к двери. Божеумов, по–прежнему окостеневше прямой, растерянно и чуть брезгливо взирал на них сзади.
Из двери в дверь, пять шагов по коридору, – маленькая комнатушка. В ней стояла железная госпитальная койка, стол на хлипких ножках, стул. На койке валялся знакомый протез…
Кистерева уложили на койку, накрыли одеялами, сверху набросили полупальто из шинельного сукна. Наружу торчала из–под одеяла детская макушка, заросшая редкими белесыми волосами.
За стеной, под низеньким оконцем, раздался вдруг надрывный, раздирающий душу вой, его подхватил второй голос, хриплый, с глухими утробными модуляциями.
Женька вопросительно посмотрел на Веру, та объяснила:
– Собаки учуяли. Каждый раз, как Сергей Романыч свалится… Рядом не были, ничего не видели, а на вот – заводят… Ишь, как страдают.
У Женьки от собачьего воя першило в горле.
5
Над сельсоветом, на втором этаже, для наезжающих уполномоченных была отведена специальная комната – две койки и тумбочка.
С вечера собаки вроде притихли, но в середине ночи их словно прорвало. В два голоса под самым окном то вперебой, переливисто, истошно тенористо, с подвизгиванием, то труюно, рвущимися басами – при обморочной тишине спящего села.
Божеумов ворочался, ворочался, наконец поднялся: «Чтоб вас разовало, треклятые!» – зажег лампу, спросил:
– Ты спишь?
– Тут мертвый проснется, – нехотя ответил Женька.
Божеумов сидел на койке в обвисшем, слишком просторном для его костлявого тела белье, сквозь ворот рубахи проглядывала ребристая грудь, лицо кривилось как от зубной боли. Собаки внизу надрывались в звериной тоске.
– Скажи мне, – заговорил Божеумов, – но скажи откровенно, не бойся обидеть – за что ты, к примеру, не любишь меня?
– Ты что? – удивился Женька. – Мы вроде не пьяны, чтоб среди ночи выяснять – ты меня любишь, ты меня уважаешь?
– Все не любят, не только ты… Вот Чалкин… Без меня как без рук, хвалит, выдвигает, а рядком посидеть – нет, нос в сторону. И тебя сейчас к стенке воротит, тебе со стенкой приятнее, чем с Божеумовым…
Выли в ночи собаки, сидел на койке в серых кальсонах непохожий на себя Божеумов, глаза у него в эту минуту были влажные, блуждающие.
– Люди больше блаженненьких любят, вроде Кистерева, – продолжал Божеумов. – И тот это знает, выламывается, красавчик: глядите, мол, какие у меня белые ручки, ни пятнышка на них. А подумать, ведь только бездельник незапятнанным может сохраниться в наши–то дни. Страна в крови, в петле – война не мать родная, – гляди и оба, успевай только чистить, чтоб не заржавело. Гордиться надо, что но белоручка.
– Ты что-то путаешь – чистые руки с чистой совестью, – возразил Женька.
– А разве это не одно и то же?
– Грязь на руках обычно от труда, так сказать, след пользы, а совесть пачкается вовсе не от полезных усилий.
– «Не от полезных усилий…» Красивых словечек из книжек понахватался. Полезному–то делу всегда кто–то крупно мешает, а раз так, то тесни его с дороги. А он дорожку–то за будь здоров не уступит – упрется, да еще юшку тебе пустит.
– А вдруг да ты ошибаешься – не того, кого нужно, потеснишь? – спросил Женька.
– Не могу ошибиться, – возразил Божеумов, – Недопустимо!
Ни намека на спесивость, только убеждение, выношенное, твердое, не терпящее возражений. Женька даже растерялся.
– Ну–у!.. Да ты бог, что ли?
– Я маленький человек, – ответ с прежней твердостью.
– что-то новенькое для тебя.
– И – маленький человек, – повторил Божеумов упрямо. – Не сам нужную линию выдумываю, мне ее указывают: так держать! Мое дело проверять – по струнке идешь или на сторону тебя заносит.
– А ежели кого нечаянно чуть занесет, меня хотя бы, – простишь?
– Нет.
– Даже если нечаянно?
– Война, брат, война! Враг кругом, отец родной подвести может. Начни кому поблажку давать – совсем распустишься.
– Вот и ответил сам себе.
– Что – ответил?
– О чем недавно спрашивал: почему тебя не любят.
– Чтой–то не пойму.
– А что не понимать – ты в каждом врага видишь, почему все тебя другом считать должны?
Божеумов долго молчал, блуждал взглядом, помаргивал на лампу, скреб грудь. Выли под окном собаки.
– Мда–а, – протянул он наконец. – А ты ведь прав, парень. Молодо–зелено, а вот ведь в точку попал. Время-то нынче шибко серьезное – война смертельная, а раз так – о любви не мечтай… Раскис я.
– Вот видишь, как легко и просто.
– Легко – не легко, а распускаться не смей.
Взгляд Божеумова успокоился, лицо обрело обычную значительную уверенность. Он полез под одеяло:
– Собаки треклятые, от них любой свихнется. Эвон надрываются – душу мутит.
А Женька поднялся, сунул ноги в сапоги, накинул шинель.
– Ты куда это?
– Собаки надрываются… Вдруг да с хозяином совсем плохо. Пойду проверю.
– Ну–ну…
Божеумов повернулся к стене.
В темном коридоре тускло светилась щель неплотно прикрытой двери. Женька осторожно заглянул. Горела на столе лампа в окружении склянок и коробочек с лекарствами. На табуретке, сложив на коленях руки, сидело Вера. Она вскинула, как конь, головой, уставились из–под отяжелевших век на Женьку.
– Извините. Может, чем помочь?
Вера покачала головой.
Из–под кучи одеял, пальто, полушубков по–прежнему торчало беззащитное, в редких светлых волосах темя.
– Спит?
– Только что стонал… А уж если Сергей Романыч стонет, то, значит, плохо… – Вера поспешно вскочила: – Ой, да что это я! Присаживайтесь!
– А вы стоять будете?
– Я вот в ногах на койке приткнусь… А ведь похоже, что спит. Вот хорошо–то бы. К утру, глядишь, и полегчает.
Лицо Веры менялось на глазах, только что было бледное, стертое, глаза маленькие, тупо мигающие, а сейчас – греющий румянец по скулам, голова откинулась назад, веки утратили тяжесть и за ресницами беспокойный блеск.
– Вы что же, одна дежурите? – спросил Женька.
– Кому–то надо. Родных у Сергея Романыча нет. Фельдшерица ночь напролет сидеть не может, вот утречком – пожалуйста, придет, подменит меня.
– Он не здешний, Сергей–то Романович?
– Откуда–то недалече. Бахтьярова, секретаря райкома, знаете? Земляки они вроде.
– А почему он здесь оказался?.. Без родных, больной, в чужом месте?
– Поди, в тягость родным быть не хочет. Явился и живет. Вот уж год как.
– Странный он, вам не кажется?.. Эти собаки, эти речи, никого не признает, ни с кем по считается…
Бора помолчала с минутку и вздохнула:
– Потревоженный он.
– Как понять?
– Хочет еще что-то сделать, мечется: то жалеет людей, то клянет их – собаки–де милей. Жить, мол, мало осталось, так надо не тянуть, а бросаться на все, что пользу обещает. Возле него и ты начинаешь кипеть да разбегаться. Словно и у тебя жизнь вот–вот кончится – спеши давай.
– Я его понимаю, – задумчиво заметил Женька.
Вера проблестела глазом в его сторону:
– Сергей Романович, мне сдается, и сам–то себя не понимает.
– А я понимаю: тянуть, ждать смерти – занятие унылое. Уж пусть лучше – спеши давай.
– Смерть–то, поди, унылее жизни, – скуповато возразила Вера, пряча нескромный блеск глаз.
И Женьке стало неловко, словно Вера упрекнула: сам–то небось собираешься жить долго, а других торопишь.
– Он предложил мне поехать в колхоз «Красная нива». Говорит, там какой–то необыкновенный человек живет, – перевел разговор Женька.
– В «Красной ниве», в Княжице? – удивилась Вера. – что-то не помню, а уж всех там знаю с мала до велика. Сама–то я из деревни Юшково, всего пять километров в сторону.
– Может, председатель колхоза это?
– Адриан Фомич?.. Старик хороший, только что в нем особого? Необыкновенный? В Княжице? Нет, что вы!
Наступила тишина. Торчит из–под груды одежды беззащитная мальчишеская макушка. Вера сидит в ногах у больного, стеснительно теребит пальцами пуговицу на груди, скромно опустила веки, но мечутся под ними глаза, и все горячей и горячей румянец на твердых щеках.
– А собаки–то замолчали, – спохватился Женька.
– Да… И Сергей Романыч уснул. Кажется, опять пронесло…
Снова неловкая тишина, мальчишеская макушка, и на лице Веры пышущий румянец, веки опущены и немая жалобная просьба: уж лучше бы ты ушел… И Женька стал торопливо прощаться.
Наверху все еще горел свет, но Божеумов, повернувшись лицом к стене, спал, летуче, по–детски, посапывая.
Утром в сельсовете начался трезвон. Звонили из райкома, из райисполкома, из райзо, из конторы уполминзаг, требовали примерные цифры, спускали сроки, просили указать, кто персонально в какие колхозы направлен. Толкались вчерашние активисты, одетые по–дорожному: в сапогах, в плащах, с сумками, с портфелями. Одни из них выясняли – на чем добираться, другие пытались дозвониться в подопечный колхоз – пусть встретят, третьи просто выжидали – на ретивых воду возят.
Всю суету возглавлял Божеумов, висел на телефоне, ругался, ставил на место, получал сведения, просил соединить себя с Чалкиным. Вера бегала с какими–то бумагами, подсовывала их под локоть Божеумова, на ходу объяснялась с активистами…
Женька ждал подводы из «Красной нивы», глядел на суету со стороны, сопереживал и время от времени вспоминал слова Кистерева: «Собрать собрание, искать найденное, глотать проглоченное…» Телефонная перебранка, приказы, требования, запросы – крутится карусель. А нужна ли она… «Собрать собранное, искать найденное…»
Женька чувствовал странное раздвоение в душе. Чтоб как–то спастись от самого себя, он решил навестить больного Кистерева.
Кистерев лежал всеми забытый, даже Вере было не до него. В комнатушкео с побеленными стенами было душно и жарко, и из–под овчинно–суконного вороха выглядывало распаренно–розовое, словно после бани, лицо. Веки дрогнули, приподнялись, открыли глаза, мутно–синие, как весенний лед.
– Как вы себя чувствуете?
– Буду жить, – тихо и серьезно ответил Кистерев.
Женька не удержал шумного облегченного вздоха.
– А зачем?..
– Что – зачем? – спросил Женька.
– Буду жить.
– Неужели вам жить не хочется?
– Хочу.
– Тогда что и спрашиваете?
Кистерев повернул к Женьке воспаленный глаз:
– Я – человек, а не трава. Хочу знать – зачем мне жить?
Женька помялся с ноги на ногу.
– А вам не приходилось под обстрелом кричать про себя, – сказал он: – Жить! Жить! Хотя бы часок! Хотя бы эту минуту!
– Было, – согласился Кистерев.
– Тогда небось не спрашивали – зачем?
– Жить?.. Жить?.. У меня, юноша, от жизни одни лохмотья остались.
– Так это же все-таки лучше, чем ничего.
– Возможно.
Кистерев прикрыл мутные глаза и замолчал. Женька, постояв, помявшись, уже хотел тихо выйти, но Кистерев снова повторил:
– Жить?..
Веки поднялись, глаза, направленные на Женьку, были уже не мутные, не воспаленные – осмысленные.
– Есть вещи на свете, за которые я бы сменял теперь жизнь. Даже не такую, какая у меня сейчас, не излохмаченную – здоровую. Да!
В эту минуту открылась дверь, и в комнату бочком протиснулся высокий старик. Был он тощ и прям, лицо бескровное, правильное, какое-то чисто вымытое, сивая бородка лопаточкой, маленькие живые глаза. Оп прирос плоской спиной к косяку, участливо произнес:
– Что, Романыч, опять свалило?..
Кистерев кивнул, посмотрел на Женьку. И Женька понял – это тот самый, обещанный… Он поднялся с табуретки, протянул старику руку:
– Вы из «Красной нивы»?
– Оттуда. Глущев я, председатель, – старик, оторвавшись от косяка, осторожно подержал Женькины пальцы в шершавой ладони. – За вами, выходит, приехал.
– Я готов.
– Обиходят ли тебя, Романыч? – повернулся старик к Кистереву. – Не нужно ли чем помочь?
– А чем ты мне поможешь, Фомич? Ты не бог, мне здоровья не отвалишь.
– Может, тебе помельче что нужно – не богово, человечье?
– В том–то и дело, Фомич, мне теперь все мало… Даже полного здоровья…
– А ты поторгуйся с собой, вдруг да согласишься и не на полное – лишь бы ноги носили. Что уж…
– Мы как–то село заняли, – заговорил тихо Кистерев, глядя в потолок. – Я еще ротой командовал. Ворвались мы, глядим – на площади виселица. Каратели бабу повесили, за связь с партизанами, что ли. Смотрим – детишки в сторонке. Девчонка тощенькая, лет десяти, и мальчонка… Этот и совсем заморыш, ну, лет пять, – ватник рваный на плечах, рукава до земли, ноги босые, красные, как гусиные лапы. Стоят они рядом и глядят, не шелохнутся. Кто такие? Хотели прогнать – не для детишек картина. Оказывается, дети этой… Да, казненной. Рядком, бледные, тихие и без слез. Такое горе, что и у детей слез не хватает. И черные трубы от печей вместо улицы, и дымом вонючим тянет… И меня тогда впервые охватило… До этого я, как все, хотел до конца войны дожить, жениться хотел, детей иметь, зарабатывать… Как все… И тут–то, под виселицей, перед сиротами, понял вдруг я – жена ласковая, обеды на скатерке, детишки умытые, а помнить–то этих стану. И чем у меня лучше жизнь устроится, тем, наверное, чаще в душу будет влезать мальчишка в ватнике, рукава до земли… После этого и начал задумываться: если уж жить случиться, то делай что-то для таких. Для мальчишек, для взрослых, для всех, кто в сиротство попал. Что-то… А вот – что, что?! Если б знать! Жизнь ради этого – да пожалуйста, да с радостью! Хоть сию минуту умру, лишь бы люди после меня улыбаться стали. Но, видать, дешев я, даже своей смертью не куплю улыбок… Так–то, старик.
Бескровно чистое, подбитое аккуратной бородкой лицо старика председателя не выражало ни волнения, ни удивлении, только внимание. Он покачал головой:
– Смертью целишься добро добыть, Романыч.
– Своей смертью, не чужой.
– А ежели вдруг твоей–то одной для добычи недостаточно, как бы тогда других заставлять не потянуло – давай, мол, не жалей, не зря же – добра ради!
Прошла минута, другая, Кистерев лежал, глядел в потолок и молчал. Он так ничего и не ответил.
Молчал и Женька, испытывая в душе странную сумятицу. Ему приятно было спокойствие старика, о которое разбивалась надрывная смятенность больного Кистерева, но согласиться… Нет, Женька всегда считал, что общее для всех счастье можно – иногда должно! – покупать смертью. Не зря же люди славят героев.
Он зашел проститься к Божеумову.
Тот встал, одернул гимнастерку, прошагал на тонких, деревянно ломающихся ногах к дверям, поплотнее прикрыл их, повернулся фасадом – брит, строг, пасмурен.
– Ты что-то, Тулупов, к Кистереву зачастил – и ночью, и днем.
– Не положено?
– Помнить должен – служишь не Кистереву, а бригаде.
– А я-то думал, служу трудовому народу.
– Через нас, Тулупов, через нас – трудовому. А так как в бригаде уполномоченных я как–никак постарше тебя считаюсь, то и вся служба твоя народу только через меня идет. Ясно?
– Не совсем.
– А именно?
– Не ясно, зачем ты мне все это говоришь?
– Вынужден говорить, Тулупов, вынужден. Кистерев твой любезный, – сам слышал, – мутит против нас водичку. А тут все под ним ходят, да и в районе его оглаживают. Сам Бахтьяров готов локотком прикрыть. Так что слепому видно – личность крайне опасная!
– Может, придушить, пока он болен?
– Не иронизируй, Тулупов! Ты – представитель от самой области, поэтому всякие там шуточки напрочь забудь. Едешь сейчас в колхоз, гляди там в оба, чтоб на кривой по объехали. Чуть что – сигналь. И мне! Только мне! Я – Чалкину. Никаких других инстанций для нас здесь не существует.
– Наставляешь, словно мы во вражеском лагере.
Божеумов долгим взглядом проплыл по лицу Женьки.
– Возможно, – сказал он. – Очень даже возможно. Не в гости нас посылали.








