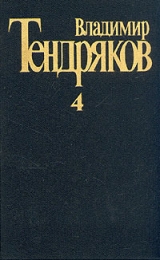
Текст книги "Три мешка сорной пшеницы"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Передай Уткину, пусть оформляет ордер… как положено, с визой прокурора. И побыстрей.
Снова поворот на каблуках к Женьке:
– Пока ты еще на прежнем положении. Пока… Поворачивай обратно в колхоз, сиди там, жди. Придет время – вызовем. Здесь тебе отираться нечего. Хочешь ли, нет ли, а придется сказать старику, чтоб сухари сушил… А вы, кажется, недовольны, товарищ Кистерев? Возразить хотите?
Кистерев каменел на стуле, покоя на коленях единственную руку, поводил глазами, следя за каждым шагом, за каждым движением Божеумова.
– Мое возражение впереди, Божеумов.
Божеумов серьезно, без улыбки, даже с важностью кивнул:
– Подождем.
17
С печи уставилась провальными глазницами больная старуха, время от времени она роняла сдавленный стон:
– Ос–по–ди! Что деется!
С полатей торчала мочальная голова мальчишки. Евдокия у шестка сморкалась в фартук.
Адриан Фомич, только что вернувшийся с молотьбы, сидел за столом с умытым, спокойным лицом, сивая бородка лопаточкой еще мокра после умывания и аккуратно расчесана гребнем. Он хлебал щи и выговаривал Женьке:
– -Ты зря это, парень, на рожон прешь. Добро бы – своя корчажка вдребезги, да моя квашня цела, а то ведь пользы–то никакой.
– Имеет право. Корчажку свою в огонь сую! – Кирилл в нательной рубахе, в темно–синих галифе, заправленных в шерстяные носки, вышагивал от стола к порогу, и половицы постанывали под его плотным телом.
Адриан Фомич с досадою повел плечами на его слова:
– Ты небось свою корчажку в горячее не сунешь.
Кирилл густо крякнул.
– Я тут гость нынче, а он при власти ходит. Позиции наши не одинаковы. Вот я к себе приеду, там я хоть и не в больших чинах, но фигура. Доступ имею. Я там нажму на педали. Уж будьте уверены.
– Ты, Евген, – продолжал старик, – еще ведь не жил, только на первую приступочку ногу заносишь. И на–ко, на первом шагу тебя пихнут. А за–ради чего? Да сторониться не захотел, напролом лез. Напролом–то, парень, не ездют, любая дорога с изгибочками.
– А ежели сторониться в привычку войдет? – хмуро спросил Женька.
– Аль только привычкой человек живет, не рассудком? Рассуди прежде – есть ли нужда прямиком лезть? Не к робости да оглядке зову – к пониманию. Силен медведь, но и его свалить можно при сноровке, жидка тень, да ее не сковырнешь со стены. С тенями не воюй. Какая мне польза от того, что тебя гонять станут?
– Оспо–ди! Оспо–ди, что деется!
– Не–ет, отец, не–ет – возмущает! – опять загудел Кирилл. – Перегибчик с тобой сотворили. Ежели б это зерно у тебя в закутке нашли, тогда и я слова бы не сказал, – хоть и отец ты мне, но ответь по всей строгости!
Светила лампа сквозь туманное, со ржавой заплатой стекло. Всхлипывала и сморкалась в конец платка Евдокия. Торчали с полатей мочальные космы мальчишки. Маячили над печью черные глазницы старухи. Беда движется к этому дому, она близко, она рядом.
Женька гнется на лавке и думает. Адриан Фомич пытается сейчас решать за него. Вчера, пожалуй, и послушался бы его. Сегодня стариковская доброта настораживает. Чуется в ней еще невнятная, еще не ущупанная фальшь.
– Сколько тебе лет, Фомич? – спросил Женька.
– Э–э, милый, под метку дотягиваю. Через три годика семь десятков стукнет.
– А сколько тебе дадут – год, три, пять, может?
– Это уж все едино. Даже год… Разве выдюжу?
Евдокия, тихо давившаяся от слез, пропричитала в голос:
– Кормилец ты наш! Не свидимся!…
И Женька вскинулся:
– О жизни и смерти вопрос! Человек гибнет, а ты подпишись! Если б ты сделал такое – простил бы себе? Нет, всю бы жизнь себя клял. На клятую жизнь толкаешь!
Адриан Фомич ничего не ответил. Сдавленно подвывала у шестка Евдокия.
– Что деется! Ос–по–ди! – глухой стон с печи.
Кирилл остановился посреди избы, громадный, всклокоченный, растерянный.
Адриан Фомич отодвинул от себя миску с недоеденными щами, поник над столом лицом.
– Да–а, – выдавил он. – Совесть зла… С ней не поладь – заест. Что ж, может, ты прав, парень.
Женька не поддался, решил по–своему. Кистерев был бы им доволен сейчас. Горькая гордость от ненужной победы.
А утром, до рассвета, при стынущих звездах, Адриан Фомич, как всегда, побежал сзывать баб на работу. Оставался недомолоченным последний омет…
18
И вот… Возле крыльца лошадь, впряженная в широкие розвальни, щедро набитые сеном.
Евдокия, тихонько подвывая, собирала старика в дорогу. Долгую ли, короткую? С возвратом или без возврата? Ни участковый Уткин, ни кто другой ответить на это не мог.
Участковый сидел на лавке, сняв шапку, в полушубке, громоздкий и смирный, как ручной медведь, вытирал пот. На печи, в пещерном мраке, словно в бреду, металась старуха:
– Оспо–ди праведный! На кого кару наводишь?
И выла вполголоса слепо тычущаяся по избе Евдокия, глядел с полатей, как сурок из норы, мальчишка. Кирилл в гимнастерке распояской, в синих галифе, заправленных в шерстяные носки, нечесаный, неумытый, еще днем опроставший бутылку, крикнул:
– Дусь! На стол подай! Знаешь, где у меня стоит… И–эх! Проводы тебе, отец, вышли. Все садись к столу! И ты, служивый, подваливай.
– Не имею права, – сокрушенно ответил Уткин. – При исполнении обязанностей нахожусь. А вы – давайте. Никак не тороплю. Сколько нужно, столько подожду.
Евдокия сунула на стол бутылку самогона, снова с подвываниями заходила кругами по избе.
Женька за стол сесть отказался. Адриан Фомич сел:
– Щец домашних напоследки похлебаю. И что уж, плесни, Кирюха, для согрева. Только малую…
Адриан Фомич не спеша, сквозь зубы, процедил стопочку, принялся есть свои еще вчерашние щи, не спеша, с той проникновенной, вдумчивой аккуратностью, с какой едят только пожилые крестьяне, больше других знающие, какова ценность пищи. Кирилл опрокинул в себя стакан, крякнул. Он был бледен, россыпь веснушек выступила на его тесаных скулах.
– Вот думал, отец, сегодня… Весь день думал: кого я на свете люблю, кто мил?… Уважаю многих, а люб–то мне ты один. На всем свете – ты только!
– Бедновато живешь, – ответил Адриан Фомич.
– Я бедноват, а ты богат лишка, батя. За то и страдаешь – за лишнее богатство души. Встречного и поперечного готов миловать и приголубливать. А то ли время для милованья? Ныне полмира кровью обливается. Раньше–то говорили: кто не с нами, тот наш враг! А теперь враги нам даже те, кто с нами. Вон Англия и Америка – союзнички, пока с нами, но до первого поворота. В такое время очень–то жалостливым быть нельзя: рано или поздно – ожжешься.
– Оспо–ди! Меня накажи, оспо–ди! Меня – нестоящую! Зачем, осподи, добрых людей губишь?
– Вот и ее, батя, ты себе на шею повесил, а зачем? Какая нужда в том?
– Ну, хватя пустое болтать! – оборвал Адриан Фомич, отстраняясь от стола. – Поговорим о деле. Тут Дуська остается с парнем. Меня любишь – полюби–ка их!
– Отец! Евдокия! Слушай!… В жизнь не оставлю! Аттестат переведу. Приезжать буду, следить, чтоб зазря не обижали. Родные вы мне али не родные? От исполнения долгу Кирилл Глущев никогда не уклонялся!
– И ее тоже! – дернул бородкой в сторону печи Адриан Фомич.
– Ее?… – Кирилл потряс отяжелевшей головой и неожиданно согласился: – А пусть… Ежели Дуська не прогонит.
– В жизнь не прогоню, – откликнулась Евдокия со стороны.
– Тогда – пусть…
– Ос–по–ди! Прибери меня, оспо–ди! Хоть энту–то милость сделай, коль на другое тя не хватает!
– Дотлевай, старая, хоть это и на чужом загорбке… Но пусть!
– Она всю жизнь на своем загорбке других возила, – напомнил старик.
Адриан Фомич встал, высокий, плоский, с обычным покойным бескровным лицом, повернулся в угол, к темным забытым иконам, перекрестился.
– Все ли изготовила, Евдокия?
– Ох, готово, родной! Ох, кровинушка наша горькая! На кого ты нас покидаешь, лю–у–убый!
Старик повернулся к участковому Уткину:
– Что, служивый, вези, коли так.
Лошадь застоялась, била копытом в мерзлую землю.
На отдалении толпились бабы и детишки, должно быть, все население деревни Княжицы от мала до стара: вздохи, горькое сморкание, сдавленный шепот. Среди баб, сам как баба – в рваном балахоне распояской, в платочке по волосам, только дико бородат – странник Митрофан, держит в очугуневших от холода руках батожок, глядит недвижными, пустыми глазами. Где–то живет, чем–то кормится, чьей–то пользуется добротой, забыл, видать, о кладбище, вот пришел проводить нелюбимого Адриана Фомича…
Адриан Фомич в лохматой собачьей шапке, туго подпоясанный кушаком, – словно собрался в поле, только котомка в руках. Кирилл, обтянутый ремнями поверх шинели, но без синей фуражки, простоволосый. Плачущая Евдокия, мальчишка–внук в больших валенках, участковый Уткин, смиренно–неуклюжий и нагольном полушубке, и Женька в наспех накинутой шинели, с палкой.
Евдокия кинулась на шею старику.
Слабым тенорком заплакал мальчонка, стал цепляться за деда. Запричитали бабы:
– Фоми–ич! Золотко!
– Стыдобушки у людей нету! Такого человека сердешного!…
– Заботушка ты наша!…
Адриан Фомич отстранил ласково Евдокию, приподнял и притиснулся бородой к лицу внука, шагнул к Кириллу, обнял:
– Помни, Кирюха!
– Эх, отец!
– Одне остаются!
– С себя кожу сыму да согрею.
– То–то.
Женька стоял за спиной родни. Старик подошел к нему:
– Ну, Евген, прощай…
– Нет, до свидания… Еще не конец, Фомич, еще драться за тебя станем. И не только я, Фомич…
– Э–э, золотко, что уж… Ну–ка, обнимемся.
Борода старика попахивала хлебным мякинным запахом.
Старик повернулся к бабам:
– Не осудите, любые. Как мог, так и жил, может, и делал что поперек – так простите.
– Да уж бог с тобой, Фомич, на тебя ли нам обижаться?
– Ласковей тебя мы не знали.
– Заботушка ты наша…
Участковый Уткин разровнял в розвальнях сено, почтительно поддержал Адриана Фомича под локоток.
– Я тут тулупчик специально прихватил. Ноги накрой, Адриан Фомич… Вот так, тепленько… Ну что ж?…
– Едем.
Медвежковато–громадный участковый подоткнул тулуп под Адриана Фомича, завалился боком, шевельнул волоками. Конь – не из деревенских конюшен – резво взял с места.
Завопила Евдокия, запричитали потянувшиеся к ней бабы.
От толпы, от крика и плача, сутулясь, уходил странник Митрофан, бывший убийца.
Кирилл длинно выругался, поминая бога, мать, жизнь в одной хитросплетенной фразе.
– Пошли, там у меня еще одна бутылка припрятана.
А в избе металась на печи старуха:
– Да как же он уехал?! Да что же он на ноги–то обул? Валенки–то его вона стоят. Валенки совсем новые, теплые.
– Валенки! Новые! – взъярился Кирилл. – Вы все думаете, что старик на курорт поехал. Валенки! Тулупчик…
Пришла Евдокия, привела трясущегося сына. Старуха уползла вглубь, забилась к стенке, притихла, Женька сидел, не снимая шинели, смотрел в пол. Кирилл выудил непочатую бутылку, вышиб пробку, расплескивая самогон на стол, разлил в стаканы.
И никак он по мог успокоиться, ворчал рычаще:
– Тулупчик! Ноги продует! Так вашу мать!…
19
Позднее утро, сквозь окна в избу сочится натужный нечистый рассвет, освещает на неприбранном столе пустые бутылки. За занавеской спит пьяным, обморочным сном Кирилл. Шуршит на печи старуха. Евдокия звенит в сенцах ведром, собирается доить корову.
Позднее утро. Сегодня никто не бегал по деревне, не стучал в окна: «Бабы! На работу пора!»
Адриан Фомич успел управиться до приезда Уткина – вчера кончили перемолачивать последний омет.
Колхоз остался без руководителя. Кого вместо Фомича?… Женька даже представить не может – мужиков в деревне нет, из баб председателя?… Женька перебрал в памяти тех, с кем сталкивался, ни одна не подходит.
И чего он ломает голову – не ему решать. В районе станут прикидывать, примеривать и скорей всего пришлют человека со стороны. Тот будет изо всех сил – правдами и неправдами – отказываться от Княжицы, где весной в поля выйдет полтора десятка голодных баб, где своих семян нет, их выдадут в счет будущего урожая, да и они, эти семена, до земли в целости не дойдут – порастащат: детишки голодные. Кому охота взваливать па шею неподъемное хозяйство!… И прибудет такой сторонний председатель с одной лишь мыслью – потянуть до случая, пусть снимут, пусть даже с нагоняем, но без особых мер, портящих послужную биографию. Нот большей беды для колхоза, чем такие вот птицы перелетные – руководители.
Адриан Фомич… Ом но семи и идеи во лбу, не агроном с образованием, не организатор с размахом – простой мужик, кого до войны, пожалуй, и простым–то учетчиком не выдвинули бы. А сейчас этот Адриан Фомич незаменим, потому что свой – не улетит на сторону, потому что его в Княжице знают, ему верят, без хитрости честен, без суемудрия сведущ. Три мешка сорной пшеницы – дорого же они обойдутся для Княжицы. И для государства, в конце концов, тоже… Как этого не понимают Божеумов с Чалкиным?
Ометы перемолочены, все, что можно было сделать, сделано, торчать здесь Женьке смысла нет. В полевой сумке весь его дорожный скарб: полотенце, мыло, зубная щетка, бритва–безопаска и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.
Кирилл спал, старуха на печи не откликнулась на «прощай», шуршала, постанывала. С исчезновением Адриана Фомича больную старуху мир, что дальше края ее лежанки, интересовать перестал.
Евдокия в сенцах процеживала молоко.
– Дуся, я уезжаю.
Она разогнулась – лицо темное, в резких морщинах, губы спеченные, глаза вдавленные – за одну ночь стала старше лет на десять. Вытерла фартуком руку, молча протянула. Женька подержал ее черствую, безжизненную ладонь, сказал горячо:
– Лоб расшибу, а докажу – не виновен!
Евдокия, судорожно сглотнув, кивнула головой.
На том и расстались.
Женька не пошел даже в контору – там пусто, дежурит на стопке бессменный Тютчев, – направился прямо в конюшню. Он решил не брать с собой провожатого. Лошадь обратно пригонит Вера – лишний раз съездит к себе в Юшково.
Не спеша ехал по гулкой, окаменевшей от мороза земле, среди доверчиво распахнутых полей, под высоким умыто–бледным зимним небом, на котором без вражды жили косматое холодное солнышко и сквозная, как клок легкого облачка, луна.
Подъезжая к сельсовету, Женька насторожился – что-то тут происходит. Две машины стоили под окнами: черная изношенная «эмка» и приземистый, как лягушка, «виллис», превратностями судьбы выброшенный с фронта на тыловые нижнеечменские дороги. Две легковые машины, – значит, здесь, в Кислове, районное начальство. Должно быть, и Чалкин тоже…
У крыльца, как всегда, лежали положив угрюмые морды на лапы, два кистеревских пса. Их присутствие говорило: раз мы здесь, то здесь и хозяин, раз мы спокойны, то и с хозяином все в порядке – не болен.
Вера вскинулась при виде Женьки:
– Я вам звонила, звонила!… Никто не отвечает в Княжице.
– Некому отвечать.
– Идите быстрей, там вас ждут! – Вера кивнула на дверь кабинета.
За столом, который в последнее время по–хозяйски занимал Божеумов, снова восседает Кистерев. На этот раз он выглядит необычно, словно сразу же из этого сельсоветского с продавленными стульями кабинета собрался отправиться па военный парад: на глаженой суконной гимнастерке от плеча до плеча по впалой груди – пестрота ленточек, блеск серебра и эмали. И вторая рука у него сегодня на месте: бережно положена на стол, рукав гимнастерки облегает ее торжественно–мертвыми складками. Кистерев кажется сейчас выше ростом, шире в плечах, хотя лицо синюшное, глаза беспокойно поблескивают откуда–то издалека – из–подо лба.
У стены, локти в стороны, короткопалые руки давят в разведенные колени, выпирающий под пиджаком живот, поднятые плечи, крупная седая голова – секретарь райкома Бахтьяров. Лицо у него утомленно–озабоченное, угловатое, отражающее суетные тревоги этой нескончаемой, неприметливой осени, что тянется за окном.
Напротив него, у другой стены, Чалкин, шея обмотана теплым шарфом, нос лакированно красный – простужен, – глядит сквозь слепенькие очки в железной оправе, очень похожие на те, какие носил поэт Тютчев.
Божеумов – рядом с Чалкиным, сцепил костлявые пальцы на остром колене, выкинул вперед хромовый сапог с отчетливым следом снятой галоши, надломленный нос нацелен на Бахтьярова. С появлением Женьки все пошевелились, оглянулись на него: Чалкин пытливо сквозь очки, Божеумов пренебрежительно поведя носом, Бахтьяров с отрешенной терпеливостью, так как что-то говорил, пришлось прерваться, Кистерев с коротким кивком.
– Садись, голубчик, – указал Чалкин на свободный стул рядом с собой.
Женька сел и оказался напротив Бахтьярова. Все ясно – два лагеря, предстоит бой. Женьке указали место – в каком лагере быть.
– Продолжайте, Иван Васильевич. Внимательно вас слушаем, – произнес Чалкин.
– Так вот… – продолжал Бахтьяров глуховатым голосом. – Не нужно быть пророком, чтоб понять – новый год для нас будет уже мирным годом. А значит, сейчас мы должны готовиться к мирной жизни.
– Разве для этого нужна какая-то особая подготовочка? – ласково спросил Чалкин.
– Нет, не подготовочка, – твердо ответил Бахтьяров. – Придется менять весь образ жизни. В войну жили одним – выстоять, выжить сегодня, сейчас! Кто сомневается теперь, что выстояли?! А раз так, то думай о будущем, о том урожае, который вырастет в конце следующего года, не будь врагом самому себе.
– А посему?… – подкинул Чалкин.
– А посему – сменим педали, товарищ Чалкин, не станем выжимать из колхозов последние силы, побережем их.
– Инте–ре–есно! – протянул Божеумов. – Эт–то выходит, что лозунг: «Все для фронта, все для победы!» – уже снят с повестки дня?
Узкое лицо Кистерева при звуке голоса Божеумова дрогнуло, он уставился, но не на Божеумова, а куда–то мимо него, вдаль.
– Пока нет, товарищ Божеумов, но нужно быть слепым и глухим, чтобы не готовиться к тому дню, когда фронт, как таковой, перестанет существовать, наша победа окажется свершившимся фактом, а военный лозунг сам собой снимется.
Божеумов нетерпеливо дернул навешенным сапогом:
– Вот когда он снимется, когда будут поставлены новые лозунги, тогда и начнем по–новому действовать. Пока что не снят!
У Кистерева топкие губы в брезгливом до страдания изгибе. Бахтьяров же, но шевелясь, раздвинув локти в стороны, тяжело опираясь на колени, изучающе, в упор разглядывал Божеумова. В маленьких, упрятанных глазах мерцала колючая искорка.
– Пока не подстегнут вожжой… Хороший конь сам выбирает дорогу, не ждет понуканий. А может, вы не верите и близкий конец войны, Божеумов?
Божеумов снова пнул сапогом воздух:
– Верю в конец, жду его, но боюсь, как бы при виде этого близкого конца мы не расслабились, не раскисли благодушно.
– Вы видели наш район, Божеумов?
– Да уж видел, во всей, так сказать, обнаженности.
– Так о каком расслаблении речь, Божеумов? Расслабляют силы, когда они есть. А нам бы здесь, Божеумов, сохранить сейчас остатки сил. Их очень мало, Божеумов! Неужели не заметили?
Божеумов решительно скинул ногу с колена, собирался ринуться на Бахтьярова, но Чалкин перехватил его:
– Минуточку… Иван Васильевич, дорогой, что вы говорите, все верно, но это, извиняюсь, общая стратегия. Опустимся–ка пониже. Двиньте–ка нам конкретные предложения, а мы послушаем.
– Согласен, слушайте… Вы сделали свое дело – нашли в районе какой–то хлеб…
– Мало. Ой, мало! – пожаловался Чалкин. – Не того от нас ждали.
– Мало. Но я буду требовать от области, чтобы и это малое осталось у нас.
– К–как?! – удивился Божеумов.
– А вот так: отымете и это – окончательно подорвете район. Богатейший район, когда-то бывший житницей области.
– Тэк, тэк, тэк!… – Чалкин даже встал и снова сел. – Что же это получается, дорогой Иван Васильевич? Мы же сюда приезжали не ревизовать, мы сюда за хлебом приезжали… Да! Для страны. А уедем с пустыми руками. Нас не похвалят, да и вас по головке не погладят.
– Вот поэтому–то я к вам и обращаюсь: давайте встанем плечо в плечо и будем защищать район. Крайне необходимо!
– То есть сядь, дорогой товарищ Чалкин, на одну со мной скамеечку?
– Не хотите?
– Да уж признаюсь откровенно: большого желания не испытываю.
На тяжелое лицо Бахтьярова легла тень.
– А вы задайте себе вопрос, – проговорил он, – почему я горю желанием помочь этому обессиленному району?
– Хе–хе! Не меня, а вас поставили к печке дрова шевелить. Приходится.
– Я ведь мог пошевелить да сказать: не разгораются дрова и не разгорятся – тяги нет. Но вот хочу все-таки влезть в печь с головой, исправить тягу, растопить, чтоб грело всех, и вас в том числе. Помогите. Не мне – району. Вас ведь тоже, как и меня, послали сюда… дрова шевелить.
– Да очнитесь вы, товарищ Бахтьяров! – холодно, не без пренебрежения одернул его Божеумов. – На что вы нас толкаете? Мы же шутами гороховыми выглядеть будем. Приехали с заданием взять у вас хлеб, приняли для этого ряд решительных мер, вплоть до того, что привлекаем кой–кого – того же Глущева хотя бы – к судебной ответственности. За что? Да за укрытие пшеницы! Теперь эту пшеницу оставить, где лежала? Нас же спросят: что это вы одной рукой отбираете, другой отдаете, караете и по головке гладите – несерьезно, шутовство какое-то!
– Верно, – не дрогнув ни одной складкой на лице, ответил Бахтьяров. – Не должно быть шутовства. Поэтому Глущева надо срочно освободить. Он делал то, что, на мой взгляд, сейчас нужней всего, на свой страх и риск пытался сохранить в колхозе силы на будущее.
На минуту наступила тишина. Чалкин ерзал и досадливо морщился. Божеумов в упор сверлил глазами Бахтьярова. Парадный Кистерев, сплющив тонкие губы, глядел загадочно скользящим мимо виска Божеумова взглядом, и гримаса брезгливого страдания лежала на его лице. Женька цепенел на своем стуле и ждал, ждал, сам не зная чего – какого–то чуда.
Чуда не случилось, вновь раздраженно заговорил Божеумов:
– Лихо же вы подминаете под себя. Ну да и мы не дети. Мы приехали не разводить поблажечки, жалостливыми словечками нас не расколешь.
И снова на минуту молчание. Бахтьяров пошевелился:
– Что ж… Я, признаться, и не надеялся особо…
И Женька вскочил. У Чалкина под очками, средь добрых дедовских морщинок, – остановившиеся глаза, в них отчетливое: «Эй, детка! Эй! Не шали!»
– Иван Ефимович, – обратился к нему Женька, сдерживая рвущийся голос, – неужели вы не поняли?…
– Чего, голубь?
– Не поняли, что в яму район толкаем. Я понял, а вы – нет? Ну, Божеумов не понял – не удивляюсь. Он нормально глядеть на человека не умеет, только целится – враг! Где тут понять…
– Не зарывайся, Тулупов! – бросил Божеумов.
– А может, ты, Божеумов, зарываешься? С первого дня, как сюда попал.
– Похоже, яйца курицу учат, – сдвинул в усмешечке морщины Чалкин.
– Нет, Иван Ефимович, нет! Сам сейчас учусь. Глядя вот на вас, задачу трудную решаю…
– Какую, золотко?
– Кто вы такой, Иван Ефимович? Трус или…
– Или?… Договаривай, детка.
– Или наполовину мертвый, кому уже ни горячо, ни холодно от чужой беды. Без сердца надо быть: видеть, что тут творится, и соглашаться – пусть еще хуже будет.
– А не кажется ли тебе, молодец: оскорбляешь меня, старика? Могу и не стерпеть, в сознание привести.
– Пугаете, Иван Ефимович? Не стоит. Уж как–нибудь смерти не боялся на фронте, а тут струшу… Вы лучше задумайтесь, чего вам–то бояться? Сесть на одну скамеечку с Бахтьяровым страшно? Чем вы рискуете, Иван Ефимович? Самое большее – на пенсию выставят. У вас, я слышал, сын на фронте убит. Так вспомните – он большим пожертвовал.
Лицо Чалкина стало прозрачно–восковым, бесчисленные морщинки утонули в бледности.
– Не трогай моего сына, паренек, – сказал он.
– Я не его трогаю. Мне, может, перед ним совестно, что случайно счастливее оказался. Перед всеми, кто там остался… Не лучше я их, а мне жить выпало, им – лежать. Ну, а раз выпало, то уж хочется жить так, чтобы они попрекнуть меня не могли. А вот вы, Иван Ефимович, наберетесь ли храбрости сказать перед памятью сына: «Верно живу»?
– Что я вам говорил: нечего было этого молокососа в бригаду тащить, – чеканно, даже с ноткой торжества произнес Божеумов.
– Конечно, нечего! – подхватил Женька. – Чужой, на вас непохожий. Мир жить должен, как Божеумов прикажет. Вот, оказывается, ради чего мы воевали, за что ваш сын, Иван Ефимович, голову сложил. А может, все-таки смилостивишься, Божеумов, посоветуешься с нами, как жить дальше. С ним хотя бы… – Женька указал на Кистерева. – Он же полжизни своей за нашу будущую жизнь в окопах оставил.
– Я ем–му рта не затыкаю, Тулупов, но и слушаться его ник–как не обязан. В армии он надо мной был бы старшим, а здесь – извиняюсь!
А Чалкин молчал.
Кистерев же на этот раз глядел из за стола не скользяще мимо виска Божеумова, а прямо ему в лоб. Женька повернулся к Бахтьярову.
– Не знаю, товарищ Бахтьяров, поможет ли вам мое слово, но я его скажу… Я отдельную записку составлю о том, как Глущева за три мешка сорной пшеницы… О том, как в Княжице последние надежды на урожай украли! Напишу и пошлю. Вот и все!
Женька сел. Бахтьяров в ответ легонько кивнул тяжелой головой.
– Кажется, ясно, – повернулся Божеумов к Чалкину. – Не пора ли нам кончать?
Чалкин молчал. И Божеумов ответил сам себе с холодной убежденностью человека, верящего в свою власть над другими:
– Поговорили. Выяснили. Вы, Бахтьяров, сулите орла в небе, а нам нужна синица в руки. Все ясно. Будем делать, что делали.
– Не все ясно! – поднялся Кистерев, подтянуто стройный, взведенный, на запавших щеках пунцовеют пятна. – Не ясно мне, Божеумов, кто вы?
– Может, документы вам предъявить? – усмехнулся Божеумов. – Извинить прошу, раньше не догадался.
Кистерев с цветущими пятнами, бледным лицом подался к нему через стол:
– До–ку–мен–ты?! – с клекотом в горле. – То–то и страшно – у вас, Божеумов, документы… с печатями, подписями… по всей форме! Кто вы – с начальственным мандатом в кармане?! Вы! Который видит, что богатый район дошел до истощения, и старается истощить до дна! Вы! Который знает, что война кончается, победа близка, и портит эту победу!
– Но–но! Полегче, Кистерев!
– Полег–че! – Кистерев громыхнул стулом, вышел из–за стола, встал напротив Божеумова – вишневые пятна па запавших щеках, жесткая складка тонких губ, заполненные мраком глазницы. – Нет, вы не портите победы, вы ждете…
– Не меньше вас, Кистерев.
– Ждете и делаете все, чтоб после нее богатые поля зарастали чертополохом! Чтоб в деревнях жрали траву и толченую кору, а в городе сидели на голодном пайке! Такую победу ждете, Божеумов?
– Вы слышали?! – голос Божеумова скололся на тенорок, он оглянулся на Чалкина.
Чалкин молчал. А Кистерев, подавшись вперед узкой, украшенной орденами грудью, задыхаясь продолжал:
– Вы враг победы, Божеумов! Враг с мандатом в кармане! Враг, порожденный войной! Да, да! Война рождала не только героев, но и разную сволочь – предателей, вроде генерала Власова, полицаев, а в тылу… божеумовых! Да, таких вот, без души и сердца. Когда кипит, пену наверх выносит…
Божеумов сорвался со стула, головой под потолок:
– Как вы смеете?!
– Смею!
– Иван Ефимович! Слышите? Оскорбления!
– А вы хотите, чтоб я с врагом осторожничал? Целовал вас в сахарные уста?
– Иван Ефимович!
Но Чалкин глядел в пол, прятал подбородок в шарф.
– С врагом – по–вражьи: или он тебя, или ты его! – Угрожающе цветут пятнами щеки Кистерева, бледный лоб лоснится испариной. – Только так, Божеумов! Фронт приучил меня!
Чалкин молчал, и Божеумов понял – надо защищаться в одиночку; сутуловатый, с нависшим носом, он тоже подался на Кистерева и закричал:
– Война рождает еще и неврастеников, сумасшедших! Вы ненормальны, Кистерев! Не в себе! Больны!…
– Да, болен… – тихо, сквозь зубы. – Да, ненавистью… к тем, кто мешает жить.
– Вот, вот! Ваше место в больнице! В желтом доме! В смирительной рубахе!…
– Мешала гитлеровская сволочь – бил их, не жалел себя… А с вами как?…
– Бейте! Давно стращаете. Бейте! Вот он – я!… – Божеумов тянулся к Кистереву, подставлял себя.
Кистерев стоял, опираясь здоровой рукой на край стола, пятна слиняли с его лица, оно стало пугающе зеленым, на белом лбу – мелкой росой – капельки пота.
– Никакой нейтральной полосы – рядом…
– Бейте! Докажите всем, что вы сумасшедший!
– Рядом, лицом к лицу…
– Да, рядом! И не боюсь вас!
– Эй, Сергей! Не вздумай! – колыхнулся всем телом Бахтьяров.
– Ага–а! – торжествовал Божеумов. – Ничего вы со мной не сделаете, Кистерев! Руки коротки!
А рука Кистерева слепо шарила по столу, наткнулась на чернильный прибор, сбила стеклянную чернильницу. На вылинявшей кумачовой скатерти стало расползаться лиловое пятно.
– Сергей! – Бахтьяров поднялся.
Кистерев подымал тяжелую подставку чернильного прибора, плитку тусклого серого мрамора. Бахтьяров шагнул вперед, закрыл собой Божеумова:
– Не дури, фронтовичок!
Кистерев постоял, глядя поверх плеча Бахтьярова на Божеумова, и осторожно–осторожно опустил на стол мраморную подставку.
– Да… Да… Ты прав, Божеумов… Я ничего с тобой… Ты не танк, чтоб со связкой гранат… не взорвешь…
И вдруг пошатнулся, начал медленно клониться вперед, зеленое лицо стало сонно–равнодушным. Бахтьяров подхватил падающего Кистерева. Женька кинулся на помощь.
Придерживая с двух сторон, они повели обмякшего Кистерева к двери. Божеумов, пятясь, уступил им дорогу, встал у стены, сгорбленный, с желтым, перекошенным лицом. Чалкин растерянно блестел подслеповатыми очками, тянул тощую шею из просторного шарфа.








