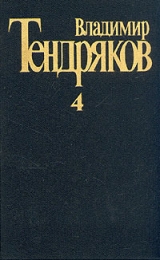
Текст книги "Три мешка сорной пшеницы"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
11
Она проводила его за деревню.
Ударил морозец, и пересыщенный влагой воздух помутнел. Сухой, покалывающий туман повис над землей. А вверху размытая луна в тесном кольце – знать, мороз надолго, – и дорога похрустывает корочкой.
– Не заплутаешь в тумане?
– Дойду.
– Держись дороги, она приведет.
В небрежно наброшенной шали, в наспех застегнутом пальтишке, лицо в неверном свете начинающегося рассвета прозрачно, брови на нем кричащие и глаза неправдоподобно велики. Подалась вперед, он обнял, пахнуло от тела избяным теплом.
– Иди, замерзнешь – коленки–то голые.
– В субботу встретимся… Может, и раньше прибегу.
Откачнулась и сразу – уже тень, не человек – растаяла в тумане, утопившем деревню.
Почти не налегая на палку, не ощущая раненой ноги, он двинулся вперед. Хрустела морозная корочка под сапогами… И чувствовал вкус ее губ – молочный, солоноватый, – и ее избяной запах, и благовест в ушах ее голоса: «Может, и раньше прибегу!.. Может, и раньше!.. Может, и раньше!.. Прибегу! Прибегу!..»
Он улыбнулся в туман, энергично и широко, до усталости, до счастливой боли в скулах.
И туман светлел, неприметно разжижался до синевы отснятого молока. И чувствовалось потаенное движение в глубине этой молочно–синей пучины. Тусклая стерня на обочине скоропостижно поседела от инея. Мерзли руки без перчаток…
«Может, и раньше прибегу!.. Прибегу!.. Прибегу!..»
Но вот туман впереди заиграл цветами, потаенное движение стало явным, бесплотное обрело плоть. Теперь можно было видеть сам воздух, он шевелился, поеживался, расплавлялся, в нем шла деликатнейшая война света и тени, нежно–розового с нежно–голубым.
Неожиданно в гуще этого цветного беспокойного воздуха открылся исступленно красный глаз. Он стал грубо, горячо назревать и расплющиваться. За великой толщей напоенного светом тумана, между небом и землей, из ничего родилось нечто – багряный бочок солнца! И начал развертываться, как зовущее к себе знамя…
Вдруг что-то неощутимо дрогнуло в мире, произошло какое-то тихое потрясение, столь же тихое и значительное, как просыпание – выныривание из небытия. В деликатнейшей войне свершился перелом – свет победил туман. Негодующе цветя и переливаясь, туман начал расползаться, цепляться за землю, но очищая ее. Мир просыпался, мир распахивался! Какой мир! Не вчерашний, гнилой от влаги, каторжно небритый. Каждая былинка сейчас в пушистой шубке инея. Розовой шубке. Застенчиво розовые поля ложились под сапоги. Рождалось солнце, земля, вчерашняя нищая золушка, на глазах превращалась в принцессу.
Ему?.. Все это ему?.. Жизнь! Земля с чудесами!,. И против воли – вина перед теми, кто был с ним рядом, кого теперь нет. Перед Васькой Фроловым, таким же, как он, парнишкой из–под Уфы. Перед теми сорока восемью, что легли вместе с Васькой у Пелеговки. Перед теми – кто под Старыми Рогачами, под Ворапоновом, в самом Сталинграде!.. Их нет – он жив! Почему?! Неисповедимо! Нет тут его вины! Но совесть разбужена счастьем…
Разросшееся, варварски красное, громадное солнце жидко заволновалось, стало ломаться…
Он давно уже не плакал. Быть может, с детства.
И вообще случалось ли ему когда-нибудь плакать от счастья?
Еще не велика та радость, которую встречают смехом. Еще то не горе, что вызывает слезы. Только тем, кто захлебывается от богатства пережитого, – слезы при радости и смех при горе.
В деревне Княжице дымковыми столбами застолблены крыши.
Деревня Книжица приневестилась от мороза. Грязная вчера дорога сейчас словно подметена. Обсохшие избы какие–то ясные, у каждой неожиданно проступила своя физиономия.
И дым столбами, утверждающий, что тут под крышами согреваются, варят, пекут – живут люди!
Только что-то одно малое, досадное мешало Женьке насладиться видом деревни, дружно выкинувшей хвостатые дымы в небо.
Женька скоро понял, что это – запах. Деревня пахла не по–мирному. В пронзительном морозном воздухе висел силосно–сладковатый душок. Не тяжелые, дышащие, с золотистым отливом хлебы бросали сейчас с деревянных лопат бабы в печи, а лепешки из травы… Силосный запах растекался по морозцу.
Стороной по улице прошел, сгибаясь к земле, странник Митрофан в своем растрепанном балахоне, угарно–копотный, с лиловым клювом из дремучей бороды.
Он, клюя батожком в черствую землю, прошел и не заметил Женьку.
Жив, темный старец! И, поди, тоже рад сейчас солнцу, неожиданной праздничности в воздухе, столбам дыма в небе…
12
На гвозде возле дверного косяка висела военная фуражка. За столом плотно сидел незнакомый военный.
– Вот и он! Ждем тебя, Евгеи… А у нас – сын приехал… – Адриан Фомич в чистой рубахе, с тщательно расчесанной бородкой поднялся навстречу. —Подсаживайся побыстрей к нашему праздничку.
– Нога разболелась… Пришлось в Юшкове…
– Э–э, брось, парень. Не спрашиваем – нога иль просто назад дорогу запамятовал. Всяко случается.
– Пока молод, жизнью пользоваться следует, – подал из–за стола голос военный, – Кирилл! – Он чуть оторвался от лавки, протянул через стол руку.
Кирилл массивен, рыжеват, усеян конопушками, и все в нем добротно – крутые плечи, ширококостные руки, ладная гимнастерка с твердыми погонами старшего сержанта. Все в нем выдавало служаку–удачника, из тех, кто не в больших чинах, по возле большого начальства, кого не посылают, ни в караулы, ни в очередные наряды, кому спешат услужить знакомые старшины – обмундировочка в первую очередь, питание не из общего котла, – с кем стараются завязать дружбу молодые офицеры.
На столе – початая поллитровка, белый хлеб, вскрытая банка тушенки. На Евдокии кофточка с рядом стеклянных пуговиц на плоской груди. Даже старуха на печи надела на голову белый платочек. Действительно праздничек!
– Признался я ему, – заговорил Адриан Фомич, – кого мы с тобой на дороге подобрали.
– Сейчас его мельком видел, – сообщил Женька.
– Гуляет!.. Да–а! – пробасил Кирилл. – По деревенскому сознанию я бы сейчас вскочить должен, кровушку пролитую ему напомнить.
– Знал, что ты парень рассудительный, а все ж побаивался – по сорвешься ли тут.
– Срываются те, кто в руках себя держать по умеет. Я закон чту. Может, закон тогда к этому Митрофану и не на всю железку применили. Может, следовало бы ему вышку дать. Могу теперь только сожалеть, а поправить закон не берусь. Что получится, коль всяк сам по себе порядок устанавливать станет.
Голос у Кирилла был густой, покойный, немного даже сонный.
– Ну, а ежели вам встретиться придется? – поинтересовался Женька.
– Мимо пройду.
– И в душе ничего не шевельнется?
– Шевельнется – зажму.
Адриан Фомич усмехнулся:
– Это чтой–то у тебя за душа такая послушная?
– Должна быть, отец, самодисциплина. Ежели каждый распустится, взбесится – порядок посыплется.
– А все ж человек – не балалайка, взял себя в руки и сыграл, что схотел. Порой и пе получится.
– Значит, сознательности в тебе маловато. Сознательный себе распуститься не дозволит.
В это время за окном, на солнечной обсохшей улице, раздался громкий стук мотора, кашляние, лязгание расхлябанной машины. Адриан Фомич и Женька уткнулись лбами в стекло. Сокрушая затянувшиеся молодым ледком лужи, выплескивая из них темную воду, по безлюдной деревне шествовал трактор. Шпоры на колесах игриво поблескивали на солнце, труба, как вскинутая зенитка, постреливала в небо копотным дымком. Шествовал трактор, и грохот катился впереди него…
– Неужели к нам?.. – удивился Адриан Фомич. – Вчера только позвонили, и нате – уже здесь. У нас пожарные тише ездят.
– Порядок, отец.
На следующее утро Адриан Фомич бегал спозаранку от избы к избе, стучал в окна, подымал баб на молотьбу.
Баб раскачать удалось только к полудню.
Сияло холодное солнце над заиндевелыми полями. Стыли угольно–черные леса в голубом мареве. Дремал сутулый омет – иней на нем, как седина в русой бороде. Под ометом, опустив к земле брезентовый хобот, – молотилка. В стороне – трактор, мазутно–грязный колесник, настолько удручающе ветхий, что не верилось – добрался сюда своим ходом. Тракторист – девка в картузе и ватных, лоснящихся от масла штанах.
Бабы сбились молчаливой, отчужденной кучкой, – платки по самые глаза, рваные шубейки с торчащей овчинной шерстью, мужские телогреи, одна в допотопном гречишном азяме, одна в пехотинском загвазданном бушлате, и разбитые, перекореженные сапоги, и опорки, и березовые «туфли в клетку»… Бабы, приодевшиеся на работу «во что похуже», смахивают сейчас на переселенок, которые уже много–много дней находились в пути. Их подняли обмолачивать обмолоченное, переделывать то, что было уже ими сделано. За такую работу нечего ждать награды – ни горсти тебе зерна, ни копейки денег.
Среди баб – Евдокия, невестка Адриана Фомича. Дома у нее не только мальчонка, не только больная старуха на печи, которая без подмоги не спустится и по малой нужде, но еще и гость. Бросить гостя без призору – кукуй себе один – по деревенским понятиям хуже, чем бросить без присмотру малого ребенка. Но Евдокия – родня председателя, не выйти на работу ей просто нельзя – целый год не оберешься попреков: «Мы–то ломи, они в закутке отсиживаются…»
Евдокия принесла старику перекусить – утром не успел даже присесть за стол. Адриан Фомич пристроился возле молотилки, подстелив соломки, разложив на коленях белый плат, торопливо жует… Те же оладьи – картошка с травкой. Гость привез хлеба – две буханки черного и буханку белого, Евдокия могла бы выделить толику свекру, но как можно на глазах всех этих баб есть чистый хлебушко. Кусок в горле камнем застрянет.
Женьке видны со спины вздернутые костистые плечи и тощая стариковская шея. И почему–то эта шея, исхудавшая, старчески беззащитная, вызывает сейчас жгучую жалость. Даже скучившихся, устало молчащих баб не столь жаль…
Женька вспомнил Кистерева, его слова на совещании актива: «Страх в людях давно умер, а совесть жива…»
Случилось все как–то само собой. Сжимая палку в потной руке, изнемогая от жалости, от любви к склонившемуся над своей снедью старику, к бабам, сбившимся в сонную кучу, Женька подковылял вплотную и заговорил сколовшимся голосом:
– Бабы! Родные вы мои! Знаю – голодны!..
И бабы оживились:
– Да ты что, мил человек, масленых блинов дома наелись!
– Обожди, Манька, не хвались, поверит еще…
– Он, может, любушки, накормить нас хочет.
– Сейчас тебе скатерку раскинет!
– Нас целая деревня, заботушка, на всех–то хватит ли?
– Нет, матери вы мои, не могу вас накормить. И вас, и ваших детишек. Рад бы, да нету! В страшное время живом – война! Вы хлебаете, я тоже нахлебался…
– Да уж верим, нанюхался дымку.
– И дымку, и мертвечинки…
– Гляжу на вас – не веселы, устали – сердце сжимается.
– Может, попляшем вместях заместо работы?
– Плясать, знаю, ни сил, ни желания нету, но и горевать нам сейчас не по времени, бабы. Уж просто потому, что живы мы. Скажете, мол, какая это жизнь! Да какая бы ни была все великое счастье. Тот, кто сейчас лежит в окопах, вот о таком счастье и мечтает – жить. Меня ранило, а сорок восемь моих товарищей лежать остались. Захотите с ними поменяться судьбой? Нет! Дышите, видите, землю топчете. Вспомните о тех, кто погиб, чтоб мы дальше дышали. В войну всем не сладко, только у одних это горькое пройдет, у других беду уж ничем не поправишь.
– Что уж, правда.
– И то, нам себя отпевать рано.
– Гос–по–ди! А стонем – жизни нетути! Как нетути, когда дышим.
– Стон–то который год по всей стране стоит. Только давайте, бабы, пораскинем мозгами – не прошло ли время стонать нам? Терпели четыре года без малого, сколько еще терпеть? Столько же?.. Да нет! Сами знаете – война–то кончается. Каждый день теперь нашу беду уносит. Мир–то – вот–вот… Он стучится, бабы. Он близко… А раз так, то близко и жизнь настоящая – пироги пшеничные, пляски с гармошкой, работа без надрыва и трудодни выше прежних!
– Ох, и не говори, любой, не верится…
– Врете! Верится! Каждая сейчас верит, что войне конец. Тянули из последних сил, а уж теперь–то дотянем. Еще немного, еще чуточку. Подумайте только: это же последняя такая осень без хлеба. Иль кто не согласен, кто возразит мне, – мол, до следующей осени война протянется? Нету таких. В голову не придет сомневаться… А раз так, то нам ли унывать?!
И бабы заволновались, зашумели:
– На крохах дотянем, на карачках доползем!
– Мы–то семижильные, а вот у Гитлера тянулка лопает…
– А не хватит ли болтать, бабы, нас дело ждет…
– Поговорили – что хлебушка наелись.
– Доброе слово душу кормит.
– Давай по местам стройся!
Тракторист – девка в картузе – налегла на ручку, и разбитый трактор словно сам подогрелся вместе с бабами, чуть ли не с первого оборота чихнул, взревел, жестоко затрясся.
Адриан Фомич торопливо сунул в карман платок с недоеденной лепешкой, встал, пошел к молотилке.
Женька скинул шинель, по прислоненной лесенке полез на верх омета. Ему снизу подбросили деревянные вилы:
– Держи–и, мужичок!
Перехватил вилы наперевес, как оружие, распрямился до хруста в спине…
Солнце косматилось над хвойно–сплавленными сумеречными лесами. Насквозь промороженные, разбегались заиндевевшие поля, синими переполненными озерами копились среди них тени. Не шевельнется воздух, не мелькнет живое – не в дреме мир, в обморочном сне из сказки о спящей царевне – все замерло, все сковано. И только внизу, под самыми ногами – звонкий шабаш. Плюется грязным дымом трактор, лихорадит его, беднягу, до того, что вот–вот развалится. А громоздкий зверь – молотилка с хоботом – пока молчит, она–то поголосистей трактора. Толкутся, переругиваются, разбираются кто куда бабы, по захватанным до глянца держакам грабель плескается солнце.
И Женька не выдержал, задрал голову, захлебнул сколько мог воздуха и заголосил – бабам, Адриану Фомичу, солнцу, сумеречным лесам:
– На–ача–ли! Заводи граммофон!
Оперся покрепче на здоровую ногу, подцепил вилами охапку соломы – баньку можно накрыть, – сбросил на головы баб:
– Держи–и!
И взвыла молотилка, запричитала, покрыла рычание трактора. Замелькали солнечные держаки грабель.
На омете появилась одна кургузенькая, коротконогая бабенка в пехотинском бушлатике.
– И–ех! В хорошей компании постою…
Но стоять не стала – где там! – бойко замахала вилами, покряхтывая, поохивая:
– И–ех! И–ех! Берегись, бабы! Завалю! И–ех!..
Снизу кричали:
– Эй, Манька! Столкни к нам лапушку–то!
– Ой, нет, бабы, не грабьте! Я туточки хоть понюхаю, чем мужичок пахнет… И–ех! И–ех!..
Адриан Фомич в нахлобученной на брови шапке скупенько пошевеливался возле молотилки, совал в барабан перепутанную солому. И озверевшая молотилка то давилась, с глухим скрежетом пережевывала, то звонко, голодно взревывала, пока Адриан Фомич не затыкал жадную пасть.
Жарко. Ныла нога. Приловчился опираться в солому коленом, давал отдых раненой ступне. И, словно крот, рылась в соломе бойкая Манька в пехотинском бушлатике:
– И–ех! И–ех! Завалю, бабы!..
Бабы! Рваные, усохшие, морщинистые, кормленные силосными лепешками. Бабы, давно переставшие быть бабами, исстрадавшиеся над некормлеными детьми, выплакавшие слезы над похоронками… Переставшие быть бабами, но не матерями, сестрами, любящими женами.
Будет еще у вас в доме пахнуть печеным хлебом!
Вырастут ваши дети здоровыми!
К кому–то из вас вернутся мужья.
К кому–то – даже молодость, даже красота…
И солнце катилось над зубчатой хвоей дальних лесов, и пластались поля, и в ложбинках стыли нерасплесканные синие–синие тени. Рычала голодно и звонко молотилка, выплевывала изжеванную солому, гимнастерка прилипала к спине.
Очнулся он у самой земли. Омет осел, было уже темно, бабы собирали вилы и грабли, переговаривались, смеялись, поглядывали на него из–под платков.
– Горяченький мужичок нам попался!
– На ночку бы…
– У тебя, бедовая, ночное–то, поди, поприсохло все.
– А пусть проверит, може, и не присохло.
Женька, с трудом разгибая неподатливую спину, подумал: «А ведь они, наверное, не старухи, так только кажутся…» Хотел спрыгнуть лихо на землю, но вовремя спохватился – нога! Хорош бы он был, если б его после такого праздничного дня потянули в деревню волоком. Слезал бережно, с ощупочкой, по–стариковски солидно.
По другую сторону от молотилки вырос новый омет. Ничего себе горку перекинули! Подошел Адриан Фомич; даже в сумерках было видно, что старик пропылен с головы до ног. Лицо и борода сейчас одного цвета – серые.
– Ну вот, – сказал он без воодушевления, – два мешка полных намолотили да еще в третий насыпали чуток.
– Значит, все-таки было зерно! – восторжествовал Женька. – Значит, прав Божеумов!
Адриан Фомич хмыкнул:
– Выходит, что прав.
– А у вас еще три омета стоят! Если с каждого по два мешка – шесть! Немного, но помощь какая–никакая.
В стороне собирались бабы:
– Корова–то дома не доена.
– У тебя корова, а у меня одни зверушки голозадые по избе шастают. Того и гляди сами себя подпалят.
– Косточки чтой–то… Пока работали – ничего, а теперь вот не разогнусь.
Одна за другой бабы потянулись в темноту.
И вдруг Женька вспомнил слова Веры: «Зимой бы каждый по охапочке в дом носил. С охапки – по щепоточке…» Эти бабы носили бы эту солому. Так вот почему Адриан Фомич сдержан! Три омета – шесть мешков (еще наберется ли?), на всю деревню – крохи, но и того теперь не будет. Зима впереди, весна, лето – только к будущей осени вырастет новый хлеб.
Бабы знали это до начала работы. Знали и согласились остаться без хлеба. Он, Женька, сам того не ведая, убедил их. Работали дружно, весело, не жалея себя. Сейчас идут темной дорогой, и наверняка каждая прикидывает, как выжить без этих «с охапки – по щепоточке». Зима впереди, весна, лето… Как выжить до будущей осени?
Прав оказался Божеумов – был в деревне хлеб. Чуть–чуть, но был.
И уж Божеумов будет торжествовать!
Теперь–то уж можно не сомневаться – бабы отдали последнее, если не считать тех трех мешков сорной пшеницы, что Адриан Фомич на свой страх и риск оставил к весне для работников.
«Страх в людях умер, а совесть жива…» Кистерев, оказывается, хорошо знал баб.
– Сейчас лошадь придет, Евген. С мешками уедешь, – озабоченно произнес Адриан Фомич. – Намял, поди, ногу–то.
Пока ждали лошадь, Женька лазал на коленях по холодной земле, искал в темноте запропастившуюся палку. Без палки нельзя – раненая нога и в самом деле сильно пыла – перетрудил.
13
Утро, на черном небе крупные звезды, рассвет еще далек, избы неприступно темны.
Деревня Княжица спит… Деревня Княжица с радостью бы не просыпалась, пропустив мимо надвигающийся день. Спать бы и спать, не надо есть, заботиться, думать – благодать!
В это утро, выйдя из дому, Адриан Фомич и Женька поделили деревню Княжицу пополам.
– Что ж, ты – направо, я – налево.
Не мог же валяться в постели Женька, когда старик председатель мотается от избы к избе, стучит под окнами.
– Кончай, бабоньки, ночевать!
Щупая палкой мерзлую землю, Женька идет в темноте к первой избе. Сейчас он подымет руку и постучит в окно. Постучать – это так просто…
Нет!
Стучаться приходится в голодный дом: иди добывать последние остатки хлеба! Ты и твои дети тайком рассчитывали на него – спасет, поможет пережить страшную зиму. Нет – отдай!
Отдай, потому что те, кто сидит в окопах, должны есть. Отдай, потому что есть хотят и рабочие, которые теперь стоят у станков по одиннадцать – двенадцать часов в сутки. Их жен, их детей тоже никто не накормит, кроме тебя, баба из тыловой деревни. Отдай, потому что хлебородные поля Кубани и Дона, Украины и Белоруссии перепахала война. Отдай последнее, потому что другие отдают еще больше – жизнь!
Постучать сейчас в окно – значит позвать баб на подвиг, не меньше. Казалось бы, святое дело, но отчего же не подымается рука?.. Оттого, что ты останешься в стороне, требуешь – отдай, а сам сейчас ничего не отда ешь, ничем, ровно ничем не рискуешь. Через две недели ты укатишь в свое Полднево, будешь себе жить, останется ли этот последний из вымолоченных ометов хлеб в Княжице или не останется – для твоей жизни безразлично. Зима, весна, лето – что тебе, ты переживешь.
Подвиг чужим горбом, чужою судьбой. Ты похож на такого ротного, который бросает солдат в атаку, а сам прячется в блиндаже. Вся разница – рад бы сорваться, принять на себя огонь, рисковать вместе со всеми, рад бы, да невозможно…
При скудном свете звезд – окно, в нем непотревоженный, слежавшийся мрак. Протяни руку, потревожь…
Женька нерешительно топтался, медлил.
По другому концу деревни бежит сейчас Адриан Фомич, подымает баб. Одни подымутся на работу, другие будут спать… Стучи! Так надо! Иного выхода нет.
И он постучал. Во мраке закупоренного окна что-то замаячило.
– На работу собирайтесь! – крикнул Женька и побежал к следующей избе.
Стук! Стук! Стук!..
– На работу!
К следующей:
– На работу!
Давно уже рассвело, давно уже развеялись дымы над крышами, а возле крыльца конторы, куда назначено сходиться, – никого.
Женька порывался еще раз обежать деревню, Адриан Фомич останавливал:
– Пусть по дому управятся. Наш хлебец не осыплется.
Наконец потянулись одна за одной, в платках, замотанных по самые глаза, в рваных шубейках, в просторных, с мужского плеча, телогреях. И опять они смахивают на переселенок – притерпевшиеся, покорно усталые лица. Подвижницы…
Такую же покорную усталость Женька часто видел в походах на лицах своих товарищей. Победа… О ней, наверное, потом без конца будут говорить – из века в век: великая война, героическая! Но забудется одно, что героические победы делаются не вдохновенными, а усталыми – предельно усталыми! – людьми.
– Все ли в сборе?
– Аниски Петуховой нету. Поленница у нее заваливается, так подпирает, чтоб на детишек не порушилась.
– Ждать не станем, пусть нагоняет. Пошли, бабоньки.
– Что ж, пошли…
Вечером дома их ждал опухший от пересыпа Кирилл. Незавидный был у него отпуск – весь день в четырех стенах, в обществе больной старухи, даже бутылочку распить толком не с кем. Кирилл ждал с мутной поллитровкой на столе и с известием на устах.
Оказывается, в деревне был Божеумов, прошелся по амбарам с кладовщицей, уехал… Странно – не завернул на ток, не встретился ни с председателем, ни с Женькой, не расспросил, не указал. Был да нет, мелькнул тенью. Что-то тут неспроста.
Женька выпил полстакана запашистого, что скипидар, самогона – пьян не стал, а сердит, пожалуй.
– Фомич, не кажется тебе, что я тут лишний? – спросил он.
– Объясни на пальцах, милок, что-то не уразумел, – попросил Адриан Фомич.
– Ты без меня этот хлеб не домолотишь?
– Домолочу.
– И сдашь?
– Сдам. Не спрячу.
– Тогда я зачем?
– Это тебе лучше, парень, знать.
– А вот не знаю, не знаю, почему я послан следить за тобой, за бабами? Я честней вас? Я больше вашего конца войны хочу? Иль вы уж без меня фронту не захотите помочь?
Кирилл хмыкнул осуждающе:
– Разговорчики. С такими и докатиться можно.
– Куда?
– К полному беспорядку. Порядок–то, братец, на старшинстве стоит. Он, – Кирилл указал перстом на Адриана Фомича, – над бабами старший, – ты – над ним, а этот, что сегодня тут мелькнул, – над тобой. Все честны, спору нет, а порядочек требует – не пускай на самотек, проверь как следует. И усердная лошадка без вожжей воз заваливает. Так–то.
– А ты не казнись, парень, – заговорил Адриан Фомич. – Ты ведь тут не только следишь да высматриваешь, – мол, не прячет ли старик председатель что в рукав. Ты и помогаешь мне, право. Вон ты как баб раскачал добрым словом.
– Их раскачал, а сам сбегу на сторону. Будете вы тут без меня качаться от травки.
– Не впервой, докачаемся, сам же говорил – конец недалече. Ты мне – подпора, даже не ждал такой – с душой и пониманием, да тут твой старшой вынырнул. Он поймет ли – вот вопросец.
– Божеумов?.. Что он?..
– Капка–кладовщица успела мне шепнуть: пшеничку–то нашу, весеннюю, углядел. Помнишь ли, показывал тебе?
– Помню. Сор, а не пшеница.
– Какая ни на есть, а заметет.
Кирилл строго заметил:
– Ты, отец, того – не влипни. Самому надо было замести и сдать, как положено.
– А весной станут сеять оголодавшие. Такие увидят семена и уж – следи не следи – половину по карманам да по загашничкам растащат. Когда дома детишки усыхают от бесхлебья – ни острастки, ни совести своей не послушаешься. Эхма! Сорная пшеничка эта семена бы нам спасла. А так и на будущий год урожая не жди.
– Объяснить это надо! Государству же вред!
– Вот и объясни Божеумову по–свойски. Поймет он? – подсказал старик Женьке.
– Поймет? Не–е знаю.
– Какое ему дело до урожая, который когда-то у нас будет. Урожай – далек, а Божеумову сейчас надо себя показать – не зря, мол, послан, хлеб добыл.
– Точно! – Кирилл опустил на стол тяжелую ладонь. – У него своя задача. А как бы ты на его месте поступил, отец?
– Да так, как и он поступал, – кивнул Адриан Фомич на Женьку. – Поглядел бы да и забыл.
– А тут проверочка! И вас за это обоих за воротник… Раз спущена установочка – выполняй ее, чтоб тютелька в тютельку. Допусти раз поблажку – все, кому не лень, уверточки попридумают, не семена, так еще что. Эдак все хозяйство по карманам да по загашничкам… долго ли.
Адриан Фомич с невеселым прищуром разглядывал сына:
– И в кого ты, Кирюха, такой рассудительный? Батя твой родной вроде таким не был, и я – тоже…
– Сам дошел, отец, за это и ценят. Прикажут мне – свято! Умру, но исполню. Так–то.
Со старческим кряхтеньем Адриан Фомич поднялся из–за стола.
– Давайте–ка, спать, ребятушки. Время позднее.
Поднялся и Кирилл, тяжелой головой под темный потолок.
– Ох, влипнете вы, чует сердце.








