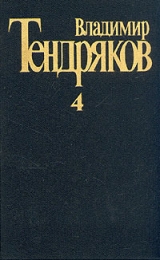
Текст книги "Три мешка сорной пшеницы"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
8
В избе наступило настороженное молчание.
– Что же, Митрофан, здравствуй, – сказал Адриан Фомич.
– Уж не обрадовался ли, словно родному?
Адриан Фомич невесело усмехнулся:
– Родной не родной, а вроде свойственника. Венкин–то Кирюха отцом меня величает.
– Может, за это и спасибо отколешь?
– Нет, спасибо не говорю – не за что, но и зла держать смысла нету. Дело прошлое, а ты, поди, за все сполна получил.
– Значит, прощаешь?
– Я-то прощу! Кирюха обещается в отпуск приехать – его сторонись. Как–никак, ты его кровью родительской крестил.
– Что мне твой Кирюха, меня не такие хватали да отступались. А уж хватали, уж сполна, полней некуда. Цел не цел, а до родных палестин добрался. Все вытерпел.
– Ложись спать, Лазарь многотерпеливый. Завтра баню протопим, там, может, вместе с телом и душа отмякнет.
Митрофан показал опять в бороде желтый зуб.
– Все жалеешь, жалостивец. Даже меня… Кхе–кхе!..
– Не судить же мне тебя сызнова.
– Вредный ты человек, Адриан.
– Гос–поди! Что он говорит? – ахнула па печи старуха.
– Дело говорю. Добренькие–то люди никак не полезны. Самый вред от них. Такие, как ты, Адриан, и довели Россию до краю. Добрые да покладистые все вытерпят, все простят – крути шабаш.
– Шабаш–то ты устроил, – напомнил Адриан Фомич.
– Зазря я Венку… Жалел потом. Надо бы тебя, Адриан, да еще кого из ласковых… Венко–то лютый был. Мы с ним – два сапога пара. Столковаться бы нам таким, попробуй тогда прижать к ногтю деревню. Уж не–ет, не–ет!..
– Да что он говорит?! Что?! – плачуще волновалась па печи старуха.
Женька сидел оглушенный. Недавно переживал радость – в тихий мир попал. За стенами – война, а здесь простые, без лукавства, законы: накормить голодного, согреть замерзшего, приютить бездомного. Приютили, согрели, накормили… убийцу! Нет, не бывшего, не раскаявшегося, – если б силы – снова готового убивать. Среди поля, на грязной дороге, просил: «Подвези… Свалюсь…» Просил жалости, просил – будьте добры ко мне. И получил… «Надо бы тебя, Адриан…» Тебя убить, тебя, которым открыл дверь в свой дом. Того, кто поделился последним куском хлеба! Именно за это, за доброту! Убить?.. А если б оттолкнули – сдыхай на дороге, нисколько не жаль! – уважал, славил?.. Не связывается, не воспринимается – дико! Не человеческое… Нет, даже звериным назвать нельзя. Зверь и тот на ласку не огрызнется. Что же это такое?..
Сидит растрепанным вороном под порогом, темное лицо покрыто грязной бородой, не разглядишь – вроде ни злобы явной, ни торжества – одичание, невнятность. И сиплый голос из нутра.
Женька взорвался:
– Такие!.. Такие среди людей!.. Да близко подпускать нельзя! Гнать, как прокаженных! В клетки запирать…
Митрофан презрительно повел в его сторону твердым носом:
– Ты уж молчи, мозг куриный, только и можешь что квохтать.
– Не–ет! Я и не квохтать могу! Я и с автоматом ходил… На тех, кто убийство–то заслугой считает… Ты же враг! Старый только. А то мы бы с тобой по разные стороны фронта встали… Эх, жаль, жаль! Святое бы дело против такого!..
– Повидал я петухов и понаслышался: зло, насилие, мол, разрушим, в крупу его истолчем. А оно, зло, плодуще, из каждой толченой крупинки яблоком вызревает. Чем мельче толчете, тем больше его растет. Уж лучше бы копили зло–то, в одной куче держали – оно, поди, и пригодилось бы при случае.
– Как же ты, Митрофан, свое зло с богом паруешь? – спросил Адриан Фомич. – Или забыл уже бога? Вспоминаешь ли, что из–за него сразу двоих на тот свет отправил?
– Только дурачки бога добреньким видят. А для бога зло вроде посошка.
– О господи! Речи–то какие! – простонала на печи старуха.
– Убийцы с богом–то дружат! – выкрикнул Женька. – Вот гитлеровцы… У них у каждого солдата па пряжке написано: «Готт мит унс!» «С нами бог» – то есть…
– Люди в страхе перед господом жить должны. А страх через добро не добудешь.
– Ты, Митрофан, смотрю, шибко вырос, – Адриан Фомич поднялся из–за стола. – Кажись, дальше убийцы расти некуда, ан нет, еще выходит, можно подняться – совсем уж в кромешные ненавистники. Давайте–ка спать. Во сне–то и такого терпеть можно.
– Не боишься, добренький, – старец показывал из бороды желтый зуб, – что я добротой твоей попользуюсь. Я ведь убийца, и ухваточки у меня арестантские. Может, ночью вот встану да с ножичком прогуляюсь по избе.
– Ох! – охнула Евдокия. – Выгони его, батя. Не с нами, так с ребенком что сделает. У–у, проклятущий, такую срамоту порешь и не стыдишься.
– Пугает он, Дуняха. Еле жив, глянь–ко, с курицей не справится, а тут двое мужиков в избе.
Женька тоже поднялся:
– До сих пор только издалека, из окопа убийц видел. Чтоб так близко – впервые.
– Страшон, поди? – спросил старец, укладываясь па полу вдоль печки, ногами к порогу.
– Нет, гнусен.
«С ножичком прогуляюсь по избе…» Конечно, это сказано просто так, чтобы попугать – шуточка убийцы.
Илья Божеумов днем остерегал: враги… будь начеку. Но таких ли врагов имел он в виду? И как бы сам Божеумов отнесся к прохожему старцу? Да, наверное, так же, как и он, Женька: сплюнул да отвернулся, иначе и не поступишь. Нелепо воевать с таким. Лежачего не бьют, а этот, считай, лежит в гробу. Враг отживший.
Божеумов остерегает против других: «Едешь в колхоз, смотри в оба, чтоб не обкрутил…» Кто? Адриан Фомич?.. И Кистереву не смей верить, и выше Кистерева… Не то чтобы все враги, но лучше на всякий случай не верить – подозревай каждого! Да что это за мир получается у тебя, товарищ Божеумов? Нет своих, одни чужие, с задушевным словом к кому – не смей, подведет! Живи да оглядывайся, щелкай по–волчьи зубами. В окопе и то уютней – там только впереди враги, а за спиной–то, свои, надежные. За то и воевал, чтоб землю от врагов очистить, чтоб друзья во все стороны… И Кампанеллу допытывал по ночам: подскажи, как дружней жить.
Воровато причмокивал на полатях мальчонка – старуха тайком сунула ему свой кусок хлеба с сахаром. Странник под порогом сопел и чесался во cue.
Адриан Фомин терпит этого «с ножичком», не выставил и шею из избы, а Кампанеллу, похоже, не принял. Не то чтобы не понял – понять не трудно, – не принял, не поправился Кампанелла Адриану Фомичу. Выходит, у тебя не только с Божеумовым нет согласия, но и с Адрианом Фомичом кой в чем не сходишься. А можно ли всем во всем сходиться? Можно ли всем думать одинаково? Наверное, нельзя. Но это не причина для вражды – умей принять непохожих на тебя. Божеумов на дух не принимает. Адриан Фомич принимает даже тех, кто «с ножичком»… Тут тоже перехватить можно.
Мысли метались, не находили ясного ответа.
Душно в избе. У порога сипло, с клекотом дышит натужно спящий странник–убийца. Мальчонка на полатях вздохнул сладостно и тяжко. Он разделался с куском хлеба и сахаром – вздох счастья и сожаления.
Женька не спит. Путаница в Женькиной голове.
Страдая от бессилия, Женька повернулся лицом к степе и… уснул: мгновенно, крепко, как засыпают здоровые люди, которым едва–едва перевалило за двадцать.
9
Адриан Фомич, погромыхивая тяжелой связкой ключей, отомкнул огромный замок, разогнул его заржавевшие челюсти.
– Вот еще сюда…
Председатель колхоза занимался, в сущности, нелепым делом – показывал уполномоченному колхозные закрома. А они были отменно чисты, попахивали слегка пыльцой, даже в щелях не найдешь ни зернышка. Адриан Фомич водил Женьку от амбара к амбару, отмыкал неподатливые замки. Ничего не попишешь, так надо, Женька обязан потом с чистой совестью отчитаться: осмотрел все, убедился – чисто, ни зернышка.
На него надеются – хотя бы тонну хлеба, чтоб было за чем прислать машину. Тонну?.. Даже мыши сбежали, до того чисто.
А только что в это утро Женька пережил унижение. Евдокия к завтраку напекла картофельных оладий. Подрумянившаяся картошка лежала на черном, с отливом в рыжину и в зелень хлебе, точь–в–точь по виду напоминавшем свежий коровий навоз. «Вот она, травка–то…» Перед Женькой положили сельповский хлеб.
– К нашему привыкать нужно, сразу–то его не уешь.
Женька во время отступлении дно подели питался одними лишь сырыми бураками – только сырыми! Его желудок не способен был, пожалуй, переварить лишь железные гвозди. Трава, что ж, едят же ее другие. Даже интересно, какого она вкуса. Должно быть, никакого, недаром же говорят: «пресный как трава». И он храбро откусил.
Нет, печеная трава не была безвкусно–пресной. Липкая каша, которую он взял в рот, резко пахла гнилостным, перебродившим запахом. Человек – всеядное животное, и Женька был не самый привередливый из людей, но… не выдержал, припадая на раненую ногу, выскочил па крыльцо.
На крыльце сидел странник Митрофан в своем рваном малахае, в бабьем платке вместо шапки и уплетал из рукава такую же оладью из травы.
И на глазах–то этого Митрофана–убийцы Женька перегнулся через перильца…
– Кхе–кхе! Оскоромился…
Сейчас его водят по амбарам, где по–чердачному пахнет пылью.
– Головой не стукнись, тут низко.
Последний амбар. Адриан Фомич как–то неловко отвел взгляд в сторону, бескровное лицо его бесстрастно.
В углу под стеной куча. Женька сначала подумал – мусор, мякина. Перевалился с раненой ноги на здоровую, шагнул к куче, зачерпнул горсть и сразу же покрылся испариной – пшеница, тощая, сорная, дурно провеянная, по пшеница.
Старик бесстрастно смотрел в сторону и молчал.
Мешка три, если не меньше. Жалкая куча сорного зерна. Ее не прячут, иначе бы держали не в общественном амбаре. Унеси в любой дом, положи на поветь, накрой сеном – кто б тогда ее нашел? Прежние уполномоченные – а сколько их прошло здесь до Женьки? – наверняка знали об этой куче.
Адриан Фомич негромко произнес:
– Весна будет. Сеять придется.
И Женька ухватился за его слова:
– На семена оставили?
Адриан Фомич покачал головой:
– Какие же это семена – сор заметенный.
Да он, Женька, не хуже старика знал, что и Нижнеечменском районе забрали на госпоставки все, даже семенной фонд.
– Весной людям работать, – продолжил спокойно Адриан Фомич. – Много ли, сам посуди, на траве наработаешь. Вот все, что сберег, весной по горсточке выдавать буду… Работникам…
Женька ковырял палкой в куче: «Что ж ты мне, старик, показываешь? Я же обязан эту пшеницу сдать! Для того и приехал – найти резервы. Резерв…» Но ничего не сказал, тихо высыпал из горсти зерно в кучу, вытер ладонь о шинель. После сорной пшенички почему–то жгло ладонь.
Три мешка не спасут ни государство, ни авторитет приезжей бригады, ни самого Женьку. Если он отсюда ничего не вывезет, ни одной горсти – поругают за неактивность для порядка, но каждый поймет – уж коль нет, то и не родишь. Если же привезет всего три мешка – будут смеяться: вот, мол, это размах. И никогда он не простит себе, если отберет эти последние три мешка зерна пополам с сором.
– Да, – вдруг торопливо заговорил Женька. – Да… Весной вам круто придется. Пошли.
«Для работников, для тех, кто закладывает новый урожай. Разве не резонно?..» Знакомый командир хозвзвода старшина Лядушкин частенько говорил: «Приказ начальства для нас – закон. А закон – что телеграфный столб: перешагнуть нельзя, а обойти можно».
Они вышли из амбара под мелкий дождичек, сеявшийся на пустынную деревню Княжицу.
10
В конторе правления, в простенке рядом с отрывным календарем, забыто висит пожелтевший портретик – седой нестриженый человек с чопорно–горделивым лицом в подслеповатых очках. Отрывной календарь меняют каждый год, а портрет бессменен, повешен, быть может, во времена зарождения колхоза «Красная нива». И как он попал сюда, в деревню Княжицу? Женька еще в школе любил почитывать стихи, только потому и угадал – изображен на портретике поэт Тютчев. Тот самый, кто написал песню: «Я очи знал, – о, эти очи! Как я любил их, – знает бог!..»
Случайно занесло сюда Тютчева, случаен и Женька. Самое разумное – встать бы сейчас, взять палку и… даже лошади бы не просил, пешком бы, хромая по грязи, из Княжицы, из Кисловского сельсовета, из Нижиеечменского района…
Хлеба нет, в амбарах даже запах чердачный. Нет хлеба – наглядно, как бывает наглядна сама пустота. Что тебе здесь делать, товарищ уполномоченный?..
До сих пор ты видел войну в лицо: освещенные луной улицы разбитого Сталинграда, улицы – что долины среди диких, выветренных скал, скованная льдом речка Царица, заваленная смерзшимися в корчах трупами, закопченные горбы печей на углищах – степные хутора… А теперь погляди вот на эту войну сзади, с затылка: тихие–тихие, словно вымершие деревни без мужиков: подавляюще просторные – «зернышко оброни» – поля, переставшие рожать; лепешки на столах, похожие на коровий навоз…
Он, Женька, не волен взять палку и уйти, его командировочное удостоверение выписано на две недели. Ты словно дал служебную присягу, нарушение ее приравнено к дезертирству.
А можешь ли ты сказать во всеуслышание правду, простую, как капля дождя, очевидную, как грязь на дороге, безнддежную, как осенняя погода? Хлеб надо еще вырастить, а на выращивание урожая уходит целый год, две командировочные недели тут никак не помогут.
Женька глядит мимо портрета Тютчева в окно. «Я очи знал, – о, эти очи!..»
За окном – дождь не дождь, просто мокрота, за окном – осень–сверхсрочпица. Всего–навсего осень, впереди долгая зима, весна, лето – ох, как далеко до нового урожая!
Адриан Фомич сидит рядом, не снимая шапки.
– Может, бумаги посмотришь?.. Документацию о сдаче, – предложил он. – У нас каждая справочка подшита.
Хлеб заменить канцелярскими бумажками!
Командировка выписана на две недели!..
За низеньким оконцем мелькнула тень, прочавкали быстрые шаги, простучали по крылечку, бухнула входная дверь.
– Кто там – кладовщица или Симка–счетоводка? – погадал равнодушно старик.
Нет, не Симка и не кладовщица. В шерстяной шали, втиснутая в подростковое пальто – талия узкая, бедра распирают, – стуча солдатскими кирзовыми сапогами, вошла Вера.
– Здрасте вам! – счастливым голосом. И белозубая улыбка, и лицо мокрое, исхлестанное ветром, и мокрые, слипшиеся ресницы, и сияние под ними.
И Женька, сам того не ведая, тоже расплылся от уха до уха. Не ждал и не верил, что такое чудо возможно – «здрасте вам!». Такой вот шальной клыкастенький оскал бывает у молодых добрых собак: «От избытка чувств даже куснуть могу, но вреда не сделаю». И чопорно глядит с простеночка засиженный мухами Тютчев: «Я очи знал, – о, эти очи!..»
– Здравствуй, сорока, – ласково поприветствовал Адриан Фомич. – Что принесла на хвосте?
– Обожди, не сразу… Отдышусь. Погодка–то – страсть. В поле дует… Как живете–можете? – И веселым, с искрою, глазом провела по лицу Женьки – обожгла.
– Да вот гадаем, что нам делать? И сгадать не можем. Хоть бы цыганка какая подвернулась, на картах раскинула.
– Может, я за нее сойду?
– Нагадаешь – спасибо скажем. Верно, товарищ уполномоченный?
Женька смущенно обронил:
– Безвыходное положение.
Вера повела в его сторону румяной скулой:
– Установочку дали…
– Уже кое–что, – одобрил Адриан Фомич.
– Те ометы, что в сырую погоду молотили, – перемолачииать. Там должно зерно остаться.
– Кто же до этого додумался?
– Да новый ихний – товарищ Божеумов. Он в колхозе «Борьба» самолично проверил солому после обмолота. Говорит: осталось зерно, можно взять…
– А можно ли?
– Мое дело передать, а вы – как знаете.
– Что ж, Фомич, надо, – подал голос Женька. – Если хоть какое-то зерно не домолочено, то оставлять его гнить – преступление по теперешнему времени.
Вера рассмеялась:
– Не сгнило бы…
– Как это? – не понял Женька.
– Они, может, так и молотили, чтоб самый чуток оставался. Зимой бы каждый по охапочке в дом носил. С охапки по щепоточке, а с мякиной – пригоршня. Верно я говорю, Адриан Фомич?
– Верно, красавица, верно. Кто–кто, а ты–то своя девка, соседская, знаешь, что наш народ – ловкач. Зимой тишком жиреет, никто и не замечает.
Вера фыркнула:
– Да уж, жиреет… А что-то вам делать надо, сидеть сложа руки не дадут, да и самим, поди, тошно.
– Опять, умница, в точку попала. Сидеть сложа руки тошно. Лучше уж с пустой соломой поиграть.
– Трактор скорей просите под молотилку. Не то на лошадях прикажут. Пока трактор идет, вдруг да погодка повыветреет.
– А все-таки я хотел бы проверить прежде – осталось ли в ометах зерно, – сказал Женька. – Зачем мартышкиным трудом заниматься.
– Ометы в поле.
– Сходим сейчас к ним, Фомич.
– Сходим, коль хочешь. Ты – начальство, я обязан во всем тебя слушаться.
– Я могу показать ометы, – вызвалась Вера. – К себе в Юшково бегу, а это по дороге.
– И то дело, – хитро сощурился Адриан Фомич. – Проводишь, Евгений, девку, чтоб волки не покусали.
Вера сверкнула оскальцем.
– Волки! У нас их столько же, сколько парней. Все дороги обегала и ни одного не встретила… волка.
Поля в черной, перепревшей стерне. Скользит, скользит по ним взгляд, оглушает влажная тишина, утомляет пустынность. И не понять, чего так садняще жаль – то ли всю эту дичающую от недостатка рук землю, то ли самого себя, слабого, неспособного помочь ни этой земле, ни людям.
А самому себе ты чем–нибудь поможешь? Тебе уже двадцать два года. Оглянись назад – жизнь твоя схожа с этими полями: скупа красками.
В восьмом классе он влюбился в Ляльку Возницыну, как ни странно, со спины. Лялька сидела в классе впереди него, и однажды он заметил – у нее из–под рыжеватых воздушных завитков твердая белая шея падает вниз с каким–то стремительным уклоном и растекается под тонким ситцевым платьем в столь же твердую, упругую, гибкую и текучую спину. После этого он стал замечать, что у Ляльки Возницыной и особая походка – порывистая и, сдержанная одновременно, и движения крепких маленьких рук мягкие и решитольно–властные, и голос у нее низкий, из глубины, обволакивающий. Даже сквозь лицо ее, вяловатое, с этакой не сходящей дремотцой, если вглядеться, проглядывало другое лицо – твердое, настороженное, пугавшее Женьку.
Нет, он не осмелился к ней подойти, не заговаривал, но провожал после уроков до дому. На переменах он тайком, стесняясь и страдая, любовался ею со стороны. Но время же уроков он ничего не слышал, ни о чем не мог думать, все мысли, все чувства были заняты покато падающей белой шеей. В этот год он учился много хуже.
Он ждал каждый день, каждый час, каждую минуту, от урока к уроку… Он ждал великого случая – вдруг да Лялька обернется к нему, первая заговорит… И тогда он признается во всем.
Но Лялька так и не обернулась. На следующий год она уехала из села – ее отца перевели в другой район. И впереди Женьки стал сидеть Витька Жижин – короткая шея заросла волосней. Так и прошла Женькина первая любовь – со спины. Первая и единственная.
Свои восемнадцать лет он встретил на пересыльном пункте. Потом землянки запасного полка, походы с полной выкладкой, стучащие колеса теплушек, фронт…
Вера идет рядом, выступающие из широких кирзовых голенищ колени воюют с полами пальто, норовисто бодают на каждом шагу. Твердые и округлые колени, обтянутые рыжими чулками. Из–за края пушистой шали мокрая лоснящаяся бровь, оброненные ресницы, короткий нос, плавная, постепенно крепнущая линия обветренной скулы. В этой скуле застывшее ожидание.
Только самому себе Женька мог признаться, что любил всего лишь раз в жизни, и то «со спины», не знал еще близости ни с одной женщиной, только слышал об этом из слишком откровенных рассказов бывалых дружков–солдат. Да читал в книгах… «Я очи знал, – о, эти очи! Как я любил их, – знает бог!..»
Заглядывался… В госпитале на сестру, толстощекую и сероглазую. В Полдневе – сразу на двух: на остропосепькую делопроизводительницу в райкоме комсомола и на учительницу математики старших классов, замужнюю женщину, а может, уже и вдову, так как от мужа с фронта давно что-то никаких вестей. Пока лишь заглядывался…
Округлые, булыжно твердые колени отгоняют от себя назойливые полы пальто. Профиль Веры застывше натянут. Надо было оборвать молчание, и Женька вспомнил о Кистереве.
– Как он себя чувствует?
Вера разлепила губы:
– Завтра, наверно, на работу выйдет.
– Может, теперь вообще на ноги встанет.
– Нет уж, чего обманываться – помрет скоро.
– Вы об этом так спокойно…
Вера резко повернулась – мрак зрачков в упор, вздрагивание отточенных ресниц:
– Не жалею, да?
– Зачем вы сердитесь?
– Я на себя!.. Рада бы всех жалеть, да не хватает меня на всех–то… – Вера отвернулась и заговорила торопливо, с легкой запальчивостью: – Сейчас еще что, а вот весной… Весной в деревнях на завалинках ребятишки сидят – ручки тонюсеньки, шейки тонюсеньки, головы как горшки, и животы, и глазищи… Глаза–то так в душу тебе и глядят. И лица их как у старичков, кожа складочками и морщинами. Хоть кричи… Возьмешь после кусок хлеба, и рука не подымается ко рту донести. Все их видишь, глазищами в тебя уставились. Ежели б своим куском накормить их можно… Отдала бы последний, умереть готова… Но своей–то пайкой одного не накормишь, не то что всех. Дай себе волю жалеть – изведешься, а пользы что?.. Я отворачиваться научилась. А вот Сергей Романыч Кистерев научиться этому не может. Все думают, что он от ран болеет, он душой болен… Он тает, а вот я кремешок. Он помрет скоро, а я выживу.
Она шла, попинывая коленями полы тесного пальто, крепкая, рослая, с заносчивой осаночкой, до чего хороша – все простишь. Женька, опираясь на палку, тянул по грязи раненую ногу. Небо набрякло, потемнело, казалось, еще больше снизилось, мир распластанных полей съежился – надвигались очередные сумерки, до изнеможения похожие на вчерашние, позавчерашние.
– Вон омет, – остановилась Вера. – Самый близкий от дороги… По полю к нему сейчас не пройти – увязнете. А потом – зачем?..
– Как – зачем? Проверить–то нужно – есть ли зерно?
– А ежели зерна не будет, тогда что?
– Если не будет, не будем и молотить.
– И что же вам тогда делать – сидеть сложа руки?
– Сидеть?.. – повторил Женька.
И ему сразу вспомнилось, что командировочное удостоверение у него выписано на две подели. Сидеть сложа руки две недели, с глазу на глаз с насиженным мухами Тютчевым?.. Страшнее казни не придумаешь.
– Уйду и честно заявлю – хлеба нет!
– Вы заявите, и вам поверят? Думаете, до вас не клялись – нет хлеба…
Посреди раскисшего поля в тусклых сумерках возвышался омет, огромный и сутулый, как допотопный мамонт. К нему не пройти, да и незачем. И Женька заговорил раздраженно:
– Что же вы раньше–то?.. Объяснили бы толком. Мне ведь по грязи скакать не просто – полторы ноги имею.
Вера примирительно произнесла:
– все-таки, думаю, чуток возьмете хлеба. В сырость же молотили. – Смущенно отвела взгляд, передернула зябко плечами: – Мокрядь какая… До нашей деревни идемте. Тут совсем близко. Отдохнете у меня…
Глядела в сторону, каменела в ожидании. Женька молчал, переминался, наконец не обронил, а скорее сглотнул:
– Хорошо.
Все крестьянские избы похожи друг на друга – красный угол, печь з адоски, лавки, фотографии в рамке на стене… Выглядят схоже, а пахнут по–своему. Изба Адриана Фомича пахла согретым жильем, Верина – отсыревшей нежилью.
Вера объяснила:
– Мать к сестре перебралась на всю зиму. Там ей легче. А я разве могу бегать сюда каждый день из села. Вот и стоит дом в забросе. Когда прибегу – истоплю, а так – в холоде, тараканы даже сбежали… Да вы раздевайтесь, сапоги сымите. Намяли, должно, ногу–то. Я вам сейчас валенки принесу.
В полутемной избе, под тусклым светом неохотно разгорающейся лампы, она казалась неестественно крупной. На округлых просторных плечах старенькая вязаная кофта, слепяще белая крепкая шея, лицо ее при свете лампы выглядит грубым, броским, зовущим. И тесная юбчонка облипает без морщинки бедра… Такая сильная, такая пугающе красивая выросла в этой мрачной избе, в этом кислом воздухе, в это голодное военное время!
Она металась по избе, – разгорелась печь, запахло дымком, появились валенки, новенькие, что железные на ощупь, но ноге в них было удобно, щелястая выскобленная столешница покрылась белой скатеркой, и сразу же стало уютно…
– А у меня припрятано… Хотела было отдать трактористам, чтоб дров привезли. Ничего, сделают и за спасибо… Селедочка даже есть.
На белой необмятой скатерке оказалась мутно–зеленая поллитровка, два пыльных граненых стакана, крупно нарезанная тощая селедка, хлеб в деревянной миске – покупной, с глянцевитой корочкой.
– Сейчас картошка поспеет…
Сели друг против друга, у Веры сбежал с лица румянец, глаза с вызовом блестели. Женька испытывал озноб под гимнастеркой, от смущения поспешно опрокинул в себя полный стакан водки, крякнул как можно картинней. Выпила и Вера, запрокинув голову, выставив напоказ слепяще–белое сжимающееся горло.
– Вот так! – со стуком поставила. – Молчишь? А ты хвали меня, не стесняйся.
– Молодец. Лихо водку хлещешь.
– Я вообще лихая – сама на шею вешаюсь.
– Зачем ты себя?
– Проверить хочу: могу ли такая нравиться?
– А ты не такая… Не притворяйся.
И она вдруг сникла:
– Верно. Притворяюсь. Я с мужчинами вот так еще не сиживала, водку не пила…
Женька постеснялся признаться, что и он впервые в жизни сидит вот так, с глазу на глаз, с женщиной, хотя водку пивал в разном обществе, и даже отважно.
– В нашей деревне нас девять девчонок росло, – негромко заговорила Вера. – Гулять шли – улицу перегораживали, все одна другой краше, и ростом, и статью… Бабы на нас как поглядят, так и начинают: мол, скоро от женихов деревне продыху не будет, все огороды перетопчут. А что получилось?.. Женихи… Они с винтовками поженились. Многих и вовсе уже нет. А мы, девки… Трое на лесозаготовках надрываются, что лошади. Двое в ремесленное уехали, живут кой–как на городском пайке. Две Любки, Костина да Гвоздева, из деревни так и не выехали, вместе с бабами хлебают лихо, поглядишь теперь – обе старухи, сама даже не верю, что они мне ровесницы. А Нюрка Ванина померла в прошлом году, врачи говорили – воспаление легких. С голодухи–то и насморк в могилу загонит… Все ждешь, ждешь чего–то… Нюрка тоже ждала… – Вера схватила Женькину руку, прижала к полыхающей щеке: – Как увидела тебя, так и поняла – он!.. Хоть на времечко…
Оно долго возилась за занавеской, шуршала одеждой.
Лампа была погашена. Луна то заглядывала в низкое оконцо у изголовья, то затуманивалась. Ветер, мотавшийся весь день по полям, разогнал наконец войлочную плотность облаков. То вспыхивали, то гасли никелированные шишечки на кровати.
Шуршание одежды за занавеской наконец стихло. Скрипнула половица… Луна осветила ее ноги. А выше поолыхающих ног, в тени, – туманно–мутное, облачно–бесплотное тело, можно различить мерцание глаз, мрак волос, откровенные, как раскрытая книга, бедра… Она согнулась, окунув в лунный свет плечи и вздрагивающие груди, поднесла вплотную распахнутые глаза, задышала горячим прерывистым шепотом:
– Ой, миленький, ой, родненький, боюся…
Гладко прохладная, выкупанная в остужающем лунном свете, вздрагивающая, заражающая страхом… Они были оба одинаково неопытны и неловки.
Потом лежали, прижавшись друг к другу, вслушиваясь в собственное дыхание, в неясный скрип и покряхтывание старой избы. По–прежнему за окном среди облаков летела луна и не могла никак вылететь из тесного оконного проема. То гасли, то вспыхивали никелированные шары на кровати. Она жалась к нему, он обнял, стал гладить густые, мягкие, скользкие волосы. Рука задела за щеку, щека была мокрой и холодной.
– Плачешь?
– Ничего, ложи.
– Ты что?..
– Вот я еще хуже стала… ненамножко.
– Ты хоть сейчас–то себя не пинай.
– Уже не девка, уже порченая. Пусть.
– Глупая ты.
И она не ответила, тесней прижалась, похоже, согласилась. А он вдруг почувствовал себя умней ее, сильней ее, старше. Вдруг… Потому что несколько минут назад ни сильным, ни старшим себя не сознавал – послушный теленок…
И его затопила благодарность.
Он гладил густые, текучие под пальцами волосы.








