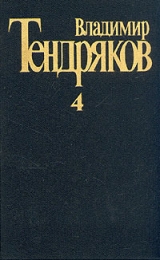
Текст книги "Три мешка сорной пшеницы"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Владимир Федорович Тендряков
Три мешка сорной пшеницы
Однажды ночью к телефонистам затерянной среди степи промежуточной станции явились нежданные гости – дерганый, крикливый старшина и два солдата. Они притащили на себе раненного в живот лейтенанта.
Старшина долго кричал по телефону, объяснял начальству, как над их машиной «навешали фонари», обстреляли с воздуха…
Раненого пристроили на нары. Старшина сообщил, что за ним скоро приедут, помельтешил еще, надавал кучу советов и исчез вместе со своими солдатами.
Свободный от дежурства телефонист Куколев, согнанный с нар, ушел досыпать из землянки в окоп. Женька Тулупов остался один на один с раненым.
Едва дышал придавленный огонек коптилки, по даже при его скупом свете была видна потная воспаленность лобастого лица и черные, скипевшиеся, словно струпная рана, губы. Лейтенант, едва ли не ровесник Женьке – лет двадцати от силы, – лежал без сознания. Если б не потный, воспаленный румянец, то можно подумать – мертв. Но узкие руки, которые он держал на животе, жили сами по себе. Они лежали столь невесомо и напряженно на ране, что казалось – вот-вот обожгутся, отдернутся прочь.
– П-пи-и-ить… – тихо, сквозь плотную накипь неразведенных губ.
Женька вздрогнул, услужливо дернулся за фляжкой, но тут же вспомнил: среди многих советов, которые высыпал перед ним старшина, самый строгий, самый настойчивый, повторенный несколько раз подряд, был: «Пить не давай. Ни капли! Умрет».
– Пи-и-ить…
Отложив на минуту телефонную трубку, Женька распотрошил индивидуальный пакет, оторвал кусочек бинта, намочил его, осторожно приложил к спеченным губам. Губы дрогнули, по воспаленному лицу словно прошла волна, шевельнулись веки, открылись глава, неподвижные, устремленные вверх, заполненные застойной влагой. Открылись только на секунду, веки снова упали.
Лейтенант так и не пришел в сознание; продолжая бережно прикрывать ладонями рану, он зашевелился, застонал:
– Пи-и-ить… Пи-и-и-ить…
Женька мокрым бинтом вытер потное лицо раненого. Тот притих, обмяк.
– Лена? Ты?.. – неожиданно спокойный, без сипоты, без боли голос. – Ты здесь, Лена?.. – И с новой силой, со счастливой горячностью: – Я знал, знал, что тебя увижу!.. Дай мне воды, Лена… Или попроси маму… Я же тебе говорил, что война уберет грязь с земли! Грязь и плохих людей! Лена! Лена! Будут города Солнца!.. Белые, белые!.. Башни! Купола! Золото! Золото на солнце – больно глазам!.. Лена! Лена! Город Солнца! .. Стены в картинах… Лена, это твои картины? Все смотрят на них, все радуются… Дети, много детей, все смеются… Война прошла, война очистила… Лена, Лена! Какая была страшная война! Я тебе об этом не писал, теперь говорю, теперь можно говорить… Золотые шары над нашим городом… И твои картины… Красные картины на стенах… Я же знал, знал, что построят при нашей жизни… Мы увидим… Ты не верила, никто не верил!.. Белый, белый город – больно глазам!.. Горит!.. Город Солнца!.. Огонь! Огонь! Черный дым!.. Го-о-орит! Жарко!.. Пи-и-ить…
Поеживался рыжий червячок огонька на расплющенной гильзе противотанкового ружья, низко нависал косматый мрак, под ним на земляных нарах метался раненый, воспаленное лицо при тусклом свете казалось бронзовым. И бился о глухие глинистые стены рвущийся мальчишеский голос:
– Лена! Лена! Нас бомбят!.. Наш город!.. Горят картины! Красные картины!.. Дым! Ды-ым! Нечем дышать!… Лена! Город Солнца! ..
Лена – красивое имя. Невеста? Сестра? И что это за город?.. Женька Тулупов, прижав к уху телефонную трубку, подавленно смотрел на мечущегося на нарах раненого, слушал его стоны о странном белом городе. И рыжий червячок коптилки, шевелящийся на ребре сплюснутого патрона, и приглушенное кукование в телефонной трубке: «Резеда»! «Резеда»! Я – «Лютик»!.. И вверху, над накатом, в ночной опрокинутой степи, далекая автоматная перебранка.
И – бред умирающего.
Его забрали часа через три. Два спящих на ходу старика санитара в расползшихся пилотках втащили брезентовые носилки в узкий проход, сопя и толкаясь, перевалили неспокойного раненого с нар, покряхтывая, вынесли его к нетерпеливо постукивающему изношенным мотором пыльному грузовику.
А над утомленно-серой, небритой степью уже просачивался призрачно блеклый рассвет, еще не совсем отмытый от тяжкой ночной синевы, еще не тронутый солнечной золотистостью.
Женька провожал носилки. Он с надеждой спросил:
– Ребята, если в живот, то выживают?..
Ребята – тыловые старички – не ответили, карабкались в кузов. Ночь кончалась, они спешили.
На нарах остался забытый планшет. Женька открыл его: какая-то брошюра о действиях химвзвода в боевой обстановке, несколько листков чистой почтовой бумаги и желтая от старости, тонкая книжка. Письма от своей Лены лейтенант хранил где–то в другом месте.
Тонкая пожелтевшая книжки называлась – «Город Солнца». Так вот оно откуда…
Кожаный планшет Женька через педелю подарил командиру взвода, а книжку оставил себе, читал ее и перечитывал во время ночных дежурств.
За Волчанском, при ночной переправе через маленькую речку Пелеговку, рота, за которой Женька тянул связь, была накрыта прямой наводкой. На плоском болотистом берегу осталось лежать сорок восемь человек. Женьке Тулупову осколком перебило ногу, он все-таки выполз… вместе с полевой сумкой, где лежала книжка незнакомого лейтенанта.
Сохранил ее в госпитале, привез ее домой – «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.
1
Поселок Нижняя Ечма ни разу не видел над собой вражеских самолетов, знать не знал, что такое светомаскировка. Изрытые снарядами поля были где–то за много сотен километров – здесь тишь, глухой, недосягаемый тыл. И все-таки война даже издалека разрушала поселок: поп адали заборы, и некому было поднять их, разваливались, – до того ли? – дощатые тротуары, магазины стояли с заколоченными окнами, а те, что еще работали, открывались всего на два часа в день, когда привозили из пекарни хлеб, чтоб продать его по карточкам и опять закрыться.
В свое время нижнеечменские ярмарки собирали народ из–под Вятки и Вологды, но это уже помнят только старики. Однако и позднее, вплоть до самой войны, еще ходили завистливые поговорки: «На Ечме не паши, не борони, только зернышко оброни», «У ечмяка намолот – на три года вперед».
Сейчас липкое утро с натужно вялым рассветом, почерневшие бревенчатые дома, черные ветви голых деревьев, черная грязь кривых улиц, застойность свинцовых луж – одноцветность, тусклота, заброшенность. Позднее утро поздней осени.
Но это осень 1944 года! В центре поселка на площади – столб с алюминиевым раструбом громкоговорителя:
– От Советского Информбюро!..
Голосом Левитана – величавые сводки с фронтов. Что ни день, то взятые новые города, форсированы новые реки. Война перекатилась на чужие земли.
– От Советского Информбюро!..
Сильней всяких клятв эти слова. Четвертый год тянется война, но теперь–то уж скоро, скоро… Нет ничего более желанного, чем проснуться утром и услышать, что наступил мир, – счастье, одинаковое для всех!
Над поселком Нижняя Ечма – серое небо затянувшейся осени, свинцовые лужи, одноцветность. Но пусть осень, пусть свинцовость – скоро, скоро!..
Тут же у площади – двухэтажное здание райисполкома. Сегодня возле него выстроилось несколько обремененных грязью полуторок, и еще лошади, низкорослые, лохматые, запряженные в разбитые возки. На крыльце топчутся шоферы, повозочные, служилый люд.
Людно и в коридорах райисполкома – висит махорочный дым, хлопают двери кабинетов, сдержанно гудят голоса.
Вчера в район прибыла бригада уполномоченных. Не один, не два, а целая бригада с областными мандатами, по из другого района – из Полдневского, более глухого, чем Нижнеечменский. Тринадцать человек, чертова дюжина, в стареньких пальто, в дошках, в растоптанных сапогах, в брезентовых плащах – свой брат районщик, а поди ж ты – начальство, каждый призван командовать от имени области.
В кабинете на втором этаже (дверь охраняет суровая интеллигентная секретарша с махорочной самокруткой в зубах) сидит в мягком креслице сухонький старичок с коротко стриженной седой головой, с розовыми мальчишескими ушами – грубые сапоги, помятый пиджачишко, галстучек с замусоленным узлом – глава бригады уполномоченных, председатель Полдневского райисполкома Чалкин. Он морщится простецкой улыбочкой, сокрушенно качает ушастой головой, говорит со вздохом:
– Надо, детки, надо.
А «детки» перед ним – не кто иной, как местные хозяева, первый секретарь райкома и здешний предрик, люди видные, властные, с опытом, с хваткой, не столь давно занимавшие ответственные посты в областном городе, посланные сюда со спецзаданием – вытянуть из прорыва район.
Наиболее известен из них – Иван Васильевич Бахтьяров, седой, грузный, пухлоплечистый, на широком, грубовато вытесанном лице дремотная невозмутимость. Он до войны был агрономом, удивил урожаями, получил славу, орден и место директора самого крупного совхоза в области. В начале войны, с наплывом эвакуированных, в областном городе стало совсем плохо со снабжением – по рабочим карточкам выдавали хлеб да селедку. Вспомнили о Бахтьярове – кормил до войны, накорми сейчас. И он за год на пустошах, на бросовых землях сколотил вокруг города более десятка подсобных хозяйств, выдававших картофель, капусту и другие овощи. Бахтьярова начали бросать и на местную промышленность, и в захиревший без товарооборота облпотребсоюз – туда, где что-то можно получить. Одно то, что он оказался в Нижней Ечме секретарем райкома, говорит само за себя.
Как это ни странно, но Нижняя Ечма страдала от своего богатства, от вызывавших постоянную зависть земель – «зернышко оброни». С хороших земель и всегда–то спрос хорош, а уж в военное время особенно: планы госпоставок круто взлетели, да сверх их выдай в фонд обороны, да добавочные нагрузки, чтоб покрыть отстающие районы… «Зернышко оброни» только в присказках само по себе прорастает – рабочих рук нет, мужчины ушли на фронт, а вместе с ними большая часть тракторов и лошадей. Недодал в этом году – значит, за тобой должок, отдай в следующем, а на следующий и без этого должка недодача; долги растут, как крапива на навозе. Четвертый год идет война, с каждым годом район в сводках по области скатывался все ниже и ниже.
Здесь много раз менялось начальство, сюда потоком шли уполномоченные – ничего не помогало. Выходит, что и и Бахтьяров этот раз не помог, коль область решилась бросить к нему «ударную» бригаду. Не та палочка–выручалочка.
В области отставал не один Нижнеечменский район, всюду требовалось подталкивать, во все концы приходилось направлять уполномоченных. Снимались с мест не только инструктора, инспектора, штатные единицы облминзага, но и руководящие работники связи, образования, культуры, даже деятели местной кинофикации, даже партактив краеведческого музея – всем вручались командировки в глубинки. И этих уполномоченных, однако, не хватало. Тогда кому–то пришло и голову действовать «массированными ударами». (Шла война, военная терминология и военные приемы были в моде.) То есть подымать служащих из тех районов, которые числятся в передовых, бросать в отстающие. Уже не единицами, а целыми партиями–бригадами – «массированно».
Полдневский район – лесной да болотистый, областная окраина. С такого много не возьмешь – мало пахотных площадей. Потому и война его не очень подкосила. Прежде жили не красно, теперь тоже хвалиться особо нечем, но планы выполняли, иногда даже – если уж сильно нажимали – с излишком. За неимением лучших и области Полдневский район числился на хорошем счету.
В Полдневе наметили бригаду, согласовали списки с областью: заврайтоп, завкожзаготсырье, завдоротделом, словом, набор мелких завов, которыми и у себя-то обычно затыкали каждую дыру. А во главе встал предрик Чалкин, чтоб общаться с местным начальством на одном уровне.
И Чалкин сейчас морщится стариковской улыбочкой:
– Надо, детки, надо. Должны, кровь из носу, добыть какой–то хлеб, иначе зачем же мы к вам нагрянули.
У Бахтьярова под дремотными веками никак не дремотные глаза – остренько ощупывают улыбчивого гостя. Сам Бахтьяров едва ли моложе старика Чалкина – не столь морщинист, зато сединой гуще. Но – «надо, детки!» – молчит, сносит. Хотя совсем недавно – повстречай он в городе такого Чалкина – в упор бы не заметил, если о тот сам о себе не напомнил. Предрик из забытого Полднева, из лесной дыры! Такие обычно обивают пороги кабинетов, выпрашивают на бедность то лишнюю сотню литров горючего, то «ради Христа каких–нибудь промтоваров подкиньте, обносился народ, сам в латаных штанах хожу»… А теперь: «Надо, детки, надо!», – похлопывает. И по вздумай осадить: «Вы не в семейном кругу, товарищ Чалкин!» Добрый дедушка живенько даст острасточку – старший, область послала.
Бахтьяров грузно ворочается в тесном кресле, отвечает глухим баском:
– Что же, действуйте. Мне лично интересно узнать, как достается хлеб там, где он не вырос.
Но Чалкин пропускает мимо ушей «не вырос», не вскидывается – что, мол, за речи? – добрейше улыбается, успокаивает:
– Как–нибудь, как–нибудь. Раз надо, так надо – отыщем резервишки.
Бахтьяров невозмутимо из–под тяжелых век ощупывает лицо гостя, каждую улыбчивую морщинку с предельным вниманием, а молчащий предрик, второй хозяин Нижний Ечмы, шумно вздыхает – от безысходного сочувствия к себе.
2
В это время члены бригады Чалкина, все эти завтоп, завкож, завдор, выбрались на крыльцо, без воодушевления взирали на унылый поселок. Люди пожилые, обремененные язвами желудка, сердечными пороками, диабетами – потому и не на фронте! – уставшие от бесконечных командировок, от ночевок на полу, от директивных звонков, от жалоб, от домашних забот – нет дров, картошки, одежонки, – эти районные «мальчики на посылках» жалели чужой район, но жалели без доброжелательства.
– Обрастай, овцы, шерсткой – стригалей нагнали.
– Как бы овцы самих нас не остригли. Прикажут сверху – помогай!
– Эх, веселое занятие – своих толкали, теперь чужих…
– А тут еще погодка – удавиться хочется…
И отворачивались друг от друга, скользили тоскующими глазами по грязной дороге, по черным стенам домов, по мокрым крышам – осень, унылая захребетница, ворующая у зимы неделю за неделей.
Только двое из всей бригады не раздоляли общего настроения. Первый – Илья Божеумов, заместитель Чалкина. Он сейчас «зондировал почву», долговязый, тонконогий, в короткой дошке, в хромовых сапогах с галошами, бродил возле машин, заводил беседы и уже начальственно помахивал костлявым пальцем – наставлял.
Второй стоял в общей куче – молодой парень с застенчиво румяной физиономией, в шинельке, тесно ушитой в талии, приосанившийся в петушиной стоечке – одна нога (раненая) чуть поджата, тяжесть тела перенесена на толстую, выструганную из добротной доски–полуторадюймовки палку. Женька Тулупов, недавно вернувшийся из госпиталя, выдвинутый вторым секретарем Полдневского райкома комсомола…
Он глядел на всех внимательными, разнеженно теплыми глазами. Старики, встречаясь с этим взглядом, отворачивались с досадкой: уставился барашек, хорошо такому – ничто не беспокоит, ни о чем всерьез не думает. И ошибались. Парень думал, оценивал стариков, жалел их, даже презирал чуть–чуть, считал себя мудрей и старше.
Да, старше! Да, опытнее! Эти старики прожили долгую–долгую жизнь, считают – все видели, все знают. Нет! Вранье! Он, Женька Тулупов, видел и пережил больше них!
Грязь, сырость, небо лежит чуть ли не на крышах, – значит, проклятое место, нет в нем никакой радости. Избаловались старички. Каждый из них твердо знает, что и завтра, и послезавтра увидит и это небо, и эти мокрые крыши. Увидят они и первый снег, тот слепящий, тот подмывающе чистый, который скроет эту унылую грязь. И наверняка все они доживут до весны, до лопнувших почек, до вечеров с тополиным запахом…
Он, Женька, много месяцев просыпался по утрам, видел солнце, видел облака, видел рыжую изрытую землю, все, что положено видеть человеку, но никогда не знал, что увидит это же вечером. Вечером для него могло не быть ни солнца, ни облаков, ни земли, ни воздуха. Нет для тебя ничего прочного на свете, все выдано до случая. А он, этот случай, может нагрянуть через минуту, через час, через неделю. Даже не верилось, что где–то на планете живут еще люди, которые знают – и завтра они будут жить, и год спустя. Знают и не особо этому радуются…
Низкое небо, мокрые крыши, грязь – да лишь бы они были, лишь бы знать, что навечно! Их видеть! Их чувствовать! Там он часто бывал счастлив куда меньшим: ночью в темноте вылезал из окопа, из пыльной, душной земляной норы, разгибался во весь рост, не боясь – заметят, не боясь – убьют! Во весь рост, не на брюхе, не на четвереньках – по человечьи какой–то миг. Блаженство!
Что знают эти много–много лет прожившие на свете старики, всегда ходившие по земле выпрямившись, а потому и не замечавшие самое землю? Кислая погода, видишь ли, – кислое настроение. Он, Женька Тулупов, открыл для себя простую истину: «Дышать воздухом умеет каждый, но умей насладиться дыханием». Он дышит сейчас сколько угодно, полной грудью. Они – тоже. Какого им ляха еще?.. Живи, пока можно!
На болотистом берегу Пелеговки осталось лежать сорок восемь человек. Среди них Женькин дружок Васька Фролов. А он, Женька, не остался. Счастлив без меры.
Кто отымет сейчас это счастье? Пусть–ка попробует.
Неожиданно возле крыльца появились собаки, не одна, не две – целая свора. Лохматые, вывалянно–мокрые, они деловито, по очереди поднимали лапы на райисполкомовскую оградку, усаживались на грязный тротуар, остервенело чесались. Выделялись два рослых пса – тощие, угрюмые, волчьего склада.
Собаки сопровождали щупленького человека в гражданской кепке и в полупальто из шинельного сукна. Один рукав был пуст, но зато под локтем здоровой руки зажат снятый протез–рука. Кисть протеза в кожаной перчатке торчала за спиной, словно тайком от хозяина просила милостыню.
Божеумов, возвращаясь от машин, брезгливенько пнул галошей подвернувшуюся под ноги собачонку, та взвизгнула и залилась захлебывающимся лаем. И вся разнокалиберная стая вместе с псами волчьей масти всколыхнулась, залаяла и басовито, и сварливо, и пронзительно. Божеумов, растерянно оглядываясь, попятился…
Человек с протезом крикнул на собак, крупные псы замолчали, а мелкота продолжала неистовствовать. Божеумов, взметывая галошами, рванул на полусогнутых к крыльцу. Его встретили дружным смехом:
– Вприсядочку, Илья Дмитриевич!
– Не задевай – мы кусачие!
Божеумов неловко поеживался, приходил в себя:
– Черт их нанес. Словно с неба…
– Хлеба нет, а собак развели.
– А ну ка, подойди сюда! – Божеумов обратил внимание на человека с протезом, поманил пальцем: – Давай, давай поошевеливайся!
Человек, скособочив плечико, прошел сквозь обложивших крыльцо собак, задрал острый подбородок.
– А вы, похоже, невежливы не только с собаками, – сказал он.
На крыльце заинтересованно притихли. Божеумов покачивался с носков на пятку, с высоты крыльца разглядывал стоящего внизу человека с запрокинутым, истощенно бледным лицом, с протезом, зажатым под мышкой. Кисть протеза в черной перчатке торчала за спиной, по-прежнему казалось – она просит тайком от хозяина милостыню.
– Послушай, дружочек, как тебя?..
– Моя фамилия Кистерев, я председатель Кисловского сельсовета.
– Тем более… Председатель сельсовета, представитель, так сказать, власти, а оглянись–ка – на кого ты похож?..
– Вам не нравится, что я похож на самого себя?
– С собаками к учреждению… И в какое время! Стыд!
– Каждый выбирает себе компанию по вкусу.
– Председатель сельсовета со вкусом… собачьим! Ну и ну! – Божеумов перестал покачиваться, поджал губы, нацелил хрящеватый нос и запрокинутое лицо, посмурнел: – Вот что, приятель, убирай–ка отсюда своих ублюдков.
– Забыл вам сообщить, что еще и бывший фронтовой офицер.
– Ты слышал меня? Убирай. И побыстрей!
– И мне не составит большого труда наказать вас за невежливость.
– Да ты знаешь ли, с кем говоришь, братец?
– Похоже, с невменяемым грубияном…
Председатель сельсовета Кистерев осторожно опустил из–под локтя под оградку, на щетинистую мокрую траву, протез, шагнул к крыльцу. Два рослых пса сразу же поднялись и двинулись следом.
– Извинитесь за невежливость, или… или я отвешу вам пощечину своей единственной рукой.
Божеумов поводил ломаным носом с лица Кистерева на псов, стоящих у ног.
– Вы слышали?.. Или отсчитать вам до трех?..
Божеумов резко повернулся, пробил плечом своих земляков, скрылся и коридоре. Кистерев не спеша поднял протез, снова зажал его локтем, взошел на крыльцо и тоже плечиком вперед: «Прошу прощения, прошу прощения…» – скрылся за входной дверью.
– Да–а, – раздалось на крыльце, – здесь кусачи не только собаки.
А собаки расположились на грязном тротуаре, без интереса поглядывали на людей, выкусывали блох…
…Через час хмурый Божеумов отыскал Женьку:
– Едешь со мной.
– Куда?
– В Кисловский сельсовет, к этому… собаководу.
– Пришлось извиниться перед ним?
– Цацкаются, особая личность, видите ли, с боевыми заслугами.
– Нарвался ты.
– Не твоего ума дело – «нар–вал–ся»! И на заслуги бы не поглядели, если б не этот Бахтьяров. Секретарь райкома водит дружбу с чокнутым, чокнутый – с собаками. Компания! А наш старик ни с кем портить отношения не хочет.
– Выходит, все против тебя.
– Ничего, еще не вечер, поглядим, что впереди будет. Едем–то к нему в гости, к собаководу…








