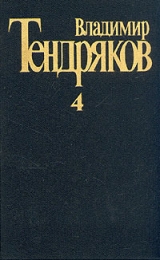
Текст книги "Три мешка сорной пшеницы"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
14
День начался как всегда. Бабы, долго пособиравшись, кучно, во главе с председателем, двинулись в поле, к разворошенному омету. Женьке нужно связаться с Божеумовым. Он сел на стул, продавленный задами, наверное, многих председателей. Прямо перед ним – поэт Тютчев, по правую руку – телефон.
Женька полчаса крутил ручку, дозванивался до Божеумова, наконец дозвонился – в трубке сладко страдал Лемешев: «Куда–а, куда–а, куда вы удалились…» – и рокотал, как гром из дальней градовой тучи, Илья Божеумов:
– Ты знал об этой пшенице, Тулупов?
– Знал.
– Знал и оставил, утаил от государства?
– Я же тебе объяснял только что. Во–первых, семена!..
– Мне жаль тебя, Тулупов. Молод. Биография чистая. Фронтовик. Ты же сейчас весь свой безупречный фасад дегтем пачкаешь.
«Придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной…»
Разговор по телефону занял пятнадцать минут, не считая дознанивания. А что дальше делать? Впереди целый день. Разыгрывай начальника перед собой и перед поэтом Тютчевым.
Женька достал Кампанеллу и – в который уже раз! – принялся перечитывать, вникая в мудрость жителей счастливого города.
«Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство – надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, что они не знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками и т. д.
Община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми – потому что у них есть все, бедными – потому что у них нет никакой собственности, и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им…»
Ну разве не удивительные слова? Триста лет назад сказаны! До чего же туго входит в людей слово правды.
Зазвонил телефон на стене. Ждал – снова услышит градобитный рокот Божеумова, а прозвенело:
– Женечка, здравствуй. Вечером буду дома. Придешь ли?
Запачканный чернилами стол, пыльные папки, осевший шкаф, портрет Тютчева… Придешь ли?..
Ее голос, ее дыхание, ее тепло издалека! «В субботу встретимся. Может, и раньше прибегу».
Сегодня суббота?.. Вовсе нет – еще только четверг!
Придешь ли?.. Господи! Да ползком!..
Снова будет луна, нескромно заглядывающая в окно, туманы над землей, голые коленки, избяной теплый запах, солоноватый вкус ее губ, солнце, рождающееся из ничего, земля–золушка, на глазах превращающаяся в принцессу…
С простенка смотрит чопорный Тютчев. «Я очи знал, – о, эти очи!..»
Сейчас, считай, еще утро. Она будет дома только вечером. И хорошо, что теперь рано темнеет.
Женька снова принялся листать Кампанеллу.
«Любовь у них выражается скорее в дружбе, а не в пылком любовном вожделении…»
Отстранился, задумался. Любовь и вожделение… Ничего не поделаешь, приходится ставить эти слова рядом. Люблю тебя, но не просто так, не за будь здоров – удовлетворить свое хочу. Вдуматься: святое чувство любовь, оказывается, изнанку имеет, она, что шуба мехом, корыстью подбита. «Любовь у них выражается скорее в дружбе…» Вот дружба бескорыстна. Там, где просачивается хоть капля корысти, искренней дружбы уже быть не может, получится игра в дружбу, притворство.
Мореход, посетивший город Солнца, сообщает:
«Я наблюдал, что у Соляриев жены общи и в деле услужения и в отношении ложа, однако же не всегда и не как у животных, покрывающих первую попавшуюся самку, а лишь ради производства потомства в должном порядке…»
Если б, скажем, эти строчки прочитал кто–нибудь из армейских бывалых дружков Женьки, тот же старшина Лидушкин, то–то раздался бы жеребячий гогот: «Жены общие! Я, брат, без Кампанеллы всю жизнь в это верил!»
С Лидушкина взятки гладки. Ну, а тот раненый лейтенант, что оставил эту книгу… Он бредил и звал Лену. Кто она – жена? Навряд ли. Невеста? Сестра, может?.. Даже если и сестра, захотел бы этот лейтенант, чтоб она стала общей?..
Вo времена Кампанеллы жили крепостники–собственники, такие уж жен наверняка держали под замком – не тронь, мое! И не побоялся же Кампанелла тогда сказать свою мысль вслух.
Мудрые жители счастливого города Солнца «издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой…».
«Вот оно что!..» – поразился Женька.
Считается: никто не смей заглядывать ко мне в постель, с кем сплю, как сплю – дело личное. Ой, нет, государственное, и весьма. В своей постели ты можешь причинить, великий вред человечеству – пустишь на свет белый худую породу, будет она размножаться дальше, теснить качественных людей. Отсюда недовольство, раздоры, войны… Нет, любовь – дело государственное! А вот дружба – твое, личное, никому не подотчетна, не подконтрольна. Отдай кому–то частицу себя и не требуй ничего взамен, что может быть благородней такого чувства?
А чист ли он перед Верой? А не тянулся ли он к ней с какой–то потаенной корыстью? Вглядись в себя, проверь, осуди без уступок – время есть. Если ты уважаешь Веру – а сомнений в том нет! – то постарайся предстать перед ней кристально чистым.
Тютчев с простенка слепенько пялил очки: «Я очи знал…»
Женька думал о Вере и мысленно чистил себя, приняв за руководство труд доминиканского монаха Томмазо Кампанеллы.
До вечера было еще далеко…
Как и в прошлый раз, шумно, треща и стреляя, топится печь, пахнет дымком, отпотевает промерзшая изба.
Женька, отмахавший на больной ноге «сорочьим прискоком» пять с лишним километров, обутый в валенки, сидит сейчас за столом. Вера, откинувшись назад, изломившись в поясе, семенящими шажками, словно приплясывая, пронесла на вытянутых руках расфырчавшийся самовар, примостила на сковороду, заменяющую поднос:
– Вот, обогреемся…
И быстрый взгляд – лукавый, дерзкий, обещающий. Лицо розовое, накаленное у ночи, открытая белая шея, на ней ниточка матовых бус, и синие мелкие цветочки разбегаются по тонкому ситчику под напором грудей.
– А сахару нет. И во всем сельсовете нету. А то уж достала бы, расстаралась.
Открытая шея с ровным жемчугом… Женька старается не глядеть на нее, но не получается.
Вера уселась напротив, зазвенела чашками и блюдцами:
– Чай зато настоящий, не морковный.
Бусы на шее, холодное стекло на теплой коже, разбегающиеся цветочки на туго натянутом ситчике, но помни – ты пришел сюда с самыми чистыми мыслями! Пряча глаза, Женька заговорил:
– Повис здесь у вас, словно козел на изгороди. Помогаю трясти солому. Невмоготу…
Говорил и прятал глаза, а голос какой–то отсыревший, занудливый – самому тошно. А перед ним широкое распахнутое лицо Веры, щеки горят, глаза лучатся, туго налитые соком губы морщатся смешком. А тут еще шея слепит, шея, перехваченная бусами…
– О соломе ты… Да плюнь на нее через левое плечо. Забудем на время, – советует Вера.
Женька вздохнул. Забыть–то готов, только прежде втолковать Вере должен – не с корыстными мыслями к ней пришел. А так ли? Большой уверенности в себе что-то нет. Мысли сейчас в голове путаются всякие, копни поглубже – и… хоть со стыда сгорай. Вера сегодня уж очень красива, и эти матовые бусы по белой шее…
– Вера! – набрался решимости, собрал всю волю в кулак. – Душу тебе излить… Как другу, самому близкому, единственному!
– С дружбой ко мне, значит? – глаза Веры смеются.
– Да, Вера! Да! Я, Вера, дружбу считаю самым высоким, самым дорогим… – И сам сморщился: фу–ты, черт, занесло!
– Верю, миленький, верю, что ты ко мне за этим на одной ноге прискакал.
– Вера, я, может, жалею, что в тот раз у нас так просто…
У Веры погасли глаза, исчезла улыбка, по открытому горлу под тонкой кожей скользнул тугой комок.
– Жалеешь?.. Вот как!
И голос у нее стал чужим.
– Вера… Скачу к тебе на одной ноге не для того, чтобы удовольствие получить… Нет!..
Вера молчала, у нее некрасиво растянулись влажные губы, глаза потемнели.
– Ты мне очень нравишься. Очень! Хочу другом твоим до гробовой доски… Чтоб без всякой корысти!..
– Я девка, Женечка. Девка обычная. Каждой девке важней дружбы любовь. Те, кто иное скажет, – соврут. Не верь.
– Но любовь–то должна выражаться не в пылком любовном вожделении!
У нее приоткрылись влажные губы, глаза истекали мраком расширившихся зрачков.
– Да что с тобой? И слова–то какие!.. Даже во рту от них вяжет, как от дурной ягоды.
– Вера, я на любовь стараюсь смотреть не по обывательски. Ведь что такое любовь, если глубже вникать?
– А ты не вникай, ты к себе прислушайся: нравлюсь тебе – хорошо, нет – до свидания. На коленях ползать да за руки хватать не стану.
Назревшая слеза сорвалась с острой ресницы. Вера поспешно нагнула голову и кулачком сердито вытерла глаза. Женька растерялся уже совсем.
– Хочу, чтоб наша с тобой любовь была не такой, как у всех, Вера. Необычайной!
– А я обычного хочу, Женечка. Хочу, чтоб меня любили, как других любят, замуж выйти хочу, детей хочу, чтоб все, как у других, не хуже.
– Замуж, дети… И только–то?
– Мало тебе?
– Мало, Вера!
– Ну, а мне бы хватило. Я в войну поднялась. Не представляю даже, что может лучше быть.
– И я в войну… Война меня помиловала – жизнь оставила, как награду. Так неужели за эту жизнь я только то и сделаю, что женюсь и детей нарожаю? Мало! Награды своей недостоин..
Вера передернула плечами.
– Зябко чтой–то… – Она встала, поблекшая, без прежней пугающей осанки, взяла с лавки шаль, закуталась, не глядя произнесла: – На крыльях сегодня летела сюда…
– Вера! Ведь я же тебя люблю!
– Не надо…
– Вера!
– Что – Вера?.. Думаешь, я ждала от тебя большой любви… вечной? Нет же. Но чтоб уж такой легкой… Чтоб на второй встрече – бери дружбу, да но обижайся…
– Ты не поняла меня, Вера!
– А понимать–то нечего. Неужели я столь плоха, что с одной встречи… приелась?
– Вера!
– Необычного хочу. Ты же обычна, проста слишком.
– Ну, как сказать, чтоб поняла?!
– Зачем? Все понятно.
И Женька вконец растерялся, замолчал. У Веры иа чистый лоб страдальчески вознесены брови, глаза прячутся за ресницы, потаенно поблескивают невылившейся слезой – красива, дыхание перехватывает.
Женька подавленно молчал, а она тихо и твердо сказала:
– Ничего у нас нынче с тобой не получится, даже дружбы сердечной.
На столе все еще шумел неуспокоившийся самовар, В печке звонко и весело трещали дрова, раненая нога блаженно нежилась в теплом просторном валенке.
– Ты меня гонишь, Вера?
Она вздохнула и не ответила.
– Мне уйти?
Молчание.
Женька сидел и, пораженный, разглядывал Веру. Она сутулилась на лавке, куталась в платок, шея с ниткой матовых бус была не видна.
– Откипим вот… – глухо произнесла она в пол – тогда уж видно будет.
Он сидел и хлопал глазами, она молчала и сутулилась. Наконец он неуклюже полез из–за стола, все еще ожидая, что она остановит: «Ладно уж, пошутили, и хватит».
Она глядела в пол, куталась в шаль и молчала.
Под низкими лохматыми звездами лежала обнаженная, каменно промороженная земля. Женька тянул по комковатой дороге раненую ногу.
«Ничего у нас нынче с тобой не получится, даже дружбы сердечной». Кому–то другому будет она подавать на стол самовар – откинувшись назад, словно переломившись в пояснице, со счастливым лицом: «Почаюем по–семейному, обогреемся». И кто–то другой снимет перед сном с ее шеи нитку бус…
Кампанелла учит…
Кто–то другой… Нет, невыносимо, хочется сесть посреди дороги, поднять голову к звездам, завыть истошно, по–волчьи: «Кто–то!.. Не–ет! Не–ет! Невмоготу! Не–е–ет!»
Тихо–тихо под звездным небом. Скован воздух, скованы морозом поля. Между звездами и мерзлой землей только глуховатый стук каблуков, шуршание шинели и собственное дыхание.
Кампанелла учит… И с каждым шагом дальше Вера. Она не читала Кампанеллу.
Буравя палкой каменную дорогу, сильно хромая, тащился в ночь прогнанный Женька.
15
На следующий день в деревню Княжицу явился участковый. Срочно был отозван от молотилки председатель Адриан Фомич.
Участковый, младший лейтенант милицейской службы Уткин, – мужчина с обширными, прямо–таки перинной пухлости плечищами и виновато–стеснительной полнокровной физиономией. Стеснительность Уткина была хронической.
Каждому встречному не станешь рассказывать, что у тебя в могучем теле бьется ненадежное сердце. До войны Уткина в свой срок призвали в армию, кончил дивизионную школу младших командиров и как–то на учении, в маршевом броске, упал. Тут–то и открылось – врожденный порок, призывная комиссия его просто не разглядела. Можно жить до старости, но можно в любой час, на ходу, без подготовки, умереть.
В начале войны его не раз вызывали на переосвидетельствование, врачи листали бумаги с его болезнью, качали головами, выстукивали, выслушивали, посылали на рентген и отпускали: не годен!
Не годен для армии, а для милиции по военному времени сгодился. Самое неприятное, Уткин не чувствовал себя больным – наливался полнотой, со стороны поглядеть – распирает от здоровья. Как тут не стесняться себя: все на фронте, а ты, этакий слон, околачиваешься в тылу. Особенно страдал Уткин, когда приходилось ему приводить в чувство загулявших инвалидов, войны: «М–мы кр–ровь!.. Ты р–ряшку!» Застесняешься.
Вот и сейчас, стараясь не глядеть в глаза ни Адриану Фомичу, ни Женьке, ни кладовщице, темноликой бабе, участковый Уткин обозрел наличие пшеницы, уточнил ее вес, опечатал амбар. В конторе правления, сняв шапку, но не сняв черного дубленого полушубка с погонами, пристроился у стола на просиженном стуле, начал медленно, старательно, сопя и потея, вырисовывать на форменном бланке акт об укрытии.
Адриан Фомич, Женька, кладовщица, пригорюнившаяся у порога, не спускали глаз с крупной, перевитой набухшими венами руки, выводящей закорючки. Все понимали, что в эти минуты свершается таинство перевоплощения. Если куча сорной пшеницы, заметенной в угол амбара, не проведенной ни по каким бумагам, до этого времени не считалась ни частной, ни колхозной, ни государственной, то теперь с каждой закорючкой невнятная пшеница обретала точную характеристику – ворованная.
Появился Кирилл, затянутый в ремни, в фуражке, посаженной на голову по–уставному – звезда точно на линии носа. Он уселся в сторонке, выражая всей своей внушительной фигурой: «Я полон почтения, но мнение свое имею».
Участковый Уткин поставил точку, насупив белесые брови, минуту–другую обозревал содеянное, потом, несмело кашлянув, протянул Адриану Фомичу.
– Все ли верно тут нацарапал?
Адриан Фомич, мельком взглянув, отодвинул:
– Да ведь лишнего ты на меня не напишешь, а вины не сымешь, что смотреть.
– Порядок такой… Ознакомьтесь и вы, товарищ Тулупов. И распишитесь.
Женька не притронулся к протянутому акту, скосил лишь глаз, сказал:
– Я против… Ни о какой подписи речи быть не может.
Наступило молчание, темноликая кладовщица у порога протяжно вздохнула, а участковый Уткин завороженно смотрел на Женьку, кротко помаргивал белыми ресницами.
– Как же так? – спросил он.
– Это не укрытие, не присвоение и уж никак не воровство.
И участковый Уткин не возразил, лишь кротко моргал.
– Как же так?
– Я выскажу свое несогласие где следует, – Женьке было неловко под кротким взглядом участкового.
Но Уткин не успокаивался:
– Как же так? Получается: документ только мною освидетельствован?
– Не подпишу, извините.
– Имеете право! – вдруг веско заявил Кирилл.
И участковый Уткин обратил помаргивающие ресницы в его сторону.
– Имеет полное право не подписывать, ежели не согласен.
– Но что же получается? Я один документ освидетельствую. Выходит, что мне одному желательно Адриана Фомича привлечь.
– Не подпишу вашу бумагу.
Участковый Уткин совсем было закручинился, но вдруг широко, во всю свою просторную физиономию, улыбнулся, стал складывать акт, засовывать его в сумку:
– Не подписываете, и отлично! Очень даже!.. Кто говорит, что вы таких прав не имеете? Имеете! Я предлагал – вы отказались, свидетели есть. Заставить силой не могу. А документик… Документик–то… Адриан Фомич, пока что силы не имеет…
– А если не секрет, как там планировалось – под статью кодекса подвести или же припугнуть только? – поинтересовался Кирилл.
– Точно не знаю, – отозвался участковый. – Я погоду не устанавливаю… По моим наблюдениям, ввиду острого положения могут и под статью. Вполне могут. Нынче с хлебом большие строгости.
– Попугать отца было бы даже очень полезно. Для оздоровления. У тебя, отец, одна болезнь, – Кирилл, скрипнув ремнями, повернулся к Адриану Фомичу: – мягкотелость! Да! Из жалости ты и пшеничку эту придержал, не для себя, для людей, – мол, им туго. А на мягком–то железные чирьяки вскакивают. Так–то!
– А я, Кирюха, пуган много раз. Видать, горбатого могила исправит.
– Было бы тебе известно, отец, неисправимых людей нет! – Кирилл поднялся, добротный, статный, в ремнях, в сукне, в начищенных пуговицах, – Приглашай, отец, гостей на чаек.
Компанией двинулись к дому Адриана Фомича.
Перед тем как сесть за стол, участковый Уткин вызвался полить Женьке на руки, вышли о ведром на крыльцо.
– Я здесь родился, здесь вырос, здесь три года уже участковым работаю, – заговорил вполголоса Уткин. – Всех знаю, любому могу дать характеристику…
– Ну и… – подбодрил Уткина Женька, понимая – тот что-то хочет ему сказать.
– Ну и заверить вас хочу: честней человека, чем Адриан Фомич Глущев, в округе нет.
– А зачем вы меня в этом убеждаете – сам вижу.
– Затем, что дело на него собирается, похоже, серьезное.
– Какое же серьезное – три мешка сорной пшеницы!
– Совершенно верно, в другое время – плюнуть и растереть, а сейчас – нет. Сейчас у нас в районе – вы, бригада уполномоченных то есть. При вас, как при представителях, сами понимаете, – каждое лыко в строку.
– Мы не люди разве – не поймем? Нами детей пугать?
– Очень извиняюсь, неточно выразился… Наоборот, люди, и с совестью, потому и решил подсказать насчет Адриана Фомича…
– Слушаю.
– Если вы не подпишете… – Уткин крупной рукой сделал в воздухе решительный крест, – закроется! И ни–ика–аких!
– Будьте уверены – не подпишу. Вам полить на руки?
– Плесните, коль не затруднит. И еще… Я – человек служебный, склоняться в ту или в другую сторону прав не имею, так что – разговор этот между нами, надеюсь, останется.
– Никому! – пообещал Женька.
16
На следующее утро Адриан Фомич, как обычно, совершал стариковскую пробежечку от окна к окну, подымал баб молотить. Женька попросил у него лошадь, отправился в сельсовет к Божеумову.
Вера, добросовестная секретарша, склонилась над столом – прядка волос упала на насупленный лоб, пальцы в чернилах, на столе горой папки. Она разогнулась, смахнула со лба прядь, сказала чинненько:
– Здрасте.
И вздрогнула, не всем телом, даже не лицом, а еле уловимо каким–то одним мускулом. Женька почувствовал, что сейчас здесь вовсе не покойная, деловая обстановка, заставляющая обкладываться бумагами, пачкать чернилами пальцы. Вера взвинчена, хотя и не подает вида. Из–за дверей кабинета слышались голоса – рокочущий Божеумова и тенористо–сверлящий Кистерева. Они не взлетали до высоких нот, слова разобрать было трудно, но сквозь плотно прикрытую дверь ощущался нешуточный накал.
Женька сделал нерешительное движение к двери, но Вера остановила:
– Лучше обождать.
Да и он сам уже это понял – двое рубятся, третий не мешайся.
Дверь распахнулась неожиданно, показался Кистерев, косоплечий, с воинственным мочальным хохолком на макушке. Ему в спину летел глуховатый раскатец:
– Не печальтесь, еще доберемся и до вас!
Кистерев передернул плечом, хлопнул дверью. Женька вновь удивился хрупкой тонкости его лица, восковой прозрачности. «Болезный», это слово означает в деревне не только больной, но беззащитный, страдающий.
– Здравствуйте, Сергей Романович, – сказал Женька. Надлежало бы спросить: «Как себя чувствуете?» – после приступа не виделись, но не спросил.
– Это вы! —очнулся Кистерев, протянул руку.
– Пришел объясниться… Это же черт знает что! За три мешка сорной пшеницы…
– Ему – бесполезно! Объяснял элементарнейше: я приказал Адриану Глущеву оставить в колхозе злосчастную пшеницу, я настоял, чтоб ее не вносили ни в какие статьи дохода!
– Это на самом деле так было? – спросил Женька с невольным сомнением.
Кистерев сердито брызнул на него синевой глаз:
– Раз я так говорю – извольте верить! Если винить, то меня!
– И Божеумов за это ухватился?
– Нет.
– Странно.
– Ничего странного.
– Он вас… Ну как бы сказать?
– На дух не терпит, – подсказал Кистерев. – Этот унтер Пришибеев не так глуп, оказывается. Раскусил, что я вроде Кащея Бессмертного, в лоб не бери, а лови уточку с яичком, где Кащеева смерть лежит.
– Уточка эта – Адриан Фомич?
– Кто знает, может, старик Адриан всего лишь перо от уточки. Ваш унтер дальновидный человек.
Вера протянула Кистереву бумагу:
– Сергей Романович, вот переписала, как вы просили.
Он прибежал главами бумагу, пристроил на уголок стола, расписался:
– Как в дипломатическом корпусе – нота–протест против узурпации. В райком направляем. Но райком наш сейчас под вашей бригадой сидит. Вы у нас верховная власть, божеумовы.
Женька вспыхнул.
– В данном случае к планам Божеумова я не имею никакого отношения! – отчеканил он. – Я отказался подписать акт!
– Знаю.
– Тогда что же вы ставите меня на одну доску с ним?
– Вы забываете об одной вещи, юноша.
– О какой?
– О силе коллектива.
Божеумов встретил его из–за стола прицельно–пристальным взглядом. За последние дни он тоже похудел, потемнел лицом, но подтянут, выбрит, свежая царапина украшает подбородок.
– Кончили? – спросил Божеумов.
– Что – кончили? Ты, может, здравствуй скажешь?
– Долго же вы, голубки, под дверью ворковали.
– Коршуна славили.
– Да уж догадываюсь.
Помолчал, встал, прошагал от стены к стене на ногах–ходулях, повернулся к Женьке всей грудью:
– Сообщи своему сизарю однокрылому, что я его теперь любить и холить готов, чтоб ни один волосок с многострадальной головы и прочее…
– А разве ты ему сейчас сам все это не сказал?
– Повторение – мать учения.
– Давай лучше решать мой вопрос.
– Давай, – буднично согласился Илья, деловито подошел к столу, выдвинул ящик, вынул знакомый бланк, исковырянный химическим карандашом участкового Уткина .
– Вот распишись, и делу конец, – сказал он.
– Уж так просто – раз, раз, и в дамки.
Глаза у Ильи были бутылочно–зеленого цвета с крохотным зрачком.
– Еще один в петлю лезет. Везет мне сегодня.
– Выслушай все по порядку!
– А что ты мне скажешь? То, что уже по телефону говорил: оставлено на весну… Основа нового урожая…
– Ты и вправду считаешь, что Адриан Глущев – преступник?
– Он укрыл от государства хлеб – полтора центнера! А теперь судят тех, кто горсть зерна в кармане унес.
– Акт я не подпишу!
– Так и сообщить прикажешь?
– Так и сообщи.
Илья Божеумов ленивым вздохом, потушив зеленые глаза, снял с телефона трубку:
– Нижнюю Ечму, пожалуйста. Да побыстрей… Нижняя Ечма? Станция? Барышня, отыщите–ка мне Чалкина… Он или в райисполкоме, или в райкоме у первого… Не кладу трубку…
– Вот хорошо, что с Чалкиным… Ни разу не мог ему дозвониться…
– То–то он сейчас возликует… Да!.. Да!.. Да, слушаю, Иван Ефимович! Это Божеумов опять беспокоит… Осложненьице, Иван Ефимович, осложненьице! Так сказать, солдат нашей роты по противнику стрелять отказывается… Да, он самый, Тулупов… Подготовили акт, Тулупов на дыбки встает, подписывать отказывается. Уж я втолковывал ему, Иван Ефимович, втолковывал… Он здесь, напротив сидит. Пожалуйста… Тебя! – Божеумов протянул Женьке трубку.
Негромкий, но внятный, озабоченно домашний голос Чалкина:
– Ты что, детка, фокусы устраиваешь?
– Иван Ефимович, мы губим человека! За три мешка сорной пшеницы…
– А нам дело надо спасти, детка. Большое дело, ради которого сюда посланы.
– Мы же в этом колхозе будущий урожай подрываем! Голодные работники сев сорвут. Три мешка сорной…
– Ты мне по телефону песню про белого бычка петь собрался? Я же сказал – надо! А дальше сам соображай.
– Сорвать сев надо?! Голодный колхоз снова без урожая оставить – это надо?! Три мешка сорной…
– Бестолков ты, детка, бестолков. Я с тобой не дотолкуюсь. Передай, детка, трубочку Илье…
Божеумов принял трубку и стал прохладненько кивать:
– Есть… Ладно… Да уж попробую. Не пойму только, зачем это с ним так… Есть! Есть! – положил трубку, сказал с досадой: – Чего это он тебя спасает? Хочешь в уголовное дело влезть – да милости просим. – Подтолкнул Женьке акт. – Положи перед собой и слушай… Сколько вы там собрали хлеба после обмолота?
– Да считай, что ничего. Мешков шесть из обмолоченных ометов наскребли.
– Значит, нет хлеба. А будет?
– Откуда он возьмется?
– Верно – взять неоткуда. Ну, а зачем нас сюда послали?
– Если арестуем Адриана Глущева, хлеб не появится.
– И с нас спросят: какие меры мы приняли? Что нам ответить? Никаких?..
– Но ведь эта мера бесполезная!
– Ой ли? Мы кто – специальная бригада, брошенная на чрезвычайно острый участок, или экскурсия? А раз чрезвычайная, то принимай чрезвычайные меры, не либеральничай. Случай с Глущевым заставит зачесаться тех, кто хлебец по тайничкам рассовал. А такие есть – да, есть в каждой деревне, в каждом колхозе. Вот и вытряхнем – у одного три мешка, у другого пять, у третьего и с десяток припрятано на черный день. В общей сумме, глядишь, кругленькая цифра набежала. Не бесполезная мера. Отнюдь!
– Давай искать тех, кто прячет. Адриан Фомич не прятал, не скрывал, держал в амбаре… сорное зерно, отходы. И за это его с милицией, как уголовника!
– Что делать, если нарвался. И, кстати, ты в этом ему помог. Забрал бы тихо–мирно эти три мешка, и никаких осложнений. Нарвался – получи. Мы не в салочки–поддавалочки играть приехали.
– Чужой кровью румяна наводить! – Женька оттолкнул от себя акт. – Возьми! И разговаривать не хочу больше!
Божеумов откинулся на спинку стула. В его узкой, разделенной на две неравные части надломленным носом физиономии ни возмущения, ни раздражения, скорей удовольствие: ну и прекрасно, все дошло до нужной точки.
– Старик Чалкин что-то сдавать стал, – заговорил он, тая усмешку. – Я ведь возражал – не бери этого сопляка в бригаду. Нет, уперся. Нда–а…
И Женьку вдруг осенило. А Божеумову–то очень хочется, чтоб он не подписал этот акт. «Солдат нашей роты стрелять отказывается…» В бригаде уполномоченных – случай дезертирства. Получается, Чалкин распустил бригаду, срывает кампанию, он, Божеумов, ее спасает. Сдавать стал Чалкин – старик, пора на пенсию. Как же не быть довольным сейчас Божеумову – козырной туз сам в руки лезет.
– Вольному воля, спасенному рай. Я силой принудить не могу, сам подпишу акт.
– Через мою голову? По колхозу Адриана Глущева уполномоченный от бригады пока я. Я ведь крик подыму.
– Нет, дружок, ты уже к тому времени уполномоченным не будешь – отправим домой со славою. А там – сам на себя пеняй. Скандал на всю область! В Полдневской бригаде раскольник объявился, поперек пошел. Разбирать будут на областном уровне. Словом, картина ясная.
И опять Женька уловил в лице Божеумова, в его голосе надежду: «Скандал на всю область…» Сам–то, он, Женька, в этом большом скандале сгорит, как мотылек в пламени костра. А Божеумова не обожжет, Божеумов подымется. Выходит, гори во славу Божеумова. Призадумаешься…
Лежит на столе неподписанный акт. Стоит только взять ручку, написать под ним свою фамилию – скандала не будет. Про Чалкина никто не скажет, что старик начал сдавать. Божеумов как был под Чалкиным, так и останется. А он, Женька, через какую–нибудь неделю уедет отсюда вместе с бригадой, честно исполнившей свои обязанности, – ни либеральничавшей, принимавшей чрезвычайные меры. Лежит на столе помятая бумажка…
А в деревне Княжице станет на одного человека меньше.
Божеумов усмехнулся:
– Муравей гору не столкнет. Сам понимать должен – не маленький. Чалкин настаивает, потому и нянчусь с тобой. А по мне – как хочешь. Ну, решай! Да так да, нет так нет, последнее твое слово, и до свидания. У меня и без тебя дел хватает.
– Обождем, – сказал Женька.
– Нет уж, ждать не буду.
– Будешь! Без согласия Чалкина не решишься, а Чалкин навряд ли торопиться станет… к скандалу–то.
Женька поднялся. Божеумов сверлил его зеленым глазом.
– Божеумов сам подпишет акт! Сам! Я не подпишу, но не поможет это. Я на все готов, если б помогло… А тут – и Фомича не спасем, и Божеумова подсадим на место Чалкина. Хозяином станет в нашем районе…
От Божеумова их отделяла лишь закрытая дверь, но Женьке уже было наплевать, что тот может его услышать. Он даже хотел, чтоб слышал: война – так война в открытую!
Вера, уронив ресницы, сидела за столом, из распахнутой старой кофточки рвутся вперед крепкие груди, лицо розовое – взволнованное и замкнутое одновременно. Рядом с ней Кистерев, приткнувшийся на стуле, смотрит в сторону, в низенькое оконце, слушает – маленький, ссохшийся, скособоченный.
– Не хочу подсаживать такого на высокое место. Не хочу!
Кистерев, не отрывая взгляда от окна, проговорил:
– Ну, а если я вам посоветую… подписать. Вы согласитесь?
И Женька замер. Робко шелестела бумагами Вера.
«Посоветую… согласитесь?..» Он же ждал, ждал такого совета. Не сам решился – подсказали, посоветовала те, кто умней, старше, опытней. Не сам – значит, не станет и мучить совесть, можно спокойно спать по ночам, жить не казнясь. Не сам – снята вина. И с Чалкиным отношения не испорчены, и скандала не случится, и гореть не придется, и Божеумов не выскочит в хозяева. Все на своих прежних местах, знакомый скучный порядок. Конечно, жаль Адриана Фомича, очень жаль, но… Но уж тут не поможешь, не его вина.
Шуршала бумагами Вера. Женька молчал, ошеломленный открытием: тайком крался к самоспасению и не подозревал.
– Так согласитесь или нет? – повторил вопрос Кистерев.
– Нет, – сказал Женька. И решительнее: – Нет!
Кистерев оторвался от окна, повернулся всем телом – страдальческая синева глаз, узкое бледное лицо.
– То–то. Подло перекладывать на других, что обязан решать сам.
В это время дверь кабинета распахнулась, Божеумов, торжественно прямой, держа в руках бумагу, шагнул к ним.
– Интрижки плетете? Бросьте, напрасный труд. – В голосе пренебрежение, во всей вытянутой фигуре, в деревянно прямой спине, разведенных острых плечах – сознание своей праведной силы. – Ты говорил: быстро не получится, ждать придется, – обратился он к Женьке. – А стрижена девка кос заплести не успела – получилось, вот!.. – Божеумов тряхнул бумагой: – Подписано.
– Ну смотри!
– Нет, теперь уж ты смотри да почесывайся.
– Я же опротестую! Я же писать буду!
– Куда? Кому?
– И Чалкину! И в область! Не остановите.
– Хм!.. Пока вы тут ворковали, я Чалкина обо псом как есть информировал. Чалкин и приказал мне подписать. А в область?.. Зачем? Чалкин раньше тебя область поставит в известность. Сейчас, верно, крутит телефон, дозванивается… Так что – пиши, бумага терпит.
Божеумов шагнул к Вере, положил перед ней акт:








