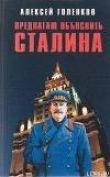Текст книги "Тайный советник вождя"
Автор книги: Владимир Успенский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 157 страниц) [доступный отрывок для чтения: 56 страниц]
"Опять масоны, опять они! – взорвался тогда Сталин, резким движением сбросив со стола пепельницу. – Они не душат до смерти, но они давят, сковывают руки и ноги! У этого дракона неисчислимое количество голов! Мы рубим одну – появляются десять! Но масоны не заставят меня служить им! Я не глупее их! Поглядим, кто окажется наверху!" – "Вы один, а они во всем мире". – "Со мной партия". – "Партий было и будет много, а масонство едино и долговечно. Если не при жизни, то после смерти они сделают с вами, что захотят. Свалят на вас все грехи века, затопчут в грязь". – "А пролетариат, а интернационал – они не позволят!" – "Ну, не знаю", – ответил я.
Еще раз подобный разговор произошел между нами, когда стало известно о второй женитьбе Якова Джугашвили (об этом будет сказано далее). И опять Иосиф Виссарионович опасливо и гневно посетовал на то, что масоны все тесней окружают его, проникают к нему, стараются навязать свою волю.
Вот что странно. Прошло много лет, давно нет Иосифа Виссарионовича. После Второй мировой войны снята, хоть и далеко не полностью, таинственная завеса со всемирного масонства. О масонах пишут за рубежом, о них знают, некоторых из них (без особого, впрочем, успеха) пытаются привлекать к судебной ответственности. Только у нас – полное молчание. Будто и не существует этой организации, щупальца которой проникли во все уголки земного шара. А пора бы задуматься над тем, какую роль играли масоны из ближайшего окружения Сталина, других наших руководителей, какие задания они выполняют, какими средствами добиваются своих целей.
8
Иосиф Виссарионович много читал. Почти каждый день, несмотря на занятость. Знакомился с научной, политической, технической литературой. Увлекался литературой художественной, видя в ней незаменимый учебник человековедения. Специально для него переводились немецкие, французские, английские, испанские романы, повести: и классические, и те, которые рисовали картину современного положения в этих странах. Последние давали ему определенное представление об обстановке, международном положении и уж, во всяком случае, пищу для размышлений. Сталин зачастую знакомился с произведениями по машинописному тексту, некоторые рекомендовал для широкого читателя. Однако большинство таких переводов использовалось лишь им да членами Политбюро. Или в соответствующих ведомствах. Я, например, читал все, что имело отношение к военному делу. Впрочем, у меня имелось преимущество, моих знаний хватало, чтобы осилить. подлинники на трех языках, поступавшие из-за границы.
Известный ученый Фредерик Жолио-Кюри писал в свое время: "Шедевр искусства, бесспорно, более незыблем, нежели научное творчество, но я убежден, что ученого и художника ведут те же побуждения и требуют от них тех же свойств мысли и действия. Научное творчество на его высочайших вершинах тоже взмах крыльев. Художник и ученый, таким образом, встречаются, чтобы создавать во всех формах Красоту и Счастье, без которых жизнь была бы слишком унылым шествием…"
Это так, но каковы же романтики начала нашего века, а! Во второй половине века найдется ли ученый, способный написать столь возвышенные слова!
Цитату эту я привел для того, чтобы проявить позицию Иосифа Виссарионовича. Красоту и Счастье он воспринимал не как нечто важное для людей само по себе, а как цель классовой борьбы. Все виды науки и особенно искусства были для него прежде всего полем сражения на идеологическом фронте. Ничто не существовало просто так, для людей вообще, все представлялось ему ступенями классовой борьбы, эти ступени надобно было завоевывать, удерживать, двигаясь выше и дальше.
Иосиф Виссарионович четко представлял, сколь велика и своеобразна роль писателей в жизни общества, особенно в государствах со строгим, концентрированным управлением. По существу, писатели – единственная сила, единственная частичка общества, независимая непосредственно от руководителей, от государственного аппарата, от правительства. Вот рабочему, к примеру, не дадут станка, не обеспечат материалом, не найдут сбыта для его продукции, – сиди и тоскуй, как тоскуют миллионы рабочих в капиталистических странах. Можно отстранить от дела инженера, врача, крестьянина, даже актера. Но писатель, поэт – неотделимы от своего труда. Разве что только как душа от тела… В тюрьму его засади, держи на хлебе и воде, с закованными руками и ногами, а он возьмет да сочинит гениальное стихотворение, которое прозвучит по всему миру, потрясая умы и сердца, бумерангом ударит гонителей, преследователей. Примеров тому множество, от древней истории до наших дней. Юлиус Фучик создал свой замечательный "Репортаж с петлей на шее" в гитлеровской тюрьме со строжайшим режимом. Муса Джалиль писал стихи в камере Моабита.
Сталин говорил, что один хороший роман способен принести социализму больше пользы, чем работа всех пропагандистов и агитаторов нашей партии за несколько лет. Такая книга дает представление о наших думах и поступках, о наших целях и образе жизни, привлечет к нам множество новых людей. А с другой стороны – одна талантливая, но враждебная книга способна принести такой опустошительный вред, что дезавуирует наши идеологические усилия за долгое время, выставив в смешном виде руководителей или показав их коварными злодеями, чинушами, себялюбцами.
Сила талантливого произведения сокрушительна, не ограничена по времени и пространству. Если оно создано, его не арестуешь, не уничтожишь: запрещенное здесь, оно вырвется на волю в другом месте. И коль скоро в потоке обычной литературы появляется из ряда вон выделяющаяся книга, не следует набрасываться на нее, воевать с ней, преследовать автора. Мудрость заключается в том, чтобы использовать данное произведение и его создателя в нужных партии и стране целях. Или позаботиться о том, чтобы появился достойный литературный противовес.
Сталин никогда не смешивал писателей, вообще талантливых людей, с администрацией творческих организаций. Настоящий писатель или художник в аппарат не пойдет, разве только по требованию партии, как А. А. Фадеев. Настоящий талант живет своим творчеством и в прямом и в переносном смысле. А вот после Сталина, как я понимаю, утратилась грань между творцами и чиновниками от искусства, возобладали последние. Отсюда и многие утраты. В погоне за спокойствием и благополучием чиновники без труда оттесняют на задний план житейски беззащитных творцов. Или подвергают их гонению, стараясь избавиться от них, пополняя тем самым сильнейшими борцами мирового масштаба ряды наших идеологических противников.
Известен разговор Сталина с Поликарповым [Дмитрий Алексеевич Поликарпов был ответственным секретарем (не выбранным, а назначенным сверху) Союза писателей СССР (Примеч. автора)], приставленным в свое время от партии к Союзу писателей. Пожаловался Поликарпов на то, что литераторы народ своенравный, капризный, неорганизованный, работать с ними чрезвычайно трудно.
– Ничем не могу помочь, – пожал плечами Иосиф Виссарионович. – Мы можем заменить кого угодно, мы можем заменить любого наркома, но заменить писателя не в наших силах. Придется работать с такими, какие есть. Других у нас нет.
Сталин не только советовал быть терпеливыми, доброжелательными и заботливыми по отношению к писателям, но и сам в этом отношении являл неплохой пример. На удивление сложны, интересны были его взаимоотношения с Михаилом Булгаковым. Считая его очень талантливым, Иосиф Виссарионович прощал Булгакову многое, чего никогда не простил бы близким людям, товарищам по партии. Вспомним полную остроумного сарказма, фейерической булгаковской фантазии повесть "Собачье сердце". Великолепный хирург, смелый экспериментатор берет с улицы Шарика, скромную дворняжку, которая ведет обычный для себя образ жизни, с трудом добывая пропитание на холодных городских улицах. Хирург делает революционную операцию: пересаживает собаке некоторые органы погибшего пролетария-уголовника. И вот добропорядочная дворняжка постепенно превращается в заурядного человекообразного хама, быстро наглеющего в благоприятной для него обстановке двадцатых годов. Осознав выгоду своего плебейского происхождения, свою безнаказанность, новоявленный гибрид пьет, бездельничает, грубит, всячески притесняет породившего его интеллигента, вплоть до того, что с помощью домкома пытается вытеснить врача с жилой площади, где тот, кстати, оперирует. Чтобы спастись от совершенно распоясавшегося хама, есть только один выход: вернуть его в прежнее собачье состояние. Что и делает хирург.
Прочитав рукопись, Иосиф Виссарионович был просто ошарашен. Несколько дней раздумывал, прежде чем высказал свое мнение: "Хлестко! Очень хлестко! Отдельные страницы даже сильнее, чем у Салтыкова-Щедрина. Такой острый талант должен служить нам!"
Судьба Булгакова была предопределена этими словами. Люди, осмелившиеся лишь вякнуть против Советов, против Сталина, мгновенно оказывались у черта на куличках, а создатель смелой, прямо-таки сбивающей с ног сатиры разгуливал по столице и работал над новым произведением.
В то время, когда не остыл еще накал гражданской войны, о белых офицерах если и упоминалось, то лишь с ненавистью, как об извергах и кровопийцах, с прибавлением самых бранных слов, а на сцене, ошеломляя зрителей, шла булгаковская пьеса "Дни Турбиных", герои которой, золотопогонники, представители враждебного класса, выглядели самыми обычными, даже весьма милыми, порядочными людьми, со всеми человеческими слабостями и достоинствами. Это была дружная дворянская семья, справедливая и бескорыстная, с развитым чувством чести, с высоким русским патриотизмом. Не сосчитать, сколько раз сверхбдительные и сверхосторожные блюстители архиклассовых догм запрещали эту пьесу, выбрасывали из репертуара, а она вновь и вновь появлялась во МХАТе. Почему? Да потому, что ее любил смотреть Сталин. Власик предупреждал администрацию театра: на следующей неделе должны быть "Дни Турбиных". И «зарезервированный» спектакль мгновенно возобновлялся.
Иосиф Виссарионович питал какое-то особое пристрастие к этой пьесе. Шестнадцать раз наслаждался он этим шедевром. Один раз – с Кировым. Трижды – вместе со мной. Чаще всего – вдвоем с весьма пожилой женщиной, фамилию которой, я давно уже обещал назвать и обязательно назову вскоре.
Это не были официальные, торжественные выезды в театр. Никто, за исключением определенных лиц, не подозревал, что в зрительном зале находится Сталин. Обычный спектакль, и только. А Иосиф Виссарионович был счастлив в эти минуты, ощущая то, что близко было его молодости, очищаясь духовностью Турбиных от повседневной засасывающей, ожесточенной и отупляющей борьбы с врагами, с бюрократами, дураками и подхалимами. Долго и беззвучно смеялся Иосиф Виссарионович над приключениями Лариосика. Затихал, подаваясь вперед, когда появлялась Лена-светлая, грустил с ней, не скрывая влюбленности в этот образ. Однажды спросил меня: не напоминает ли Лена Матильду Васильевну Ч.?
Да-да, ту светскую даму-путешественницу, очень богатую и немного взбалмошную, которая случайно оказалась в семнадцатом году в Красноярске и приняла самое горячее участие в судьбе ссыльного революционера – солдата Джугашвили! Господи, кто бы мог подумать, что этот железный человек бережно хранит память о ней, что воспоминания, связанные с Матильдой Васильевной, трогают и согревают его! Впрочем, горькие струи в жизни всегда тесно переплетаются с приятными, а время постепенно сливает их в единый поток.
Таково было личное отношение Иосифа Виссарионовича к пьесе "Дни Турбиных". А официальное, как руководителя партии и государства?.. Он, конечно, знал, какая буря бушевала вокруг произведений Булгакова, с какой злобой, даже с непристойностями обрушилась на него критика. Появились десятки, сотни рецензий, и все ругательные. В. Киршон, Л. Авербах, В. Блюм, Р. Пикель, не стесняясь в выражениях, печатно утверждали, что этот самый Мишка Булгаков, именующий себя писателем, в залежалом мусоре шарит, подбирает объедки после того, как наблевала дюжина гостей, что его Алексей Турбин – сукин сын, и автор от героя недалеко ушел. Даже сам А. Луначарский заявил 8 октября 1926 года в «Известиях», что Булгакову нравится "атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля" (это вокруг Лены-то!). И вообще от пьесы "идет вонь", как было сказано на совещании в агитпропе.
Да, Сталин знал, какому остракизму подвергается Булгаков, и все же поддерживал его. Когда говорили, что "Дни Турбиных" – пьеса вредная, противоречащая нашим принципам классовой борьбы, Иосиф Виссарионович усмехался в усы:
– Наоборот. Она убедительно показывает силу революции. Даже такой крепкий орех, как семья Турбиных, не выдержал и распался. Не устояла белая гвардия… Глубже надо вникать в суть дела.
Свое мнение Иосиф Виссарионович изложил и обнародовал в "Ответе Билль-Белоцерковскому", который был опубликован в начале 1929 года. Там, в частности, сказано: "Что касается собственно пьесы "Дни Турбиных", то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: "если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь. "Дни Турбиных" есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма.
Конечно, автор ни в какой мере "не повинен" в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?"
Известны также слова Сталина, сказанные Горькому: "Вот Булгаков! Тот здорово берет! Против шерсти берет! Это мне нравится!"
Об уважении, об особом отношении свидетельствует и то, что Иосиф Виссарионович читал все письма, отправленные ему Булгаковым, в которых писатель не только сетовал на свою тяжкую участь, прося отпустить его в поездку за границу, но и хлопотал о своих пострадавших друзьях. Например об арестованном драматурге Н. Эрдмане. Ведь это же факт, что Сталин звонил Булгакову домой, беседовал с ним. Когда у Булгакова резко обострилась болезнь почек, что и явилось причиной смерти, в его доме раздался звонок Поскребышева: "Товарищ Сталин просит узнать, какая помощь нужна?.." Кто еще из руководителей партии за всю историю страны Советов оказывал такое внимание рядовому писателю, не состоявшему в руководящих органах, беспартийному, к тому же гонимому критикой?! Не было больше ничего похожего!
Для полного понимания взаимоотношений Сталина и Булгакова надо упомянуть одно малоизвестное, но существенное обстоятельство. Приехав осенью 1921 года в Москву, писатель-драматург познакомился в МХАТе с умной, обаятельной женщиной Ольгой Сергеевной Бокшанской, машинисткой и секретарем Немировича-Данченко. Зачастил к ней на квартиру, где и встречался с Иосифом Виссарионовичем. Это был период, когда очень сильное, но кратковременное увлечение Сталина Ольгой Сергеевной близилось к концу, он охладел к ней, хотя связи поддерживались до самой ее смерти в 1948 году. И увлечение Булгакова Ольгой Сергеевной, тоже очень сильное, переросло в ровную дружбу. А женился Булгаков на младшей сестре Ольги Сергеевны, на Елене Сергеевне; женился в третий раз, но окончательно, прожив с ней до конца своих дней. Естественно, Иосиф Виссарионович видел в квартире старшей сестры Елену Сергеевну, она произвела на него очень хорошее впечатление, он помнил о ней. Все это не могло, конечно, не сказываться.
Знаю, что Иосиф Виссарионович, получив письмо Булгакова с просьбой разрешить выезд за границу, вначале ничего не имел против. Пусть отдохнет человек, наберется сил, новых впечатлений. Не вернется – тем хуже для него, такова ему и цена… Даны были соответствующие указания – отпустить. Но в самый последний момент взяли верх другие соображения, можно сказать, эгоистического порядка. У Иосифа Виссарионовича были свои виды на талантливого драматурга.
Не кому-либо, а именно Булгакову заказал один из московских театров пьесу о Сталине: разумеется, не без ведома Иосифа Виссарионовича. Основные аспекты были оговорены заранее, а все остальное полностью доверялось писателю. Сталин считал: если уж Булгаков возьмется, это будет не скороспелый боевик, не чрезмерные восторги услужливого блюдолиза, а настоящее произведение, способное жить долгие годы. По его мнению, Булгаков был близок, понятен еще и потому, что и сам Иосиф Виссарионович в какие-то часы и дни погружался в полуреальный странный мир фантастических грез, воспаряясь над грешным и суетным миром, иногда даже теряя четкое ощущение границы между привидевшимся и реальным.
Писатель и в этот раз остался верен себе. Он создал пьесу о хорошем грузинском юноше с большими задатками, о его друзьях, о том времени, когда рос и мужал Сосо Джугашвили, принося радость окружающим людям. Автор словно бы предлагал Сталину (и другим тоже) оглянуться, посмотреть на себя в прошлом, подумать, что утрачено, потеряно в дальней дороге, что еще можно восстановить. Конечно, это было совсем не то, на что рассчитывал Иосиф Виссарионович, однако, пьеса могла увидеть свет, если бы не одно обстоятельство: Сталин, как мы знаем, очень не любил вспоминать о своем детстве, о семинарских годах, о сапожнике Джугашвили, о своем туманном происхождении. Разумеется, выдвинуть это доводом для отказа от пьесы Сталин не мог. Он нашел другую формулировку:
– Все молодые люди похожи один на другого. Что может быть интересного и поучительного в их короткой жизни? Особенность, индивидуальность каждого еще не проявилась. Не понимаю, зачем ставить такую пьесу?!
Ее не поставили и не напечатали.
Такая же участь постигла и вторую, более завершенную пьесу Булгакова о Сталине, условно называвшуюся «Батум». Будучи самостоятельной, она как бы продолжала линию, начатую в пьесе о детстве и юношестве Джугашвили. Но здесь выведен был уже молодой революционер, руководитель батумской стачки и демонстрации 1902 года: остроумный, обаятельный, пользующийся уважением трудящихся, почтительным отношением со стороны товарищей. Мне пьеса понравилась, хотя перестарался, пожалуй, Булгаков, выведя Джугашвили слишком уж опытным, знающим, авторитетным. Не был еще Джугашвили таким в самом начале века. Этот налет, эту прямолинейность можно было снять при подготовке спектакля, которая развернулась во МХАТе летом тридцать девятого года, незадолго до сталинского юбилея. Однако режиссеры и актеры, наоборот, усилили те аспекты, которые вызывали мое сомнение. Спектакль получился льстивый, слишком уж воспевающий, несколько даже слащавый. Булгаков был недоволен. Иосиф Виссарионович, послушав однажды за сценой, инкогнито, как идет репетиция, был огорчен. А через несколько дней вынес свой решающий приговор: "Помпезно и плоско. Такой спектакль нам не нужен".
Иногда пишут о том, что Булгаков подвергался преследованиям, его произведения запрещались, что жизнь его была трудной. А у кого она легкая?! Однако не зачислил же его Иосиф Виссарионович в разряд врагов. Смею уверить, что НКВД не вмешивалось в его творческие дела. Можно теперь говорить что угодно, однако факты неоспоримы: в сталинские времена были созданы шедевры нашей литературы "Мастер и Маргарита" и "Белая гвардия". А когда они увидели свет, чуть раньше или чуть позже – принципиального значения не имеет.
Булгаков – не исключение. Столь же уважительно относился Сталин и ко многим другим писателям. В том числе к Алексею Толстому, бывшему графу, вернувшемуся из эмиграции. Особенно после того, как Толстой создал роман "Петр Первый", ставший настольной книгой Иосифа Виссарионовича: в этом самодержце Сталин видел достойный образец российского правителя, мудрого и смелого, жестокого и щедрого, коему следовало подражать если не во всем, то во многом. Ну и конечно, очень обрадовался Иосиф Виссарионович появлению «Хлеба», где сам Сталин был главным героем, фигурировал на одном уровне с Лениным. Стоило ли после этого придавать значение веселым гулянкам, всяким чудачествам титулованного писателя, идущим от широкой русской натуры.
А вот прекрасному писателю, отличному стилисту Пантелеймону Романову не повезло. Уж не фамилия ли виновата? До сей поры не могу понять, что сделал он или сказал, вызвав долгое, непреходящее раздражение властей предержащих. Ругали его произведение "Без черемухи", но что в нем особенного, антисоветского? Ничего. Обычная для того времени любовная житейская история, да и теперь сколько угодно таких. А на Пантелеймона Романова навесили когда-то ярлык, и оказался он за бортом отечественной литературы.
Перечитывал Сталин «Севастополь» и "Люди из захолустья" Александра Малышкина, ценил язык и стиль этого своеобразного писателя. Но когда начались нападки на Малышкина, защищать его почему-то не стал. Может, и не заметил Иосиф Виссарионович этих нападок в текучке многочисленных дел.
О Паустовском говорил Сталин примерно так:
– Мастер старой школы, очень большой мастер. Читаю его, вижу оттенки красок, ощущаю аромат цветов.
Очень серьезно, очень сдержанно, с некоторым изумлением относился Иосиф Виссарионович к творчеству Шолохова. Это ведь не классик из старых, из дореволюционных, этот взял да и появился вдруг, ни с того ни с сего. Неброский, невысокий человек, разом перевернувший в сознании людей всего мира сложившееся представление о гражданской войне, о казаках. Писатель он, безусловно, гениальный, не ниже уровня Горького, но чего он принесет больше – вреда или пользы, вот вопрос. После "Поднятой целины" Сталин решил польза несомненная: на нашу мельницу воду льет. Но, перечитывая "Тихий Дон", Иосиф Виссарионович каждый раз возвращался к сомнениям, никак не мог взять в толк: хороший персонаж Григорий Мелехов или плохой, одобряет автор новую власть на Дону или нет? Мелехов-то привлекает, вызывает большую симпатию, а он – враг. В отличие от заурядного, ничем не притягивающего Мишки Кошевого.
Сила воздействия романа была такова, что даже Сталин – участник сражений на Дону, – даже он начал думать о казаках иначе, усмотрев в них не оголтелых врагов, а надежную военную силу, способную быть опорой не только старой, но и новой власти. Было реабилитировано само понятие «казачество», в Красной Армии появились казачьи полки в своей традиционной форме, вернулись к нам алые башлыки, кубанки, бурки, и это очень радовало меня, как и вообще любая преемственность в военном деле. Войска без традиционных корней, без славной истории, без геройских боевых знамен – это толпа наемников, это перекати-поле, которое покатится туда, куда погонит сильный ветер.
В Москву приезжал казачий хор, созданный при участии Шолохова, и Сталин с удовольствием слушал донские и кубанские песни. Более того, с согласия Иосифа Виссарионовича в 1936 году на сходах Вешенского района Сталин был принят в казаки и с того времени, не будучи еще ни маршалом, ни генералиссимусом, часто появлялся перед военными в брюках с красными казачьими лампасами.
Читал Иосиф Виссарионович в основном прозу, чаще всего – русскую классику. Его можно зачислить в специалисты по творчеству Салтыкова-Щедрина, он вполне мог бы защитить диссертацию. Даже в обычных разговорах цитировал меткие, хлесткие фразы сатирика, использовал их в официальных выступлениях. А вот Достоевский казался ему вялым, нудным и вредным, уводящим от дела, от борьбы. За книги Льва Толстого принялся Сталин лишь во время Отечественной войны. Конечно, читал и раньше, но поверхностно, разрозненно и, наконец, проштудировал их досконально. Те произведения, где речь идет о военных действиях, об отношении русского народа к войне.
Прозу и стихи Пушкина читал Иосиф Виссарионович охотно, однако, чувствовалось, в основном лишь для развлечения. Несколько раз возвращался к "Руслану и Людмиле", к сказкам. Особенно почему-то смешила его сказка о попе и смекалистом работнике-балде.
Стихи Лермонтова и "Герой нашего времени" напоминали Иосифу Виссарионовичу собственную молодость, любовные и другие приключения. Из грузинских классиков особенно выделял Шота Руставели, в минуты досуга, находясь в хорошем настроении, с удовольствием перелистывал страницы юбилейного издания "Витязя в тигровой шкуре". Чаще даже не читал, а любовался чудесными иллюстрациями-вклейками. Это была книга большого формата, на русском языке. А рисунки, прикрытые тонкой вощеной бумагой, были, действительно изумительны. Мне тоже нравилось именно это издание, я тоже частенько любовался им. Не знаю, куда исчез сей памятный том после смерти Иосифа Виссарионовича, весьма сожалею, что не взял, не сберег эту книгу. Пусть не покажется странной сентиментальность старика, но я скучаю и тоскую по этому фолианту, который так долго и так привычно лежал у Иосифа Виссарионовича на столе, много раз доставлял наслаждение, тихую радость ему и мне.
А вот еще случай курьезный, но для Сталина вполне характерный. Однажды я застал его в прекрасном расположении духа. На столе перед ним была детская книжка с иллюстрациями.
– Убедительный образец того, что даже стихи для детей могут служить политике. Вам знакомо это произведение, Николай Алексеевич?
Несколько удивленный торжественным тоном, я взглянул на обложку и улыбнулся. Это был «Тараканище» Корнея Чуковского. Мы с дочкой недавно читали о злом усатом великане.
– Что здесь веселого? – спросил Сталин.
А у меня, в свою очередь, готов был сорваться с языка иронический и отнюдь не невинный вопрос: если эти стихи политические, то кого выводит автор под видом страшного, жестокого усача, испугавшего всех зверей, слава которого чрезмерно и не по делу раздута? Уж не Семена ли Михайловича? Или самого Иосифа Виссарионовича?
Понимая, что Сталин наверняка обидится, и, что еще важней, может пострадать автор, я сдержался и ответил: книжка имеется у моей дочки, никакой политики в стишках нет.
– Как же вы не видите, когда суть вот она, прямо на поверхности, укорил Иосиф Виссарионович. – Помните мое заключительное слово на XVI съезде партии, когда я критиковал лидеров правой оппозиции, сравнивая их с чеховским Беликовым? Они боялись всего нового, выступали против ликвидации кулачества, как класса, против создания колхозов и совхозов… Чуковский фактически дает нашу критику, только по-писательски, в доступной для всех форме. Он, безусловно, очень талантливый человек.
У меня не было оснований возражать против последнего утверждения. Кто знает, где истинная грань между одаренностью, талантом или большим талантом?!
Возвратившись домой, я взял брошюру "Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду партии" и перечитал ту часть выступления, о которой говорил Сталин. Вот как характеризовал он лидеров правой оппозиции:
"Особенно смешные формы принимают у них эти черты человека в футляре при появлении трудностей, при появлении малейшей тучки на горизонте. Появилась у нас где-нибудь-трудность, загвоздка, они уже в тревоге: как бы чего не вышло. Зашуршал где-нибудь таракан, не успев еще вылезть как следует из норы, а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели Советской власти. (Общий хохот). Мы успокаиваем их и стараемся убедить, что тут нет еще ничего опасного, что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться. Куда там! Они продолжают вопить свое: "Как так таракан? Это не таракан, а тысяча разъяренных зверей! Это не таракан, а пропасть, гибель Советской власти!" И пошла писать губерния… Бухарин пишет по этому поводу тезисы и посылает их в ЦК, утверждая, что политика ЦК довела страну до гибели, что Советская власть наверняка погибнет, если не сейчас, то по крайней мере через месяц. Рыков присоединяется к тезисам Бухарина, оговариваясь, однако, что у него имеется серьезнейшее разногласие с Бухариным, состоящее в том, что Советская власть погибнет, но, по его мнению, не через месяц, а через месяц и два дня. (Общий смех). Томский присоединяется к Бухарину и Рыкову, но протестует против того, что не сумели обойтись без тезисов, не сумели обойтись без документа, за который придется потом отвечать. "Сколько раз я вам говорил, – делайте что хотите, но не оставляйте документов! Не оставляйте следов! (Гомерический хохот всего зала. Продолжительные аплодисменты). Правда потом, через год, когда всякому дураку становится ясно, что тараканья опасность не стоит и выеденного яйца, правые уклонисты начинают приходить в себя и, расхрабрившись, не прочь пуститься даже в хвастовство, заявляя, что они не боятся никаких тараканов, что таракан этот к тому же такой тщедушный и дохлый. (Смех. Аплодисменты). Но это через год, а пока изволь-ка маяться с этими канительщиками…"
Да, как видим, у Сталина и у Чуковского полнейшая антитараканья солидарность. Один и тот же образ. К сожалению, я не встречался с Корнеем Ивановичем, не спрашивал у него, как, когда, под влиянием чего появился пресловутый «Тараканище». Но факт остается фактом. Сталин раз и навсегда зачислил Чуковского в число своих сторонников. Сильнейшие бури, коснувшиеся многих писателей, обошли Корнея Ивановича стороной. Он спокойно прожил свою долгую жизнь. А после смерти Сталина сгорел его дом в Переделкино, погибла большая библиотека, некоторые документы…
Вот как бывает: в течение многих лет имя Сталина было для миллионов людей олицетворением всего самого лучшего, самого справедливого. Это – один перегиб. Теперь же, особенно в среде творческой интеллигенции, наблюдается явный перехлест в другую сторону. Иосиф Виссарионович – это дьявол во плоти, деспот, кровавый маньяк. Зачеркивается все хорошее, что было сделано при нем. Экономические достижения. Подъем духа, энтузиазм, чистота помыслов, жизнь ради будущего – а ведь все это было.
Плох Сталин? Но ведь именно при нем многоцветно и разнообразно расцвела советская литература. Не говорю о Горьком, пришедшем из дореволюционного прошлого. Но как объяснить, что в те годы, когда правил «деспот», раскрыли свои способности прозаики Шолохов и Малышкин, Булгаков и Фадеев, Платонов и Паустовский? Это в его эпоху написали свои лучшие произведения Цветаева и Маяковский, Симонов и Ахматова. При нем вознесся витязь российской поэзии Твардовский, ни разу, кстати, не унизившийся до славословия Иосифу Виссарионовичу. А при этом был ценим тем же Сталиным по достоинству.
Перефразируем закон физики: чем ощутимей противодействие, тем сильнее бывает действие. Талант, как и характер, проявляется в борьбе. Одни люди приспосабливаются к обстоятельствам, извлекая выгоды для себя, другие отстаивают такие необходимые человечеству принципы, как честь, добросовестность, верность. Приспособленцы – исчезают. Принципиальные, преодолев все трудности, остаются.