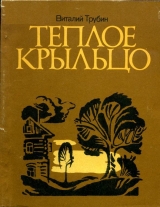
Текст книги "Теплое крыльцо"
Автор книги: Виталий Трубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
КОЛОКОЛЬЧИК
I
Назавтра переезд в новый дом должен был завершиться. Сын со снохой, люди боевитые, в один день управились. Подогнали машину, загрузились – и пятистенник Москвиных опустел, только две кровати остались – деда и внука: железная, облупившаяся, с никелированными шишечками, с прогнутой панцирной сеткой и деревянная, на днях купленная, которую выбирали под цвет обоев новой квартиры.
Уезжая с машиной, сноха с сыном поставили обе кровати ближе к печи, сказав деду, что приедут за ним к девяти утра. «Отопление только сегодня включат, – объяснили. – Надо, чтобы квартира нагрелась, а то застудитесь там. Вы уж в последний раз у печи погрейтесь».
Москвин Николай Иванович долго стоял у окна, носом прижавшись к стеклу, провожая взглядом ревущий на колдобинах грузовик, и думал о сыне, который придерживал в кузове плохо закрепленный сервант: «Много добра нажил. Да что там, не украл, сам заработал. Ночь, полночь – зовут: «Давай, Олег, на электровоз». Поворчит, а идет. Машинист, не барыня какая-нибудь». Старик, довольно хмыкнув, оглянулся на внука:
– Тебе хотелось уехать?
Внук сидел у печи и, приоткрыв заслонку, грустно глядел в огонь.
– Я даже не знаю. – Он кинул в печку полено.
Старик поправил на плечах темно-синее, с черным каракулевым воротником, пальто. Поежился. В пустом доме ему стало еще холоднее. «Хорошо, оставили внука со мной. Не так одиноко на родном месте».
Месяц назад еще не знали, что дадут квартиру: стены в доме были побелены. Сейчас, когда стало свободно от мебели, белизна их казалась старику особенной. «Будто праздник какой»… – Он думал про стены, а десятилетний внук, обижаясь на отца и мать, скучал.
Раньше, оставаясь вдвоем, внук часто теребил деда вопросами, какая жизнь была в старину; но Николай Иванович говорил мало, вздыхал и думал: «Поздно Олег мне внука завел. Сил уж нет управляться с ним».
Теперь Николай Иванович много спал. Походит-походит по комнате, приляжет и сразу в сон. Бывало, внук о чем-нибудь житейском спросит, дед скажет два слова, на третьем запнется. Вроде, смотрит в окошко, а на самом деле видит себя во сне молодым.
II
Посреди ночи внука разбудил громкий незнакомый голос. Заслонка в печи была приоткрыта, моргающие, тлеющие угли отражались в черноте закрытого ставнем окна.
Внуку стало страшно глядеть в потолок: казалось, его вообще нет… Незнакомый голос снова звал:
– Денис! Нетунаев!
«Так это ж дед говорит», – испуганно подумал внук и повернулся на левый бок.
Переставив свою кровать совсем близко к печи, дед лежал на спине, выставив страшный, острый кадык. Оттого, что внук узнал, кто говорит в тишине, легче ему не стало. Хриплый, зовущий голос перешел в шепот, и внук содрогнулся, потому что в эту минуту старик жил потаенной, никому не подвластной жизнью. «Мы же такие родные, – с невидимой миру слезой подумал внук. – И ничего друг про друга не знаем!» – Мальчик заплакал. Он знал, что сон старика – раздробленное видение, не похожее на жизнь, и тосковал, что никогда не узнает настоящую, ежедневную быль родимого человека.
Если бы старик догадался, о чем плакал внук, он бы точно сел к нему на кровать и утешил его в пронзительном ночном одиночестве. Но Николай Иванович Москвин, пробудившись, опять мучился: все, что мозжило его душу, давно должно было отболеть, но пережитое в молодости словно пряталось где, может быть, в небесной тьме, и вновь, и вновь к нему возвращалось…
…На двух закапанных воском столах Николай Москвин, рядовой, увидел хлебное крошево. Вразброд лежали опорожненные, из красного дерева, немецкие фляжки, а на газете желтой горкой крутобокие огурцы. Солдат глотнул, вспомнив их запах – освежающий и семейный.
Поручик Шинкарев, двадцати пяти лет, невысокий, худой, еще шире открыл занавешенный одеялами вход в землянку. Оттуда в лицо Москвина дохнуло теплом и луком, оборванной гитарной струной и тоской.
– Он пойдет! – крикнул в землянку Шинкарев.
Третьи сутки шел мокрый снег. Люди в окопах с трудом привыкали к нему: они не забыли летнего солнца, хотели тепла, полной луны, но надвигалась сырая, промозглая ночь.
Москвин, огромного роста, второго года службы солдат шел по насыпному ходу сообщения и видел, как тихо мерзнут люди: одни, закрываясь от снега воротниками, прятали руки в карманы шинелей, другие сидели на корточках, стояли спиной к ружейным щиткам.
Москвин шел в свой окоп с надеждой, что поручик, изрядно хмельной, забудет о приказе: видано ли, привязать к колокольчику длинный шнур, подвесить его на немецкой проволоке, а офицеры, как малые дети, подергают за веревку, побеспокоят германцев – выявят, значит, новое расположение пулеметов.
Заняв место в окопе, у ружейного щита, Москвин сказал землякам:
– Поручик игру затеял.
Денис Нетунаев, подвижный, вспыльчивый тобольский татарин, хмуро глянул из-под бровей:
– Чо стряслось?
А узнав что и как, поднял к небу голову, заиграл кадыком, заматерился с тоской. Ветер прогнал брюхатые снегом тучи, солнце на миг глянуло, осветило нездоровые, бородатые лица солдат и скрылось за близким лесом.
В тихие без перестрелок вечера Москвин и Нетунаев, земляки, любили глядеть на лес, вспоминали, как детьми ходили по грибы и ягоды, строили шалаши и спали в них бок о бок, просыпаясь от тревожных шорохов, от шума бьющих о березовую листву дождевых капель. Кто знал, что придется жить так далеко от дома, месить грязь осенних дорог, засыпать на снегу, стрелять в людей.
– Денис, – позвал друга Москвин, – ко мне во сне мать-покойница приходила. Стоит на бруствере грустная. Предупреждала, выходит…
Он вспомнил, как в зимних сумерках мать не слышно подходила к топчану, крестила ему голову, потом живот, ноги – тайна шла от ее рук, неясного тела. Был он печально мал. Еще не заснув, жался в комочек, когда, шепча молитвенное, мать просила бога поберечь сына. Жить бы ей да жить, любимой душе. Да отец Москвина купил по весне коня: раз в жизни повезло – сумел заработать. Привел его с ярмарки, высокого, белогривого, остановил посреди двора – показывал жене. Сидя на крыльце, она хвалила: «Хорошего купил коня». Отец принес в деревянной бадье овес. Жеребец захрустел со вкусом, а Николка стоял рядом с ним. Вдруг жеребец дико вскинулся, ударил копытами – чуть не зашиб! Какой-то человек в овсе оставил иголку, она и воткнулась коню в горло. Отец с трудом поймал хрипящего, мучающегося жеребца. Глянули на мать, а она, раскинув руки, лежит на крыльце. Ей привиделось, что упавшему в испуге сыну жеребец размозжил голову, и сердце разорвалось.
Потом отец, потерявший от горя голову, отдал Николку в богатое село стеречь лошадей. Случилось там, потерял он в поле узду. Хозяин, жестокий черт, снял со стены в конюшне другую узду, с медными бляшками, и крепко побил пастушка. Николка очухался ночью, плечом открыл дверь и ушел. Под утро над головой с хлопаньем пронеслись утки, и он обрадованно подумал: «Скоро старица Тобола. Я никогда больше не стану батрачить». Но отец опять пристроил его к лошадям. На конезаводе Николка убирал навоз в денниках, чистил и купал коней. Закончив раздачу кормов, он шел по конюшне. Кони, сыто дыша, ели овес, а ему казалось: по низкой крыше гусит дождь.
К призывному году он освоил многие нужные конюшне ремесла. Старший конюх говорил, что Николу определят в кавалерию, но его забрили в пехоту.
Когда их Сибирский полк погрузили в эшелоны, ротный Шинкарев приглянулся солдатам: он приходил на остановках, спрашивал, как настроение, нет ли просьб. Он даже проехал с ними от Кургана до Шадринска в одном вагоне и тоже пел под гармошку: «Стальной штык четырехгранный грудь германскую пронзит!» И солдаты говорили, что наш поручик Андрей Петрович – офицер незлобивый. Но в первый месяц окопной жизни рота вдруг поняла, что он не умеет или не хочет ее поберечь: шестого августа в Полесье, когда по ним смертельно-метко ударили пулеметы, Шинкарев не поддержал приказа на отступление – «Георгия» зарабатывал. Рота потеряла половину людей, а когда Москвин, кутая бинтом руку, бросил в лицо Шинкареву матерные слова, тот поставил его под ружье. Москвин тогда затянул на груди лямки вещевого мешка, надел шинельную скатку, почистил козырек фуражки и встал в полный рост на бруствер, кинув на плечо винтовку, глядя в сторону германских окопов. Но с чужой стороны по нему не стреляли. Когда он через час на обессиленных ногах спрыгнул в окоп, в роте пошел разговор, что германцы, оказалось, тоже люди: понимают, какая несладкая жизнь в русских окопах. Бывший путеец Денис Нетунаев, давний друг Москвина, ночью шептал ему, что пришла пора разбираться, за что русские и немцы друг дружке хребет ломают.
III
Накрытый шинелью поручик Шинкарев лежал в землянке на топчане и видел сон… Студент университета, он идет к дому с колоннами, где его ждут мать и два маленьких брата. Солнце уходит. Редкие облака-кораблики тонут в огненных реках. Рассеянные, неслышные люди мягко проходят. И, еле видимый, навстречу идет отец. Вдруг пустынно, и они рядом: отец, молодой, в штатской одежде, взял его под локоть, и он узнал дорогую, но холодную руку. Они молодые, похожие, не разговаривая, прошли мимо затененного тополями дома. Андрей оглянулся: светились окна столовой. Он со страхом подумал, что отец два года, как убит на Балтике. Рука отца обнимала его локоть, и они уходили, теряя землю из вида…
Шинкарев проснулся. Офицеры простуженно пели:
Хаз-Булат удалой,
Бедна сакля твоя.
Золотою казной я осыплю тебя…
Поручик отвернулся к стене, закрыл глаза и стал думать о доме. После смерти отца они с мамой оставили Петроград и вернулись на ее родину в Тобольск, откуда он, старший сын, ушел добровольцем. Забываясь, поручик слышал запах старого дерева, видел, как грустит мама, читая походные письма отца… Однажды в конверте оказалось зеленое перышко: его обронила птица, влетевшая через иллюминатор в каюту отца. Одно письмо, первое, долгожданное, Андрей помнил дословно. Они с мамой вместе разрезали конверт, и вечерами она любила читать это письмо у огня…
«1 октября. 8 утра.
Сейчас, Веруша, собираемся уйти из Либавы. Сначала предполагали это сделать завтра, а сию минуту перерешили. Все это время стояла суматоха – грузы прибывали каждый час и неизвестно что, куда. Путаница была страшная. Третьего дня я сел на паровой катер и слез с него вчера в час, урывая в промежутках время для сна и еды. Конечно, устал, принял вечером горячую ванну и чувствую себя именинником. Рассчитывал даже сегодня съездить на берег, но вдруг!.. Вдруг неожиданное решение: «немедленно уйти».
Спешу послать тебе последнее письмо из России. Телеграммой не могу уже уведомить.
Спасибо, милая, за обе телеграммы. Я ухожу спокойным и уверенным. Будь здорова, голубчик. Не падай духом и не настраивай себя на миноры. Ужасно люблю тебя, милая моя, ненаглядная. Сам я глубоко верю, что и на этот раз все обернется в лучшую сторону. Крепко целую милых моих ребятишек. Поскорее выздоравливай и тогда переезжай – я ведь всегда мечтал, чтобы ребята пожили в деревне. Андрею купи настоящий овчинный полушубок, всем настоящие валенки. Пусть поживут поближе к людям и к природе…»
Отец, один из немногих офицеров, вернулся из японского плена с незалеченной раной от осколка шимозы.
Погиб он в начале германской. Друг отца, штурман, рассказал, как все случилось. Он, раненый, лежал на палубе и старался укрыться от немецких снарядов, которые уже непрерывно попадали в крейсер и все сильнее разрушали его. Корабль кренился. Отец, флагманский артиллерист, подошел к штурману и потащил его через спардек на правую сторону судна, чтобы не попасть под корабль, когда он будет переворачиваться. Они перелезали противоминную сеть, когда на корабле громко прозвучал сигнал судового колокола: «Уходи все с корабля!»
«Уходи все!» – закричал контуженый, потерявший рассудок матрос и выстрелил в Петра Алексеевича из винтовки.
«Бедный отец, – укрывшись с головой шинелью, подумал Андрей Шинкарев. – Он был хороший офицер, а я не могу, потому как не знаю, зачем все это. Я уже не в состоянии каждое утро подниматься с этого топчана, одеваться, выходить из землянки. Мне хочется только лежать и думать о невозвратимом. Я ни о чем не мечтаю, я потерял эту способность. Я даже женщину не хочу и не болею об этом. Все время снег, снег. Мы на голом месте, а лес… даже лес у немцев. Там бы я мог облюбовать себе большую сосну и сидеть под ней, никому не мешая. Люди… К ним я стал равнодушен. «Народ безмолвствует» – так это у Пушкина. Моя беда в том, что я знаю конечный результат любого поступка. Люди не стоят, чтобы любить их. Мой отец был чистой души народолюбец, а смерть в грязном облике контуженого матроса срубила его под корень. За что? Господи! Не верю и креста не ношу. Равнодушие – то, чего я всегда боялся, – наступило, потому что я был жизнерадостен, любопытен, шел с любовью к хорошим людям, а таких отдают на заклание. Я обижен на жизнь. Я ее бывший раб. Она никогда не будет такой, как мы хотим. Всюду ложь, тупость, хаос и воровство. Когда я напиваюсь, я теряю способность видеть, но внутренне я чрезвычайно трезв. И я никого не прощаю.
Мама, моя единственная любовь, голубка, заступница, спаси меня. Дай мне силы выстоять! Выбраться, из этих грязно-белых болот. Я приеду в Тобольск, позвоню в твою дверь, и мы сразу уедем в лес, в охотничью избушку отца, и я, ничего не боясь, в полный рост пойду за водой к колодцу, а ты будешь смотреть на меня в окно, не веря, что я вернулся живой.
Шинкарев, как в детстве, подтянул для тепла колени к груди, улыбнулся счастливо и подумал, что ничего этого не будет. «Я обреченный, – решил он. – За меня уже все решили». Он скинул шинель и сел, спустив голые ноги на земляной пол. Офицеры посмотрели на него без любопытства. Мало ли что приснится спящему человеку. «Сволочи, – подумал о них Шинкарев. – Я скоро умру. И никому нет до меня дела».
Шинкарев, а с ним еще три офицера, пришли к Москвину, когда в темноте уже нельзя было различить мушки винтовок. Солдаты встретили господ молчанием. Еще не отрезвевшие офицеры были мрачнее тучи и говорили, как плохо без женщин, а тыловая сволочь сейчас вовсю… Всех бы! Шинкарев недовольно вгляделся в их высохшие, тесно обтянутые землистой кожей лица и подумал: «Неужели я такой же потерянный? Не может быть! И что это за дурацкая идея у подполковника – засекать пулеметные точки с помощью колокольчика? Дурацкий приказ, а солдату лезть в темноту. Да не все ли равно когда – сегодня, завтра, месяцем позже? Выжить надежды нет, а солдат на что-то надеется. Замечен в чтении каких-то листков. Пугачева вспоминал. Потому и пойдет».
Шинкарев развернул газету. Колокольчик был величиной с кулак.
– Привязывай шнур, Москвин! – Поручик взял из рук взводного большой моток крепкой тонкой веревки. – И с богом!
– Ваше благородие! – вымолвил из темноты Нетунаев. – Не дело это – на глупую смерть сибиряка посылать!
– Что такое? – силясь разглядеть лицо говорящего, громко сказал Шинкарев. Солдаты теснее окружили офицеров, задышали тяжело, угрожающе.
– Разойдись по местам! – крикнул взводный.
– Разойтись! – подали голоса офицеры.
Москвин еще больше ссутулился, завернул в тряпицу язычок колокольчика, чтоб не звякнул, не выдал у немецкой проволоки, перекрестился, сказал:
– Ухожу. – Вылез из окопа, и его поглотила тьма.
Холод бритвой полоснул по телу. Земля пахла людским потом и разрытой могилой. Москвин прополз и затих. Он лежал, уткнув лицо в согнутый локоть. Двигаться не хотелось. Снег лопотал, усыпляя. Тело в намокшей одежде, как срубленное, отсыревшее дерево, всасывалось землей. Москвину на мгновение показалось – кругом топь, но он сдержался, не крикнул, а робко продвинулся в темноту. Впереди сумасшедшим петухом закричал человек. Ракета вспыхнула, заискрилась, как лампа с догорающим фитилем. Москвин открыл глаза, когда мгла вернулась. Скоро ползти стало совсем тяжело: усталая от воды земля липла к шинели и сапогам, останавливала. Он дышал торопливо, вжимаясь в землю, когда нависали над головой голубые осветительные ракеты.
Первое проволочное заграждение он прошел без препятствий, в нем зияли проходы: столбы и проволоку давно посекли пулеметы, и Москвин пробрался через один из проломов.
«Ну что же, – стоя в окопе, вслушиваясь в мрачную темноту, размышлял Шинкарев. – Я послал человека туда, потому что привык посылать на смерть. Но ведь по всем божьим законам к этому нельзя привыкнуть? Какое во всем теле оцепенение, тяжесть. И никакого стыда. В университете нам говорили о величии человека, а теперь я камень. Статуя командора», – усмехнулся над собой Шинкарев и посмотрел в небо. Оно показалось ему расстрелянным. «Где-то, – думал Шинкарев, – живет девушка, предназначенная именно мне, но она никогда не будет моей женой… Кому сейчас труднее – ему или мне? – подумал о своем солдате поручик. – Наверное, мне. Я точно знаю, дальше будет еще хуже, дальше вообще ничего не будет, а он хочет вернуться из этой бойни».
Колокольчик подвесить оказалось делом нехитрым, но надо было вернуться обратно, да так, чтобы колокольчик не звякнул, не удивил немцев неожиданным появлением. Москвин полз боком, медленно отматывая тонкую веревку, и думал, что колокольчик не зазвонит, не заставит немцев поднять голову, прислушаться. Но он, маленький предатель, зазвонил громко, не скрываясь, когда Москвин был уже недалеко от своих окопов. Как ни старался он поберечься, шнур за что-то в темноте зацепился, солдат чуть поддернул его, и в ночной тишине колокольчик заговорил по-детски испуганно. В небе вспыхнули осветительные ракеты. Пулеметчики встрепенулись, и Москвин почувствовал, как его сильно толкнуло и обожгло.
Очнувшись, он, как с высокого берега, увидел лежащего на левом боку с неловко подвернутой рукой солдата и подумал: «Жаль Нетунаева». Потом вгляделся в него, копошащегося в снежной, глиняной жиже и понял – это не Денис Нетунаев, а кто-то другой, необыкновенно знакомый, но тяжело раненый и потому неузнаваемый. «Да это я сам, – испугался Москвин, подумав: – Значит, не убит, только кружится голова, словно я пацаном носился по лесу за отбившейся от стада коровой и не поенный, не кормленный выбился из сил, а домой боязно – хозяин прибьет. Ранило меня», – вдруг догадался он и, не чувствуя тела, попробовал шевельнуться и обрадовался: «Поживем еще». Когда ему удалось проползти два шага, боль слегка тронула правый бок, потом разгорелась, как сухой костер, стала невыносимой. Чтобы унять ее, он закричал, но услышал его только один, с нечеловеческим слухом, пулеметчик-баварец. «Ох-хо-хо», – прошептал Москвин, когда пулеметчик ответил на его робкий стон короткой, из трех патронов, очередью.
«Не бросят меня, – вспомнив Дениса, решил Москвин и вдруг ясно почувствовал, что тот где-то рядом. – Найдет, родная душа», – с тихой уверенностью сказал он и потерял сознание.
Очнулся он через мгновение, потому что невысоко, прямо над ним, вспыхнула осветительная ракета и нестерпимо горячий свет впился ему в зрачки.
Москвина вынес из-под огня Нетунаев: он втянул его, густо покрытого землей и глиной, в окоп и огляделся. Шинкарев, протрезвевший от пулеметной стрельбы и света ракет, быстро сказал:
– Молодец, Нетунаев! – Он приказал, чтобы Москвина убрали с прохода, а когда солдаты, столпившиеся у лежащего в беспамятстве, расступились, Шинкарев, заторопившись уйти, носком сапога чуть подвинул его безвольные, тяжелые ноги. Денис Нетунаев задержал офицера рукой и сорвал с его плеч погоны.
Шинкарев схватился за револьвер, и тогда кто-то ударил его прикладом по голове…
Солдатское волнение перекинулось на весь 55-й Сибирский полк 6-го Сибирского корпуса: солдаты не подчинялись приказам, жгли костры, кричали немцам: «Войне конец!»
Волнение подавили. В 55-м полку из роты покойного Шинкарева по приказанию начальника 14-й Сибирской дивизии генерал-лейтенанта К. Р. Довбор-Мусницкого 25 ноября 1916 года без суда и следствия были расстреляны тринадцать солдат. На рапорте генерал-лейтенанта о случившемся царь Николай II написал:
«Правильный пример!»
Москвин же оправился от ран и после допроса в следственной комиссии вернулся в свой полк, но только во второй батальон, где в первый же день по прибытии один старый солдат-сибиряк сказал ему:
– Знаем тебя. Колокольчик твой громче тобольских колоколов громыхнул.
ЛЕСТНИЦА В НЕБО
I
У хорошо знакомой двери Николай Радченко стоял долго, не решаясь протянуть к звонку тяжелую руку. Когда карабинным затвором клацнул замок, лоб Николая покрылся холодной испариной, но перед матерью друга он предстал все тем же сосредоточенным, уверенным в себе человеком. С тех пор, как Нина Петровна стала пускать его в дом – это случилось полтора года назад, – лейтенант Николай Радченко бывал здесь каждые две недели, общаясь с Сергеем, ее сыном, как с самым что ни на есть здоровым парнем и старым товарищем.
– Давно тебя в милицейской форме не видел. – Ухватившись руками за подлокотники кресла, Сергей напружинился и, подрагивая всем телом, поднялся.
– Вы куда поедете, чтоб я знала? – привычно-обеспокоенно спросила Нина Петровна и сама же ответила: – На озеро? Только долго не засиживайтесь. Обещали грозу.
Сергей криво усмехнулся на ее заботу, сделал первый неуверенный шаг. Лейтенант шагнул навстречу, но друг бросил:
– Нет! Нет!
«Он стал говорить, как глухой – жестко и громко», – думал Радченко. Сергей шел мимо него, раскачиваясь, широко расставляя руки, будто балансировал на цирковой проволоке.
– Ты стал лучше ходить, – соврал Николай.
– Чего трепаться-то! – глядя в пол, подтаскивая почти не гнущиеся в коленях, словно закованные в гипс ноги, вздохнул друг. По его усталому, незагорелому сухому лицу блуждала не то ухмылка, не то гримаса недоверия и боли.
– Никола прав. Ты окреп, – провожая сына до двери, говорила Нина Петровна. – Но я хочу пожаловаться – ты не любишь ходить. Прирос к телевизору, за уши не оттянешь, а позавчера в газете писали, один альпинист тоже поломал спину, но проявил волю, тренировался, снова вернулся к работе, даже женился.
– Да ладно тебе агитировать, – не глядя на мать, обиженно сказал Сергей. – У него, поди, травма пустяковая была, а у меня… – Левой рукой он опирался на черную трость: вместо обыкновенной удобной рукояти у нее теперь было навершие в виде голой грудастой русалки, и это не понравилось Николаю.
Под тяжелыми ногами Сергея гулко бухала лестница. Лейтенант шел впереди и думал, что Нина Петровна никогда не простит его: ведь она четыре года не пускала его на порог, хотя знала, как он мучился и казнился.
Сильным толчком правой, сжатой в кулак, руки Сергей открыл дверь и зажмурился от ярко полыхнувшего солнца. Воздух был не по городскому чист и горяч, над лимонного цвета шафранами, росшими у подъезда – каждую весну их высаживала Нина Петровна, – с радостным гудом летал шмель. И Сергей вспомнил, как совсем маленьким мальчиком с зеленым краснозвездным самолетиком, изображая полет, он бежит по огороду, высоко вскинув руку, а копавшие картошку мама с бабушкой смотрят на него с одобрительной, счастливой улыбкой. «За что же такое?» – с мгновенно вспыхнувшей неприязнью к другу подумал Сергей.
Лейтенант давно возился у мотоцикла: что-то проверял в нем, открывал, закрывал краник. Все той же неверной походкой Сергей подошел к нему и сказал сиплым, будто перехваченным от волнения голосом:
– Порыбачим сегодня, лодку взял?
Николай кивнул на багажник, что означало: все, как всегда, на месте.
Мотоцикл, отлаженно и ровно урча, вынес друзей на улицу Коли Мяготина. Глухо порыкивали ярко-оранжевые КамАЗы, сине-бело-зеленые проносились «лады» и «москвичи», и Сергей с иронической улыбкой видел, как настораживались при виде милицейской формы друга водители встречных и соседних машин. Сергей любил ездить на мотоцикле: ветер тепло и упруго бил в лицо, все, что двигалось, шло, светилось, лежало кругом, было видно до мельчайших подробностей.
После недолгой задержки у светофора, Николай увеличил скорость, и Сергей, подтянув до подбородка старенький черный полог, одобрительно поглядел на него. В белой мотоциклетной каске с кокардой, в новенькой лейтенантской форме Радченко был не таким, каким Сергей его знал, когда друг приходил в гражданском. «Будто сто лет прошло с тех пор, – думал он, – а с семи лет наша жизнь шла рядом, как следы от саней».
На озеро Орлово, где у них было любимое место, в последний раз они ездили месяц назад. Наблюдая за улицей, острые глаза Сергея отмечали на ней все перемены. Покрасили свадебный дворец. А это что?! У школы тополя вырубили! Таких могучих стариков под корень?!
За время болезни Сергей обнаружил в себе глубинную память. Оказывается, он знал себя с трех лет и всегда кругом него росло, излучая тепло и добро, дерево. Когда смертельно-неподвижный он лежал в хирургии, он особенно прикипел душой к тополям, как к единственной радости, которую видел в окно. Покочевав из больницы в больницу, поняв и полюбив дерево еще больше, как живое, Сергей мечтал, чтобы каждая семья жила в своем доме с садом и огородом, с счастливо растущими в нем тополями.
В этот июньский день небо было бездонно-синим, как глаза Нины Петровны. Лейтенант виновато поглядел на друга, наклонился, спросил:
– Все в порядке?
Сергей не ответил. Ветер трепал его выбившиеся из-под каски кудрявые, темно-русые, длинные до плеч волосы. Он сидел гордо и прямо, и все, кто видели его на улице, подумать не могли, что в мотоциклетной люльке везут бывшего спортсмена, полупарализованного инвалида.
Осталось позади угловатое, высокотрубное здание ТЭЦ. Миновав переезд, мотоцикл мчался асфальтированной дорогой. Справа на высокой железнодорожной насыпи его догоняла дрезина. За ее чистыми стеклами Сергей видел рабочих в оранжевых, надетых на голое тело, спецовках и вспомнил, как в конце лета, за полгода до своей беды, на такой же точно дрезине он с матерью возвращался из леса: ждали электричку на полустанке, и Нину Петровну узнал старший дорожный мастер, который когда-то лежал у нее в палате…
В дрезине Сергей стоял у лобового стекла, впереди лежал далекий свободный путь, и рельсы, впервые открытые прямому взору, жарко горели под солнцем, а мелькавшие шпалы показались Сергею лестницей в небо: именно тогда, в дрезине, он окончательно решил стать офицером-десантником.
Дрезина убегала от настигающей ее грозы, но не смогла убежать; и последние тридцать минут дороги над маленькой желтенькой быстро идущей по рельсам машиной по-медвежьи рявкал гром, голубые холодные линейные молнии, как эрэсы, яростно полосовали черное вздыбленное небо, и Сергей представлял себя командиром готовой к атаке роты десантников.
Берегом озера они ехали пять минут. Николай знал подъезд к большой воде по солончаковому полю. На его середине урчанием мотоцикла они вспугнули занятого поверженной добычей огромного в размахе крыльев луня. Тот тяжело взлетел, и его сразу атаковали две визгливо-нервно кричащие чайки.
– Черт-те что! – глядя на поспешное бегство луня, громко сказал Сергей.
– Что? – наклонился к нему Николай.
– Да вон, – недовольно кивнул Сергей, – чайки луня гоняют.
– А-а, – понимающе сказал Николай и выключил зажигание.
Озеро спокойно-голубовато светилось. Сергея охватила теплая, давно желанная тишина. Он посмотрел в небо, высоко-высоко там крутила фигуры высшего пилотажа черная молчаливая точка, и такая тоска нахлынула, что он закрыл глаза и решил не открывать их, пока не пройдет этот, ставший в его жизни обыкновенным, приступ смертельно-безысходного одиночества.
Лейтенант спрятал ключ зажигания в боковой карман кителя, слез с седла, расстегнул ремешок мотоциклетной каски и, сняв ее, провел широкой грубой ладонью по своим рыжим коротко стриженным волосам.
– Тебе помочь?
Сергей помедлил, потом негромко сказал:
– Да, помоги, Коля. Ноги затекли.
Помогая ему выбраться из коляски, чувствуя, как сотрясается плохо управляемое тело друга, Радченко думал: «Ведь каких-нибудь десять сантиметров доворота, и Серега бы нормально упал на ковер!..»
…Пять с половиной лет назад, в тот невыносимый день он проснулся с чувством недовольства и раздражения: с середины ночи шел мокрый снег, и ему не нравилось серое, скучное небо и тесная, без ремонта квартирка. Он давно мечтал жить в комнате с высоким потолком, чтобы в ней было много солнца и воздуха. Все утро до взвешивания так хотелось пить: за последние двое суток перед соревнованием он выпил только стакан воды. Стоя под душем в остужающей струе воды – при сгонке тело горело, сжигая в себе последние граммы лишнего веса, – Николай тогда думал о главном своем сопернике на ковре, у которого почти никогда не выигрывал. Самым трудным для него было бороться с Серегой. Взяв его на победный прием, под приветственный крик болельщиков кинуть его на спину, а самому остаться стоять, что в самбо считалось чистой победой, или, захватив руку Сергея на болевой, чувствовать – рука друга, как птица бьется, вырывается из железных тисков захвата… Все-таки это было несправедливо и странно: ходить с другом детства, раскудрявым, улыбчивым, кареглазым, которого так любили девушки, по спортивному залу, вокруг ковра, где шли отчаянные бои, стоять с ним, шутить, хлопать по плечу, решать – пойдут или не пойдут они вечером прогуляться в горсад, и вдруг услышать металлический голос: «На ковер вызываются борцы весовой категории до семидесяти четырех килограммов – Борисов, Радченко… В красном углу – Сергей Борисов, первый разряд. В синем углу ковра – Николай Радченко, первый спортивный разряд». Удивлявшая многих спортсменов странность заключалась в том, что в секции тренировались мастера, у которых Сергей никогда не выигрывал, а Николай мог сделать им на спаррингах даже болевой прием. Случалось, на соревнованиях, проиграв Сереге, он со злости мог кинуть сильнейшего борца через спину с колен.
Той зимой, в феврале, на первенстве города, Николай решил, наконец, сломать в себе эту распроклятую, ему самому трижды непонятную расслабленность перед другом, и все время, до их с Серегой выхода на ковер, он не подходил к нему, чего раньше не делал.
Николай хорошо помнил, как за двадцать минут до призывного гонга он ушел в раздевалку, сел там на скамейку, пристально глядя на пустую, свежеокрашенную синюю стену и стал думать: «Я должен выиграть. Я сильнее. Это все знают. Я должен выиграть» …Он настраивался на схватку, как никогда в жизни – сурово и зло, зная, что в идеале спортсмен должен выходить на борцовский ковер, как на самый последний бой. Николай одиноко сидел на низкой скамейке в молчаливом, цепком сосредоточении и с удивлением чувствовал, как в нем рождается гнев, до этого ему неизвестный…








