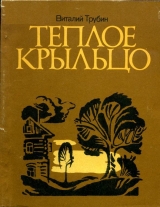
Текст книги "Теплое крыльцо"
Автор книги: Виталий Трубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Теплое крыльцо
ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА ЧЕЛЯДИНА
ИЗ-ЗА ДВУХ ОЗЕР
I
Электричка, миновав железнодорожный мост, прокричала освобожденно. Иван оторвался от окна, поглядел на сидящего напротив отца и подумал: «Жалко его».
Уже неделю отец возвращался с работы невесело. Мама встречала его с улыбкой, но он останавливал ее укоризненным взглядом, сам снимал черный железнодорожный китель и, не сказав никому доброго слова, шел умываться. Ничего не понимая, Иван, его двенадцатилетний сын, тоже молча, вопросительно глядел на мать, а она хмуро отвечала, что папа устал – летом у железнодорожников много работы.
В электричке отец с сыном ехали словно отдельно. Солнце стремилось забраться повыше, слепило, но отец не отводил в сторону глаз, держался, как раньше, гордо и прямо, и во всей его невысокой, отяжелевшей фигуре было столько еле сдерживаемой печали, что Иван подумал: «Может, сегодня утром мать недоговорила чего, и то, что по вине отца в его дежурство сошли с рельсов четыре вагона – не главное и есть что-то еще, о чем она решила – мне знать не надо».
По соседнему пути с грохотом пошел грузовой эшелон, и в окне, как в зеркале, среди мелькавших вагонов дрогнул задумчиво-красивый профиль отца. Грохот от проходящего поезда оглушал: по причине лета в электричке были открыты окна, – вагоны неслись, пьяно раскачиваясь, подступали к стеклу.
– Что грустишь? – еле слышно спросил отец.
– А чему радоваться? – ответил сын.
– Что? – не расслышал отец и качнулся навстречу.
– Я говорю – негрустный я, – громко сказал Иван и переменил разговор: – Ты, верно, спать хочешь? Ты с ночной смены.
– Приедем на дачу, посплю два часа.
– А мне что делать?
– Сходи в лес или начинай ягоды брать.
– Не люблю ягоды собирать, – с досадой вырвалось у Ивана.
– А есть любишь? – резко спросил отец.
– Не люблю. – Лицо сына тоже сделалось недовольно-сердитым.
– Не выдумывай! – Отец отвернулся к окну.
Повсюду, насколько хватало глаз, лежала солончаковая, бедная растительностью земля. По левую сторону железнодорожного полотна разбросанно тянулся поселок из типовых, одноэтажных, крытых шифером, зданий. Сын хотел спросить, кто живет в поселке, но, поглядев на отца, передумал. Электричка сделала поворот и, качнувшись вправо, Иван увидел знакомое, безлюдное озеро, оглянулся и в другом окне успел заметить такую же пустынную воду. Когда-то озеро разъединил железнодорожный путь, и стало два озера, обросших камышом, как старик бородой, таких успокоенных, что Иван ни разу не видел, чтобы в них купались или удили рыбу.
– Плохо я тебя знаю, – сердито глядя в окно, сказал отец.
– Это почему? – удивился Иван.
– Оказывается, землю не любишь.
– Люблю. – Сын примирительно улыбнулся.
– А когда любишь землю, все нравится на ней делать.
– Я землю копать люблю. Осенью, – тоже не отрываясь от окна, серьезно сказал Иван.
– И все? – снисходительно посмотрел на него отец.
– Пока все.
Иван смотрел, как мелькает за окном близкий лес и думал: «Чего он ко мне пристал? Плохо ему – вот и пристал».
– А помнишь, – спросил отец, – ты маленький был, мы с тобой ездили в мою деревню костянку брать?
– Помню. Там посреди пшеничного поля – береза.
– Точно! – обрадовался отец. – Я думал – забыл!
Электричка сбавила ход, за окном потянулись светло-коричневого цвета станционные постройки, сараи, магазин, водокачка.
– Вот и приехали, – взяв тяжелый мешок, сказал отец и позвал сына: – Айда, работничек.
В тамбуре, придерживая неширокую, с ладонь, двухметровую доску, прислоненную к стене, ждал выхода лысый, с больным лицом пожилой мужчина в железнодорожной форме. У его ног лежал битком набитый портфель.
– Здравствуйте, – поприветствовал он. Отец, пожав протянутую ему руку с узловатыми, вспухшими пальцами, сказал:
– Ну-ка, Ваня, помоги старому машинисту. Возьми портфель.
Зеленые двери с шипеньем открылись. Пока машинист, вяло переставляя ноги, задерживая напиравших из вагона людей, сходил по крутым ступенькам, Иван тихонько спросил отца:
– Кто это?
– Сергеич. Ты его знаешь. Он тебе путейскую дудку дарил.
– Не помню.
Видя, что старому машинисту тяжело нести сосновую, судя по свежему смолистому запаху, недавно распиленную доску, отец взял ее на плечо, а тот виновато пожаловался:
– Надо сделать кое-чего по хозяйству…
– Мы тоже решили малину собрать, да погреб будем чинить, – поддержал разговор отец.
– Хорошее дело, – сипло, как старый курильщик, сказал машинист. Взглянув в его светло-серые, пристальные глаза, Иван застеснялся.
По березовой, богато росшей аллее они шли первыми, за ними гомонили садоводы: пенсионеры, отпускники, их жены, дочери – все приехали собирать удачный в этом году урожай, а мальчику хотелось в лес. Машинист внимательно взглянул на него.
– Значит, работать идешь, – спросил, – а дружки, поди, на речку бегут?
– Ну и что, – раздосадованно ответил Иван. Машинист с отцом переглянулись с тайной улыбкой.
«Смеются еще, – думал мальчик. – А хорошо бы на речку».
Потом отец попросил:
– Иди, сын, вперед. Нам поговорить надо.
Ваня ускорил шаг, но как ни настораживался, слышал только обрывки фраз: «Знаешь, Сергеич, первый раз со мной. Стыд-то какой!» – И дальше Иван опять не расслышал, а старый машинист говорил: «Бу-бу-бу-бу, с кем не бывало. У меня в тридцать пятом году… – и снова: – Бу-бу-бу».
Когда они подошли к новым, свежеокрашенным воротам коллективного сада и расстались на первой развилке, Сергеевич, дача которого стояла крайняя, у ворот, сказал на прощание:
– Надо, Михаил, пережить. Я и не такое переживал. – Он подхватил доску на левое, отдохнувшее, плечо, взял из рук Ивана портфель, а потом, спохватившись, обернулся и крикнул в спину уходящим по аллее Челядиным:
– Спасибо.
Они обернулись, и мальчик подумал: «С отцом случилось сильно неладное».
Дачный поселок был ухоженный и большой. Каждая семья владела участком в шесть соток с небольшим домом, душем, сараюшкой, а в саду росли яблони, крыжовник, малина, смородина, земляника.
– Хорошо тут, – открывая калитку, обрадованно говорил отец. – Воздух какой! Свобода! – гремел он, идя к даче по засыпанной белым песком дорожке. – Знаешь, Иван, мне спать расхотелось. Будем ягоды собирать!
– Давай, – согласился сын. – Быстро соберем и – домой.
– Вот так всегда, – рассердился отец, – не успел приехать, как уже обратно лыжи востришь.
«Больше ничего не скажу», – обиделся Иван.
Малина росла в два ряда, ягод наспело много, и он с неудовольствием подумал, что на работу уйдет полдня.
Отец принес два металлических складных стульчика, сказал сыну:
– Будем собирать ягоды вместе, а не раздельно, как прошлый раз. Пойдешь по той стороне, а я по этой. Ты малину собирай в банку, а я в ведро.
И работа пошла.
«Лучше огород два раза вскопать, чем ягоды собирать», – расстроенно думал Иван.
– Чего вздыхаешь? – поинтересовался отец.
– Легкие вентилирую, – ответил Иван, и снова воцарилось молчание.
Отец брал малину чисто и ловко, сын тоже старался. Ягода легко оставалась в руке; от малины шел терпкий, сладковатый дух; пчелы с беспокойным рабочим гулом летали с цветка на цветок; в небе была синяя щемящая пустота.
– Хоть бы дождь пошел, – сказал Иван.
– Надоело уже?
– Что?
– Ягоды собирать.
– Дождя давно не было – это плохо для земли, – проявил заботу Иван.
– Надо же, – с иронией удивился отец. – С каких пор ты о земле заботиться стал?
– С тех пор, как мы с классом на увале, вдоль шоссе, березы сажали.
– Ну и что? Посадить – не растить! Вот посадил дерево, а после ты хоть раз пришел к нему?
– Я не одно дерево посадил. Может, семнадцать.
– Да не об том речь, – сказал отец. – Ты им помогал, ухаживал, поливал, когда засуха?
– Нет.
– Потому и землю не любишь.
– Папа, а чего ты, если так землю любишь, из деревни ушел?
– Гордый был. На отца обиделся – вот и ушел.
– А дед?
– Помирились, но в деревню я не вернулся, а надо было. От моей руки земля хорошо родила. Я когда огород поливал, такие разговоры вел: «Растите хорошо, картошка, огурцы… Я вас люблю».
Иван рассмеялся, а отец расстроился:
– Ну чего ты смеешься, пацан! Не понимаешь. У нас в области академик живет. Он с землей говорит, ухаживает за ней с любовью, а она ему за добро – добром. У него в колхозе урожаи сильнее, чем у других, потому что он с землей, как с живой. У него она дышит, воду пьет, родит. А в городе мне тоскливо стало. Тесно. Давит.
– Может, это потому, что у тебя неприятности? – растерянно спросил Иван.
– А с чего ты взял, что у меня неприятности? – встревожился отец.
– Кажется… – Иван спрятал лицо за ветку малины.
– Кажется, – повторил отец, подумал: «Резковато я с ним», – и сразу вспомнил аварию. Он, дежурный по станции, пустил порожний состав на занятый путь, потому что составитель с маневровым электровозом и восемью вагонами должен был остановиться на «северной вытяжке», а остановился на «седьмой малой», то есть не доехал. Стрелочница же, давно знакомая Челядину женщина, не посмотрев внимательно, доложила, что маневровый проехал в вытяжку, и Челядин заказал маршрут порожнего, и этот состав срезал четыре вагона у маневрового. За это пуще других наказали его, дежурного, чтобы не жмурился, не ленился проверить. И теперь надо рассказать обо всем сыну, но так, чтобы Иван не думал, что отец себя выгораживает: дескать, пострадал невинно, доверился. Конечно, можно и не говорить, но мальчишки во дворе такие быстроглазые, кто-нибудь дома услышит, что хваленого Михаила Челядина за аварию по головке не погладили, и скажет: «Ванька, с твоим отцом то-то и то-то!» – да еще надумает, а сыну – рана.
Малину брали, не отдыхая, и через час сосредоточенной, молчаливой работы Иван сказал:
– Пап, расскажи мне о своих. Я о них мало знаю.
– А что рассказывать… Работали всю жизнь, – спокойно ответил отец.
– Когда умер дед Павел, вы меня отвели на Битевскую, к маминой маме?
– Да… – Отец вопросительно глядел на сына. – Мы тебя отвели к бабушке.
– Но я вернулся.
– Тебе было пять лет. Ты не мог вернуться. Ты бы не нашел дорогу.
– Я пришел, когда все кончилось. У подъезда стояли две накрытые черно-синим ковром табуретки, и я убежал. Помню, было лето, жаркое.
– Ты путаешь. Дед Павел умер зимой, в декабре.
– Но табуретки были накрыты ковром? Я потом долго боялся их, как тех фотографий.
– Каких?
– Где бабушка Евдокия и дед Павел в гробу. Я думал, если долго глядеть на них, у нас еще кто-то умрет. Теперь я так не думаю.
Иван вспомнил, как он, затаив дыхание, собрал все бывшие в доме похоронные фотографии в черный пакет и спрятал его далеко в шкаф. И после Иван долго не вспоминал, где лежат фотографии, а сейчас вспомнил с мгновенным испугом.
II
Когда малину собрали, отец довольно сказал:
– Быстро управились.
Они умылись под краном над закопанной в земле бочкой, зашли на веранду.
– Я вздремну, – снимая майку, устало сказал отец, – а ты займись своим делом, но в лес не ходи. Отдохну, погреб оглянем.
– Что там?
– Кое-где доски подгнили, перестелем. Погреб обложим кирпичом, цементом зальем. Работы на несколько дней. Прежний хозяин дачи был ленивый мужик.
Иван сидел на диване, слушая, как вздыхает отец, и думал, что он не похож на себя прежнего: нервничает, подсмеивается: «Землю не любишь». Я никогда и не думал: люблю ее или нет. Хожу по ней, да и все.
– Нет, не могу уснуть, – недовольно сказал отец, и, с шумом надев ботинки, он вышел из комнаты, сел на диван – непричесанный, с сонным лицом.
– Не устал?
– Ягоды снимать – не работа, – с деланным равнодушием ответил сын.
– Ну и ладно. Теперь погреб смотреть.
– Давай! – Иван с готовностью встал.
– Оденемся потеплее.
Когда Иван надел потрепанный железнодорожный китель, забрызганные красной краской штаны и стоптанные зимние башмаки, отец большим гнутым гвоздем поднял короткие вместе сбитые доски, и открылась западня, из которой дунуло черным подземным холодом. Отец спустился по лестнице, сказал измененным голосом:
– Сюда.
Сыро, мрачновато скрипнула лестница. Иван встал на темно-желтый влажный песок. Подпол был неглубоким: отец гнул голову, сын стоял во весь рост.
– Да, принеси лопату, ведро и веревку, – сказал отец. – Я стану копать, насыпать землю в ведро, а ты поднимай ее на поверхность.
– Ведро очень маленькое. Лучше я покопаю.
– Нет. Еще простудишься.
– Ну что же… – Иван вылез из ямы, но, вспомнив, что отец не спал ночью, сказал:
– Потом сменимся, чтоб все по-честному.
Отец глуховато буркнул в ответ:
– Ладно, – и добавил: – Лестницу вытащи. Мешает.
Земля была тяжелой, но Иван, занятый мыслями, легко поднимал ведро за ведром, думая: «Отец не заснул, потому что волнуется. Что же случилось?..»
Иван в сердцах бросил веревку, принес с улицы лестницу, опустил в погреб.
– Ты чего? – равнодушно спросил отец.
– Иди наверх! Моя очередь.
Молча поглядев на сына, отец отдал лопату и послушно вылез из ямы.
Иван присел на корточки, огляделся: погреб был не обшит досками, земля мрачновато-тускло светилась.
– Долго тебя ждать? – нетерпеливо позвал отец.
Иван копал землю на полштыка и думал: «Если по-честному, отец не виноват в аварии…»
Ожидая, пока сын насыплет землю в ведро, отец тоже думал: «А если бы в поваленных вагонах были люди?» За тридцать лет работы на транспорте он видел только одно большое крушение, еще до войны, когда состав с углем врезался в хвост воинскому эшелону и несколько вагонов были раздавлены. В грохоте и шуме, в огне пожара, ездивший тогда кондуктором – его состав стоял на соседнем пути, – он бросился к раненым и видел, как начальник эшелона, потеряв от ужаса голову, бледный, с трясущимся подбородком, с револьвером в руке, подбежал к смявшему вагоны паровозу и отчаянно закричал:
– Где машинист? Застрелю!
В окне паровозной будки показался старик-машинист с окровавленным лицом. Поглядев на поднявшего оружие, он отворотил кожаную, закопченную куртку – на груди огненно блеснул орден Ленина.
– Стреляй! Я машинист! – страшно сказал старик.
И начальник эшелона смятенно опустил револьвер. Как выяснилось, стрелочник неверно перевел стрелку.
Через полчаса отец спустился в погреб и сказал сыну, что будет лучше, если они вдвоем поработают: сняв землю, накидают ее в угол, а вытаскают потом.
Им не было тесно. Лопаты легко резали землю, через западню немного сквозило. Работа спорилась, и скоро отцу стало нравиться, как сын привычно держит лопату, как он хорошо, без напряжения дышит. Иван больше не хмурился, вот он улыбнулся своим мыслям, и отец, подумав, что сын, если взялся за дело, никогда не работает по конец рук, передумал говорить ему про аварию.
III
На другой день Иван слонялся по пустому двору. Отец с мамой, когда он спал, ушли на работу; друзья были в разъездах: Баженов в Челябинске, Каргапольцев в пионерлагере. Иван сел на скамейку, вспомнил вчерашнее и представил, как отец в черном кителе, с желтым флажком в руке едет на подножке сортируемого вагона, кругом тесная паутина железнодорожных путей, ждут свободной дороги готовые к отправлению поезда. Отец теперь дежурный по парку, с прежней работы его сняли – это Иван после возвращения с дачи узнал от матери и не удивился, но за отца было обидно. О его работе Иван никогда раньше серьезно не думал: вся рабочая жизнь отца была, как за тридевять земель – обыкновенная, незаметная, идущая сама собой. Только сейчас Иван понял, что работа железнодорожника без дисциплины никак не возможна. «Вот почему он так возмущался, – думал Иван, – когда я не держал слова». Отец работал то в день, то в ночь, а Иван был у него на рабочем месте всего два раза: отец включал и выключал рацию, говорил по телефонам, к нему без конца заходили солидные люди, что-то просили; и сыну в голову не шло, что отец мог ошибаться, переживать; за рабочим столом, на подножке вагона он оставался каменно-спокойным, в его узких, карих, глубоко запрятанных глазах не бывало смятения, но последнюю неделю отец плохо спал, работал в саду и на станции с мрачным ожесточением. Теперь Иван знал, что отца сняли с дежурных по станции – на этой работе он побыл меньше года – и вернули дежурным в парк; и он подумал, что отцу теперь кажется – все думают про аварию, говорят: «Челядин Михаил – плохой работник». Иван представил, как невыносимо отцу, и на душе стало больнее, чем вчера вечером, когда он подступил к матери: «Расскажи, что с папкой? Я ведь знаю, ты мне утром не все рассказала!» На что мать ответила: «Отца сняли. Трудно ему. Кто его, родного, поддержит, если не мы».
Иван в синей рубашке и защитного цвета техасах сидел на скамейке под двумя не закрывающими от солнца молодыми березами. Его морозило. «Не заболел ли я? – думал он, не понимая, почему холодно на солнечном месте. – Что со мной? Я не мог заболеть, я уже год не болел. Мне жалко отца. Он всегда работает. Завтра снова собирается погреб чинить, но это завтра, весь день впереди, а я на скамейке сижу».
Иван встал, оглядел готовые на слом ветхие, разваливающиеся сараи и быстро пошел со двора.
Скоро он был в электричке, мелькнуло за окном озеро, а другое Иван не успел заметить. Электричка с пронзительным, тоскующим криком ворвалась в лес, и с близких к путям тополей и берез сорвалось воронье, заколдованно, не махая крыльями, полетело вровень с вагонами.
На даче, как прошлый раз, Иван переоделся в старый, великоватый железнодорожный китель, но штаны и ботинки менять не стал.
Тем же гнутым гвоздем, во всех приемах подражая отцу, он открыл западню, лег на пол и, глядя в погреб, стал размышлять, какую работу сделать. Он решил на штык углубить землю, подровнять стенки. «А там еще надумаю что-нибудь. Батя завтра приедет, скажет: «Кто наработал?» Иван повеселел, а следом пришла мысль: «Может, я не то делаю?» – но желание работать приглушило тревогу.
Выйдя из дачи, Иван постоял у двери, поднял лежавшую у порога лопату, хотел было спуститься вниз, но решил прихватить с собой складной стульчик, чтобы отдыхать, не поднимаясь наверх. «Куда он запропастился?» Не найдя его, Иван взял попавшееся на глаза сосновое полено, бросил в лаз, следом полетела, хищно колупнув землю, лопата.
Первым делом Иван сел на полешко и подумал: «Никто не знает, что я тут, и я сделаю ремонт не хуже отца».
Сильным толчком ноги Иван вогнал лопату у задней стены. На этот раз земля показалась темной и крепкой. «Что в ней особенного?» – подумал он и взял в руку немного земли, потер между пальцами, поднес к лицу: земля пахла снегом и еще чем-то дурманящим.
– Слово-то какое – з е м л я! – сказал Иван и подогнал себя: – Однако, надо работать.
Он копнул несколько раз, а дальше помешал столб, который поддерживал потолок. Столб стоял посредине стены, а всего их было три и еще столько же у противоположной стены, в которой ярким фонариком горела отдушина.
«Столб мешает! Вот черт! – с раздражением думал Иван. – Если один убрать, ничего не случится». Столб был давно не крепкий, с белой накипью на стволе. «Надо его заменить», – по-хозяйски решил Иван и копнул под столбом, а потом, поддев плечом, легко отделил его от стены. Над головой скрипнуло, и в образовавшуюся еле видную щель просыпалось немного земли. Иван потревоженно огляделся, но больше нигде не сыпалось, и он снова взялся копать. Тут потолок стал тихонько подрагивать, оседать, словно кто сверху давил… Мальчик отбросил лопату, и на него начала медленно опускаться доска, средняя, самая широкая, следом в погреб просунулась матица – чугунная рельса, а потом шпала, и в разваливающееся отверстие рванулось все, чем был утеплен погреб: как в воронку посыпались шлак и земля. Иван отскочил к противоположной стене, где столбы еще держали быстро проседающий потолок, но падающие доски достали мальчика, таща за собой, надавили. Иван на миг задержал их плечами и тут увидел лежащее под ногами полешко; и когда от тяжести подогнулись колени, он, падая, успел подставить полешко торчком, и оно задержало движение самой тяжелой доски, которая прикрыла его, как щит. В погреб ринулся синий дневной свет. Иван резко и близко увидел продолжающий обваливаться верхний край подпольной ямы и закрыл глаза.
Он открыл их через минуту, когда земля перестала сыпаться. Спасительное полешко стояло крепко, доски не рушились. В застывшей тишине Иван потрогал рукой полешко, задумался, а потом, осторожно перевернувшись на бок, подтянул к подбородку ноги, замер и услышал, как неровно, с перебоями, бьется сердце.
Легонько, насколько мог, Иван продвинулся, вжался в земляную стенку затылком и примерился выползти между ней и краем доски. Он выползал, подрывая землю руками. Потом, найдя рядом крепкую щепку, обдираясь об острый край доски, стал резать сухую, плохо поддающуюся стенку погреба. Иван ни о чем не думал, не пугался, а, как умел, выручая себя, работал.
Он выполз ободранный, грязный от пота и сел под сухой, раскидистой, не давшей в этом году урожая яблоней, глядя в огромную щель под верандой, откуда с таким трудом только что выбрался.
– Натворил, – медленно, словно про кого-то другого сказал Иван и, горько усмехаясь, отряхнул землю с плеч и волос. – Что я скажу дома?
Когда он поднялся, его качнуло, но мальчик собрался и, опустив голову, пошел в дачу.
Дверь на веранду была настежь открыта. Он осторожно поставил ногу на пол и, боясь, что доски обвалятся, встал на колено, заглянул в глубину и застонал. Погреба больше не было: нижние, державшие шпалы и землю, доски лежали обрушенные. Сердце больно кольнуло, дернулось и заныло. «Надо что-то делать, – думал Иван. – Одному ничего не поднять…»
Иван переоделся, выхлопал техасы, отмыл ботинки и… пошел к станции.
Наступал вечер, но улочки дачного городка были свободны. «Значит, электричка не скоро, – думал Иван. – Но все равно надо идти, хотя на станции сейчас одиноко, редко кто пройдет из людей, только поезда один за другим».
От дачного поселка до станции Иван шел, как издалека. В заставленном скамейками маленьком вокзале кассирша через тусклое, плексигласовое окно сунула ему билет.
– Чего рано-то? – сказала. – Электричка через сорок минут.
– А, ничего. – Иван раздосадованно махнул рукой и, не захотев пережидать в пустом месте, вышел на улицу.
Станционный вокзал был тесно обсажен березами, акацией, мало где стояли скамейки. Под тяжело груженным составом гнулись рельсы. В кустах акаций за пустым столом семеро мужиков в черных, отгоревших на солнце рабочих спецовках устало, молчаливо курили. «Путейцы, – подумал Иван. – Работу кончили, дрезину ждут». Он захотел пить, вышел из кустов и остановился. Из колонки, наклонившись, пил воду знакомый по вчерашнему дню Сергеич. Теперь он был без кителя, в чистой кремового цвета рубахе, а вместо портфеля рядом с ним лежала корзина.
Иван отступил назад и спрятался за спинами сидящих на скамейке путейцев, которые все так же молча курили.
– Дак поедем? – сказал один из них, крепколицый, с белой волнистой шапкой волос.
– Как решили – на электричке, – ответил самый пожилой из рабочих, впалогрудый, сильно морщинистый.
– Не… Это вы ждите, а я не могу, – таинственно улыбаясь, ответил светловолосый. – Что подвернется, на том и уеду. Меня ждут. – И с той же улыбкой он оглянулся – нет ли с востока поезда?
Сидя на траве, Иван глядел на них с любопытством и завистью. «Отработали свое, и ничего у них не случилось, все в порядке, а у меня… Эх!» – и он опустил голову.
Среди берез с корзиной в руке мелькнул Сергеич. Иван отвернулся, подумал: «Начнет расспросы, а где папа? Почему один?»
Вдалеке скучающе гукнул электровозный сигнал. Светловолосый, кудрявый рабочий поднялся, вгляделся.
– Мужики, – довольно сказал он, – кажись, уедем! – и, подхватив чемоданчик, пошел на платформу. За ним поднялся морщинистый пожилой рабочий и другие, а из-за тесно растущих акаций встали еще трое, отдыхавшие на траве. Иван поглядел на их торопливые сборы и зашагал следом.
К посадочной платформе он прошел за скамейкой Сергеича, который, увлеченно копаясь в корзине, не обернулся.
Путейцы остановились напротив крытого жестью, приземистого вокзала. Среди них на голову возвышался тот светловолосый, богатырского вида парень, который молчаливо смотрел, как подвигается электровоз.
Электровоз, как большой человек в очках, негромко подошел к станции. Сразу за ним были две открытые вагонные площадки, а дальше три закрытых почтовых вагона.
– Надо узнать, – пробасил светловолосый, – куда идет? – и подошел к электровозу, из которого спускался на землю помощник.
Совсем молодой парень, помощник, по-хозяйски огляделся, прошел вдоль машины, присел и стал внимательно осматривать электровозное брюхо. К нему подошел светловолосый путеец. О чем они говорили, Иван не мог слышать, но когда помощник вернулся в электровоз, а светловолосый с довольным лицом возвращался к своим, Иван, обойдя рабочих, вышел ему навстречу.
– Куда поезд? – спросил.
– В город, – глядя поверх него, ответил путеец и махнул: – Айда, ребята! Садись!
Весело гомоня, рабочие стали влезать на первую за электровозом платформу. Иван тоже, как подсаженный, мигом взлетел за ними.
– Куда, пацан! – сердито окликнул его пожилой путеец. – Сюда нельзя!
– Можно! – громко, упрямо улыбаясь, ответил Иван. – У меня батя – железнодорожник!
– Оставь, – заступился за Ивана светловолосый.
Большинство из путейцев присели на корточки у невысоких железных бортов, держась за них, другие сели посредине платформы.
Электровоз солидно крякнул, а Иван облегченно вздохнул: до последнего момента ему казалось – придет машинист и прогонит его, а сейчас ему больше всего на свете хотелось ехать с путейцами, с этим высоким, светловолосым парнем, который, как только электровоз набрал ход, встал, и ветер сразу распахнул его черный, потертый на работе пиджак, вздыбил длинные, красивые волосы, а парень крепко держался на качающейся, гремящей платформе, и все глядели на него, одобрительно улыбаясь.
Лес по обеим сторонам пути был неподвижен, и Ваня мог разглядеть каждое дерево и тропинку. На повороте электровоз накренился, ветер сдул с платформы каменистую пыль, она больно хлопнулась Ивану в лицо, но он засмеялся довольно, а светловолосый остался стоять, только повернулся к электровозу спиной, и мальчик видел его всего – улыбающегося. Путеец перестал щуриться, глаза, большие, синие с опаленными ресницами, стали глубокими. Мальчик вспомнил отца с тревогой и тоже решил встать, но ветер упруго толкнул в грудь, не дал подняться. Платформу замотало, и Ваня опасливо ухватился за невысокий темно-коричневый борт. С самой близкой к дороге березы взлетела сорока и, без умолку, запаленно крича, полетела в глубину леса.
Поезд мчался с ревом и грохотом, и все было не так, как Иван много раз видел из электрички. Сосны стали суровей и выше, березы белее, трава зеленее, воздух пах первым снегом и еще чем-то дурманяще терпким. «Так пахнет земля», – вспомнил Иван. А впереди открывался простор, лес кончился, электровоз шел под уклон.
Иван еще раз попробовал встать, но ветер снова посадил его коротким, сильным толчком.
– А-ха-ха-ха! – во весь голос рассмеялся светловолосый путеец, и многие на платформе сочувственно поглядели на мальчика.
Сначала Иван обиделся так, что слезы выступили, но он сделал вид, что в этом виноват ветер. Мальчик крепко зажмурился, слезы выкатились, исчезли, а когда он открыл глаза, никто больше не смотрел на него, и он подумал, что рабочие взяли его с собой, потому что у него батя – железнодорожник. И не надо подавать вида, что обиделся. Надо встать, чтобы они видели. «Батя, – подумал Иван, – где-то хлопочет на станции, не знает, что я возвращаюсь».
Обида прошла. Ему нравилось, что никто больше не обращает на него внимания, и он снова думал, как хорошо тут на грохочущей, ровно раскачивающейся платформе.
Когда он поднялся, вся долина открылась ему, а озера, которые он из окна электрички никогда не мог хорошо разглядеть, блеснули, как большие, белые крылья. Взметая кнуты, пастухи собирали напоенный табун лошадей, отчаянно-весело купались мальчишки, узкой тропинкой с длинной удочкой спускался к озеру рыболов, а еще дальше, на малом увале, выкликая из воды сына, стояла женщина в белом платье. Старой пыльной дорогой в лежащий светлым полукольцом город спешили грузовики.
Электровоз вырвался из-за двух озер. Радуясь возвращению, машинист нажал на гудок. Чистый, высокий, могучий звук поплыл над долиной. Иван стоял на дрожащей, перекатывающейся под ногами платформе, откинув лобастую голову, узкоплечий, с растопыренными руками, и, задыхаясь от рвущего ноздри степного, вольного воздуха, смотрел на лес, на озера, на уходящий за увал табун лошадей.









