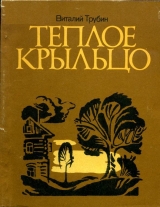
Текст книги "Теплое крыльцо"
Автор книги: Виталий Трубин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
КОГДА СОЛНЦЕ ИГРАЕТ
I
Недалеко от школы, в Восточном парке, за бурым от паровозной копоти столом сидит в дежурке отец, внося в журнал недоступные моему уму цифры. По рации говорят, что прибывает скорый поезд «Новосибирск – Одесса». Отец включает микрофон, и его голос озабоченно мечется над путями, поднимает вагонников. Не закончив разговора, те идут смотреть – все ли в порядке; и настороженный перестук их молоточков хорошо действует на сидящих в вагоне людей: они видят вокзал, школу, не зная, что я мечтаю уехать с ними, но для меня нет места даже в общем вагоне. Начался учебный год, а с учебой мне не везет. Громыхание тяжелых, с лесом и углем, составов, легкий бег электричек не мешает учиться всем, кроме меня. Я сижу за последней партой, наблюдаю жизнь станции, а в форточку доносится кочевой посвист – из соседних, казахстанских степей налетел ветер. Отцу тем временем говорят, что с вагонами ничего не случилось. Он довольно тянет: «Понятно-о», – и новый его приказ уносится в холод, а в дежурке тепло, на столе в законном месте фуражка.
Путейский с длинной рукояткой молоточек был главной моей дошкольной игрушкой. Я сбивал им сосульки, и они лопались, как сигнальные ракеты в небе, помогая ручейкам, рубил лед – это было время, когда мы пускали кораблики. Маленькие, хлопотливые дети железнодорожников, пока солнце не сядет, мы бегали по двору, нечаянно рвали кирзовыми сапогами толь на сараях, а потом, затихая, предавались разговорам.
Чаще всего мы играли на паровозном кладбище. Баженов был машинистом, а я пробовал колеса прикованных паровозов, и где бы я молоточком ни ударил по колесу – везде было хорошо и звонко.
В окно мне виден хвостовой вагон уходящего поезда – люди едут к теплому морю. Не раз мы с мамой смотрели железнодорожную карту, и я знаю, что поезд минует Уральские горы. Они видятся мне утонувшими в тумане, предутренние и безлюдные.
Зовущий гудок электровоза ворвался в класс и пропал в коридоре, а я вздыхаю и, отставший от диктанта, ниже опускаю голову, ожидая, когда можно будет заглянуть к соседу в тетрадь. Баженов сосредоточенно щурит глаза и, похоже, не дышит – он любит диктанты, – а я, когда контрольные, просыпаюсь засветло, долго лежу в постели, гляжу, как утренний свет бьется сквозь шторы, и размышляю, как бы не ходить в школу…
До конца урока еще двадцать минут, и я пытаюсь разглядеть книгу, из которой Валентина Петровна читает диктант, но учителя умеют держать книги для контрольных работ: никогда не увидишь их названия. Да и попробуй узнай, какой на диктанте прочитают текст: о школьной линейке, как сегодня, или о походе Ермака в Сибирь. (Его казаки бывали на нашей реке Тоболе – это рассказывал нам учитель истории Георгий Романович.)
Раньше, до своей болезни, бодро и молодо входя в класс, Георгий Романович мог зорко оглядеть нас, мальчишек, и неожиданно громко сказать; «Разве так стоят будущие солдаты!?» Мы, переминаясь, оправляли школьные гимнастерки, а он, шагая между рядами, командовал: «Пятки вместе, носки врозь! Гляди веселей!» Пацаны тянулись молодцевато, потому что походить на солдат было заветным желанием. Мы родились через пять лет после окончания войны, но играли в войну в настоящих касках: их еще переплавляли на наших сибирских заводах.
А неделю назад Георгий Романович сказал: «Соберемся в свободный день у реки». Мы сели в автобус и доехали до прибрежной улицы. Тобол – река на просторе. Он неторопливо течет среди полей и перелесков. В его песчаных берегах любят селиться ласточки, потому что над рекой высокое небо и чистый воздух.
Ветер студил разгоряченные лица. Георгий Романович вел нас берегом против течения. Я глядел в его сильную спину, когда он оборачивался, видел незагорелый лоб, карие с острыми зрачками глаза и думал: так во время войны берегом неизвестной мне реки он вел солдат. Впереди громыхало. Уже отпадали звезды, и деревья стояли голые на ветру, а вода в реке была темной и без тепла.
Георгий Романович говорил, что наш город в семнадцатом веке начал крестьянин Тимофей Невежин. Мы, как за туманом, видели кряжистых мужиков, валящих лес у Тобола. Топоры смачно впивались в стволы. Деревья падали грозно, а верхушки сосен были, как боевые шлемы. Городище окружили бревенчатым тыном и в поле без ружья не ходили. Землю пахали с боевым топором на пояске. По ночам выли на полную луну волки, плескались в реке метровые щуки, студено мерцали звезды.
«Вот о чем надо диктанты писать», – подумал я, а классная, строго глядя черными, слегка подведенными глазами, продиктовала:
– Школьную линейку объявили открытой…
Месяц назад, первого сентября, мы тоже пришли на линейку и стояли на школьном дворе, когда к нашему 6-му «а» классу, прихрамывая, подошел с незнакомкой директор. Он, опираясь на трость, сказал: «Вот вам новый командир». А класс молча оглядел полную с мелкими кудряшками Валентину Петровну.
Мы стояли удрученные: слухи о замужестве и отъезде нашей классной руководительницы, которую многие любили, подтвердились, только Каргапольцев, в широкой, плоской, похожей на аэродром кепке, радостно улыбался.
Валентина Петровна подошла к нему и негромко произнесла:
– Почему в кепке? Некрасиво, молодой человек. Вы на линейке.
Серега обиделся, поведя плечом, отвернулся. Тогда классная поднялась на цыпочки, протянула полную руку, но до кепки не дотянулась, потому что Каргапольцев отшатнулся и неожиданно баском сказал:
– Осторожно. Я мальчик нервный.
А потом, стоило Валентине Петровне отойти, он ушел с линейки и из окна спортзала махал мне с Баженовым этой кепкой. Да, вспоминается… но надо писать диктант.
Тут, осторожно скрипнув, приоткрылась дверь, и в класс вошла девочка. Русоволосая и сероглазая, в школьной форме с ослепительно свежим воротничком, вся какая-то ладная. Она стала у белой стены и улыбнулась. Класс восхищенно вздохнул. Валентина Петровна недовольно подняла брови. Дверь опять распахнулась, и к нам, легок на помине, твердо шагнул директор. Все с грохотом поднялись. Он усадил нас и со знакомой хрипотцой обратился к Валентине Петровне:
– Эта девочка будет у нас учиться.
В дверном проеме я увидел полу шинели, плечо с офицерским погоном. Девочка оглянулась на открытую дверь и кивнула, а я подумал: там ее отец, который переживает, что дочка пришла в незнакомую школу.
Директор по-хозяйски огляделся, достал из пиджака массивные, мы знали, наградные часы.
– Извините, ребята. Помешал.
Он попрощался, не дав нам подняться, и девочка осталась с нами.
Валентина Петровна, все еще не двигаясь с места, громко спросила:
– Как вас зовут?
– Мариша, – спокойно и, мне показалось, гордо ответила девочка.
– Как окончили пятый класс? – спросила Валентина Петровна.
– Отлично. – Мариша посмотрела в окно.
– Садись на вторую парту. – Учительница показала на свободное, рядом с Каргапольцевым, место, и Серега от гордости, на моих глазах, стал еще выше ростом.
– Мы пишем диктант, а вы пока осмотритесь, – сказала Валентина Петровна. – Продолжим работу. – Поглядев поверх наших голов, она перелистнула страницу.
Девочки сделали вид, что ничего не случилось, парни зашептались, а Махалов с Кухальским, наклонясь, пытались что-то узнать у новенькой, но Мариша не обернулась на разговор. Она сидела, сложив руки, как первоклассница.
За окном прозвенел маневровый электровоз. Валентина Петровна постучала любимым красным карандашом: «Надо писать диктант». Баженов, задумчиво вертя авторучку, пропустил начало предложения, и теперь мне не у кого списать, а девчонки, сидящие впереди, не подскажут.
…Я стою в коридоре, и никто до сих пор не знает, что в кармане у меня освобождение от учебы. Врач в поликлинике дал его сегодня утром, но почему-то с завтрашнего числа.
Не обращая на меня внимания, идет по коридору новенькая. Может, она и не знает, что мы одноклассники?
Опять звонок велит идти на урок. На историю или ботанику он зовет меня празднично и светло. На физику я иду с неспокойной душой, а для Баженова школьный звонок ничего не значит: Валерка успевает по всем предметам. Готовый к уроку, он идет по коридору впереди меня, а я колдую, чтоб меня не спросили.
Окна кабинета физики плотно зашторены, но я освободил их. Свет ворвался в класс, и я увидел, что новенькая посмотрела на меня с любопытством.
Маленькая, подвижная Римма Ивановна быстро раскрывает классный журнал, ее правый мизинец снизу вверх плывет по странице. Все замирает. Стараясь не смотреть в склоненное, озабоченное поиском лицо Риммы Ивановны, я шепчу: «Не меня! Не меня!»
– Челядин!
Для многих это звучит, как спасительный голос в лесу. Одноклассники начинают шептаться, рыться в сумках, перекладывать тетради. Они становятся далекими, незнакомыми мне людьми. Как одинокий, застигнутый непогодой путник, я иду между рядами.
– Не тушуйся, – шепчет Баженов и, видя мой прощальный взгляд, делает знак, что обязательно выручит, а Римма Ивановна, довольная своим выбором, ждет меня у доски.
– Челядин, знаете, что было задано на дом?
– Да, – вздыхаю я. – На прошлом уроке мы изучали массу Луны.
– Очень хорошо, – довольно произносит Римма Ивановна. – Вот и расскажи нам.
– О Луне? – перебиваю я.
– О массе Луны, – поправляет она и садится на подоконник.
– Да, – говорю я и вижу… новенькая смотрит на меня, а Каргапольцев что-то шепчет ей на ухо, и по ее переживающим глазам я вдруг догадываюсь: он говорит, что я по болезни часто пропускаю уроки, что в точных науках я не мастак, а вот по истории…
Меня бросает в жар. Я, наверное, меняюсь в лице, потому что класс странно глядит на меня.
«Но я не хочу, чтобы новенькая знала, что я болею! – мысленно кричу я. – Это унизительно – болеть! Я стесняюсь болеть! Если бы вы все знали, как тяжело, когда тебя не принимают всерьез, а девчонки глядят на меня, как на пустое место, потому что каждый год я болею больше, чем все они вместе. Ты предатель, Каргапольцев! Ты сказал ей то, что она не должна знать!»
Охваченный стыдом и отчаянием, я умолкаю на полуслове, забывая все, что и без того скудно помнил, и подавленно гляжу на учительский стол, где лежат раскрытый классный журнал, дневник, мел и указка.
– Плохо, Челядин! Вы опять не готовы! – с негодованием на лице сказала Римма Ивановна.
Я шел к своей парте и слышал, как она своим скрипучим пером ставит мне в дневник огромную единицу.
До конца урока я украдкой глядел на Маришу, видел, что Каргапольцев старается ей понравиться. Он тянул руку, вслух поправлял отвечающих. Кухальский с Махаловым тоже пытались разговорить новенькую, и на один вопрос она им ответила. В конце урока я уже не смотрел в ее сторону, а, наблюдая жизнь за окном, видел улицу Кирова, которой мне возвращаться домой. Следующий урок физкультура, но я освобожден от нее по болезни.
На лицах ребят оживление: через минуту они побегут играть в баскетбол, – это время Кухальского и Махалова. Они покажут себя – это не ускорение измерять. Нужен талант, чтобы пройти без фолов и забросить мяч.
– Челядин! – недовольно окликает меня Римма Ивановна. – Почему не записываешь задание?
– Так вы дневник не вернули, – бурчу я в ответ.
Дневник плывет от стола к столу. В глазах ребят я вижу участие, и новенькая смотрит на меня как-то странно.
Конечно, я наделал глупостей. Но о Луне я кое-что знаю. Когда луна бледна – это к дождю, когда светла – к хорошей погоде, ну а если она красновата – жди ветра. Дед рассказывал, что в новолуние надо собирать целебные травы, строить дом, а когда в небе ущербный месяц – время косить траву, рубить лес, садить морковку и редьку.
Выйти из школы, спуститься с третьего этажа на первый – минутное дело, но вдруг по моей спине пошел жар, а в затылке я почувствовал боль, будто меня ударили кулаком. Меня повело в сторону, я замер и, чтобы сосредоточиться, закрыл глаза и – словно передо мной раскинули карту с изгибами рек, пунктирами железных дорог, красными точками городов…
Потом я услышал стук каблучков, с трудом приоткрыл глаза. Мариша поднималась наверх, а за нею, мягко ступая, шел Кухальский. На лестничной площадке она оглянулась, но тут, как из-под земли вырос Баженов.
– Домой? – Он обнял меня и убежал в спортзал.
В полном одиночестве – самом тоскливом для меня состоянии – я спускался по лестнице. На втором этаже навстречу мне вышла Валентина Петровна. Она нахмурила черные брови и сказала обиженно:
– Что же, Челядин? На единицы скатился?
А я стоял, расстроенно думал, что получил единицу по физике и еще неизвестно, как я написал диктант.
– Почему ты молчишь? – Валентина Петровна глядела рассерженно.
– Мне нечего сказать.
– Иди домой, – сказала она. – И подумай. С твоим здоровьем надо лучше учиться.
– Что вы имеете в виду?
– Не маленький. Сам понимаешь.
II
Каждое утро ко мне на окно прилетают дикие голуби. Они будят меня воркованием, хлопаньем крыльев и шелестом, словно я иду по опавшим листьям. Сидя на карнизе, голуби чинно ждут, когда я угощу их хлебными крошками, но стоит задержаться, рыжий и самый крупный голубь начинает постукивать клювом в окно. В комнате рождается серебряный перезвон, что означает: «нельзя ли скорее». На самом деле голуби никуда не торопятся. Если их накормить, они надолго останутся на карнизе…
Рыжий голубь давно стучит по стеклу, а я не встаю, потому что от головной боли заснул только под утро. С кровати видно, как рыжий, возмущенный, косится через стекло. В его желтом зрачке недовольство, раздумье: оставаться или полететь на другую сторону. Я поднимаюсь, подхожу к окну. Когда я открываю форточку, голуби кокетливо, словно в испуге, машут крыльями. Хлебные крошки падают на обрамленный решеткой карниз, и птицы забывают, что я есть на свете.
За окном был пустынный двор, ветер гнал облака. Над городом парил коршун, а я вспоминал, как в детстве мечтал побыть птицей. Мне хотелось пролететь над школой, заводом, где работала мама, покружить над старицей Тобола и крикнуть с высоты сидящим на крыльце дедушке с бабушкой:
– Это я, ваш внук!
А дед, не удивляясь, сказал бы:
– Видала, Максимовна? Какая наша порода! В небе летаем!
Птицы на карнизе готовились улететь, а я лег на кровать, переживая головную боль.
В таком состоянии я обычно думаю о хорошем. Через две минуты в школе будет звон-перезвон и ребята перейдут в кабинет истории. Там их встретит Георгий Романович. Раньше, объясняя урок, он любил ходить по классу. Где мы только не прошли с ним… С гренадерами Суворова шли через Альпы, с казаками атамана Платова атаковали французов на Бородинском поле, и я помню, что на галопе пика невесома в руке.
Я думаю, что новенькой понравится Георгий Романович, и он обратит на нее внимание, спросит: «Откуда, Мариша, пожаловали?» – а когда узнает, что в нашем городе она впервые, то отвлечется от темы урока и расскажет ей, что декабрист Башмаков прожил у нас с 1838 по 1853 год и однажды во время воскресной обедни, когда дьякон славил царя и его семью, семидесятивосьмилетний декабрист громко, на всю церковь, закричал: «Знаем мы этих благочестивейших!» – и демонстративно вышел из церкви.
И еще… Георгий Романович обязательно скажет: «А где Челядин?» Но даже на его уроке я бы смотрел на Маришу. С этой девочкой мне хочется побывать везде, где я раньше бродил один, и не потому, что у меня нет друзей. Серега Каргапольцев, Валерка Баженов тоже иногда уходят со двора, и никто не знает, где они, но я догадываюсь, что Серега ходит в музей – изучать карту звездного неба, а Баженов в автобусе едет на аэродром… Сидя в траве, он смотрит, как взлетают самолеты АН-2, а потом в небе распускаются парашюты…
Во двор декабриста Нарышкина мы с Маришей придем вечером. За цветными занавесками старого дома будут теплиться лампы, и я скажу Марише: «Хорошо, что в доме живут люди». Возможно, в самую отчаянную метель ссыльный декабрист, первый хозяин дома, не беспокоя жильцов, в коричневом сюртуке проходит по комнатам или, войдя с мороза, задумчиво сидит у горячей печи, греет холодные руки и под утро скрывается светлой тенью.
Мы с Маришей увидим крутой спуск к реке, стоящий на приколе катер и дорогу, которая ведет к лесу.
Возвращаясь домой, мы обязательно постоим у самых высоких в городе серебряных тополей. Их посадил декабрист барон Розен. Каждую весну молодые, они терпеливы в любую погоду; только при великом морозе, когда даже воздух дрожит, деревья негромко кряхтят.
В дверь позвонили. Так, словно трогает гитарные струны, звонит Валерка Баженов. Он заходит в переднюю, снимает плащ, а потом виновато хлопает меня по плечу:
– Филонишь?
Я приглашаю Валерку в комнату. Он садится на диван и смотрит на меня с любопытством.
– Отучился? – говорю я.
– Истории не было. Георгий Романович заболел.
Мы молчим. Баженов подходит к книгам и, улыбаясь, смотрит на меня:
– Сегодня классная сообщила, что парни плохо написали диктант.
– А ты?
– Я четверку получил.
– Ну, а я, конечно, два балла?
Валерка кивнул. Его серые, татарского разреза глаза засветились по-озорному.
– Это из-за новенькой столько двоек. Парням не до диктанта было, на девчонку пялились!
– И ты пялился, – сказал я.
– Да, – согласился Баженов. – Вместе с тобой.
– Я-то в твою тетрадку глядел.
– А чего ты пару схватил? У меня-то четверка. – Баженов, словно боясь кого разбудить, засмеялся тихонечко.
– Правда, она красивая? – сказал я Валерке.
– Кто?
– Девчонка эта. Новенькая.
Баженов подошел к окну. В небе набирали высоту голуби. Ветер сдирал с деревьев листву.
– Лишь бы дождя не случилось.
– А что? – сказал я.
– Завтра соревнование. Шестые и седьмые классы бегут на четыреста метров, а девчонки – на двести.
– И Мариша придет?
– Наверно… Она же теперь в нашем классе.
Вечером отец с матерью сидели на кухне, обсуждали мои дела: мама говорила с врачом, и он сказал, что анализ крови показал ревматическую атаку. В понедельник мне ложиться в больницу, а я думаю, что Мариша придет на соревнование: я должен увидеть ее, хотя пропускающему занятия школьнику неудобно бывать на людях.
III
Раньше мир думал, что вокруг Земли вращаются семь планет, и каждый день недели земляне посвящали определенной планете. Воскресенье считали днем солнца, но сегодня над городом серая хмарь, и люди, которые идут мне навстречу, недовольны этим.
Ночью восточный ветер сорвал с тополей последние листья. Самый вольный, он налетает, как орда из дальних степей. Тогда на улицах круженье, а телеграфные провода гудят, как земля под копытами. Западный ветер – с озерного края. Летом с запада часто приходят грозы и, отгремев, теряются на востоке.
Непогода сегодня с севера, и ветер нанес с завода запах окалины. Многотрубный, как пароход, он работает круглые сутки, но мамы сейчас нет на заводе: у нее выходной. Она, наверное, уже проснулась. На кухонном столе я ей оставил записку: «Ушел подышать. Оделся тепло». На самом деле, на мне только лыжный костюм и кеды.
У школы толпится много людей. Покрытая асфальтом дорога размечена краской. Похожий на борца, с обкусанным судейским свистком на груди, физрук Анатолий Дмитриевич суетится среди ребят, рубит воздух ладонью. Откуда-то появилась Валентина Петровна и заспешила к нему. Я отвернулся от нее и стал среди молодых, в мой рост, акаций: они растут с той и другой стороны улицы. «Где же Мариша?» Никто не видит, не замечает меня, а мне хочется быть с ребятами, вместе с ними слушать наставления физрука.
Пахнуло дождем – это сменился ветер. С озерного края наплывают на школу тучи. Баженов глядит на них, как на затобольских «пиратов» – заречных шпанят, с которыми мы не раз дрались на Бабьих песках. Серега Каргапольцев, длинноногий, разминается особенно тщательно, а потом легонько трясет то левой, то правой ногой, разгоняя по телу кровь. И тут я вижу – не я один ожидаю Маришу. У школьных ворот на скамейке сидит Павел Махалов. Всем своим видом он говорит, что если Мариши не будет, соревнование не имеет для него никакого смысла. Кухальский, я заметил, не подходит к нему. Чтобы не терять тепло, он не снимает похожий на кольчугу свитер; вокруг него столпились ребята; и по их развеселым лицам я понял – разговор у них не имеет отношения к бегу. Но вот физрук подымает вверх руки и громко хлопает – разговорам конец! Сигналит его судейский, видавший виды, свисток. Школьники рассыпаются нестройно и многолико. Физрук хлопочет на белой линии, выкликает фамилии. Тучи проседают все ниже. Из окон домов родители смотрят на своих сосредоточенных на старте ребят. Физрук подымает руку с красным флажком, и тут я вижу, как на соревнование спешит Мариша: она в осеннем плаще и коричневых туфельках. Мариша перебегает трассу, замирает среди болельщиков, потом встает на цыпочки, словно она потеряла или провожает кого. Наши глаза встретились; и она посмотрела так, словно знает про меня то, чего я о себе совсем не знаю и не догадываюсь. Сердце перестало сбиваться; я почувствовал легкость, будто она сняла с моей головы тяжелый обруч; и, сделав два шага навстречу Марише, я встал среди готовых к забегу ребят. Физрук крикнул:
– На старт! Внимание!
Я стянул через голову лыжную куртку, остался в спортивной майке, а куртку бросил на куст акации, за которым только что прятался.
– Марш! – Физрук бросил к земле флажок, и я помчался, а все кругом забылось и потеряло реальность. Словно я и не жил совсем, и мне отпущены первые в жизни четыреста метров, и я не знаю, сколько надо бежать, чтобы преодолеть расстояние. Я бежал, видя незнакомые спины, колени собственных необыкновенно легких ног, кто-то дышал с загнанным хрипом… А может, это мое дыхание? Потом я увидел, что впереди только два знакомых мне человека, но кто? Бежать – было одно, что я мог сейчас. На повороте ребята оглянулись, и по тому, как у них резко заработали локти, а головы стали подниматься над землей все выше, я понял, что не я лечу по воздуху, а они. И словно кто заголосил в лесу… и подбросили веток в костер, а опалило меня. И сразу я услышал топот ног за спиной, но не меня догоняли, а я гнался за кем-то призрачным впереди. Крики девочек и ребят доносились, как из ночной темноты, где бьются грозовые зарницы.
Финишная ленточка тронула меня, как принимают забытого, когда-то знакомого человека, а потом казалось, что весь воздух заглотили гигантские трубы работающего завода. Дышать было нечем, руки и ноги дрожали, сквозь потную пелену я видел грозное, с широко расставленными глазами лицо Валентины Петровны. Я сидел на скамейке у школьных ворот, а она стояла надо мной и кричала:
– Ты что? Ты в своем уме? Спортсмен объявился!
Мимо нас, уже в куртке и шапочке, прошел Махалов и, глядя мне в глаза, сказал:
– Знаешь, сегодня мне бежать не очень хотелось.
Домой мы возвращались втроем: Баженов, Каргапольцев и я. Валерка в забеге стал третьим. Второе место занял Махалов. Мы шли по улице Кирова, и я говорил ребятам, что по календарю сегодня день Солнца.
IV
Железнодорожная больница на окраине города, а за нею Рябковский лес.
Я иду по лестнице за медицинской сестрой, и это совсем не то, что было пять лет назад, когда по старой больнице меня вели на койку от палаты к палате: в первой спали в кроватках годовалые дети, в другой были мои ровесницы, и девочки в ночных рубашках стеснительно-осуждающе на меня смотрели, а в палате для девушек мне сказали: «Жених наш пришел!» Дальше, помню, я шел отчужденный, насупленный. На железных кроватях лежали старушки, лица и руки которых были цвета мокрого песка. Одна, худая, похожая на учительницу, свесив с кровати тощие, с темными пятнами ноги, сказала: «Какого к нам мальчика привели!» И старушки посмотрели на меня, словно я только народился на свет.
А дальше в палатах спали, читали газеты, разговаривали железнодорожники. Они смотрели на меня, как на давно знакомого, и всегда отвечали на мое «здравствуйте».
Со здоровьем у меня по-прежнему плохо, но я говорю себе, что все хорошо…
В просторном холле два стула, кресла, застекленные шкафчики.
– Посиди здесь, – сказала сопровождающая меня сестра и вернулась с дежурной, на которой был облегающий фигуру белый халат и косынка.
Дежурная медсестра села к столу, достала бумагу. Потом я ответил: кто я, откуда…
Дописав еще несколько слов, она сказала:
– Пойдешь в пятую. Там свободны две койки. Занимай, какая понравится.
Палата была наискосок от стола медсестры. Я открыл дверь. И вдруг из светлой глубины мне сказали:
– Заходи, Ваня.
За время, что мы не виделись, морщинки на лице Георгия Романовича стали похожи на шрамы, а выпуклый лоб на висках оказался вдавленным, словно Георгий Романович долго шел по дороге и эти впадины на висках выдул ветер.
– Ну, что ты стоишь? – сказал он мне.
Я несмело подошел к кровати. Георгий Романович протянул мне руку:
– Вот где встретились.
Никогда не думал, что буду лежать в больнице со своим любимым учителем, и тумбочка у нас теперь одна на двоих, и кровати рядом.
– А я и не знал, что вы в больнице!
– Три дня уже здесь. – Он улыбнулся. – Но завтра в хирургию переведут.
– Вот как, – расстроенно сказал я и, помолчав, прошептал: – Что у вас болит?
– Ничего серьезного. Расскажи лучше, какие новости в школе.
– Все по-старому. Только… К нам в класс, вы, наверное, знаете, новенькая пришла.
Георгий Романович вдруг крепко сжал губы, а его небольшой, повыше скулы, рубец покраснел. Через секунду-другую учитель, словно пережив боль, облегченно вздохнул:
– Новенькая, говоришь?
– Да, – сказал я растерянно.
– Здесь, Ваня, – глаза учителя посветлели, – хорошие врачи, а соседи по палате – интересный народ. – Он кивнул на спящих людей: один, очень седой, лежал на боку, протянув руку с разжатыми пальцами, другой спал лицом к стене.
– Воевали, – сказал о них Георгий Романович.
– А-а, – уважительно протянул я и заговорил шепотом: – Вы поправитесь. Наша больница железнодорожная, а железнодорожников хорошо лечат.
– Я не железнодорожник, – улыбнулся учитель.
– Зато наша школа железнодорожная, а вы нас учите…
Георгий Романович остановил меня:
– Лучше поговорим о другом. Я в прошлую пятницу на кружке хотел вам диафильм показать.
– Да-а? Жалко, что вы заболели… – Я горько вздохнул. – Но меня все равно бы не было.
– Ничего. – Поправив подушку, Георгий Романович неожиданно вполголоса стал рассказывать фильм, а рассказывать он любил.
Я сидел, облокотясь на спинку своей кровати, и, как наяву, видел пехотные каре на Сенатской площади, а от конной гвардии, готовой к атаке, меня закрывал вздыбленный «Медный всадник». Над ним плыли серые, тягучие, как смола, облака. Леденил ветер, но на этом, пришедшем с моря, ветру, дышалось свободно. Глядя по сторонам, я заметил, что люди готовятся встретить огнем кавалерию, и вместе с ними я подгонял амуницию, вслушивался в слова команд. Конная гвардия топотала на другом конце площади, и вперед уже выезжал командир эскадрона: конь под ним был вороной, а на черной кирасе конногвардейца червонел двуглавый орел.
– Эскадрон! – ветер донес пехоте слова команды. – Рысью! Марш! – Кавалерия с тяжелым, все нарастающим грохотом тронулась в нашу сторону. Могучие, злобные на морозе кони, набирая ход, прижимали уши, и скоро конногвардейцы перестали их сдерживать.
– Пли! – Пехотные каре окутались дымом, и многим скакавшим всадникам показалось, что земля разверзлась и они падают в глубокую яму, из которой не выбраться.
А потом в толпе разбитых картечью солдат на узкой Галерной улице я видел барона Розена, того самого, которого сошлют в мой город.
Не закончив рассказа, Георгий Романович закрыл глаза и сжал губы.
– Позвать врача? – испуганно сказал я.
– Со мной все в порядке, – громким шепотом произнес Георгий Романович.
Седой человек, сосед по палате, проснулся и сел на кровати, опустив мосластые ноги. У него были клочковатые брови, глаза с красными, как от бессонницы, веками.
– Извините, Семен Петрович, – сказал учитель. – Разбудил…
– Да чего там, – вяло потянулся Семен Петрович и снова поглядел на меня. Две крупные морщины делили его широкий лоб, но седой человек не хмурился, а глядел так, словно я взял у него нужную в хозяйстве вещь, вернул, но положил не туда, где брал.
– Кто такой? – спросил он.
– Челядин, – назвался я.
– Михаилу. Челядину кем доводишься? – спросил Семен Петрович и обул тапочки.
– Сын.
– А… Я тебя знаю. У отца в дежурке видел. Таким еще… – Семен Петрович распростер над спинкой кровати большую ладонь и обнажил в улыбке редкие зубы. – Отец в Восточном парке все так же дежурным?
– Ага, – сказал я.
Семен Петрович разбудил соседа:
– Чикин! Девки под окном весь снег истоптали, а ты все спишь?
– Так не выпал снег-то. – Чикин поднял с подушки кудрявую голову и прищуренными глазами оглядел нас так, будто каждому хотел помочь.
– Здравствуйте, – сказал я и улыбнулся – таким добрым показалось его лицо.
– Привет честной компании! – Чикин почесал затылок. – Однако, снег будет.
– Ты еще неделю назад пророчил, – шутливо усмехнулся Семен Петрович.
– Подвел барометр! – Чикин хлопнул себя по больным коленям.
– Вот у нашего попа был барометр! – Семен Петрович лег и поглядел в потолок. – Помню, два месяца дождь не шел. Поп собирает в селе крестный ход, и всем миром идем бога просить… Старухи на поле плачут, стоят на коленях, и… как в небе загромыхает, откуда что взялось! Ветер бабам чуть подолы не оборвал. Дождь хлынул – боже ты мой! Поп этим дождем к богу все село обернул. Через месяц только прознали, что у попа в доме на стенке барометр. По нему и определял, когда у бога погоду просить!
– Интересно. И куды ж вы того попа девали? – спросил Чикин.
– Я когда с гражданской пришел – попа в селе уже не было.
– Да, в бедности жили, – загрустил Чикин. – Мне в двадцатом году десять лет было. Посылает меня, значит, папаня в лавку, а штаны у меня одни и на коленях протерты до дыр, которые зашить нельзя. Ну, я и одел штаны задом наперед, да в лавку. Иду… Прореха, конечно, сзади. Захожу в лавку чин-чинарем, а тут девки за мною входят… На смех подняли!
Улыбнулся Георгий Романович, а мы с Чикиным рассмеялись. Дверь отворилась, и медсестра сказала:
– Тише, больные!
Мы замолчали. Из коридора доносились приглушенные закрытой дверью шаги.
– Нет ли у вас чего почитать? – спросил я Георгия Романовича.
Он достал из-под подушки книгу в стареньком переплете. Я открыл ее наугад… В заснеженном поле на кауром жеребце скакал воин бородатый и черноглазый, с заботой на смуглом лице – таким бывает мой папка, когда его ночью зовут на работу. За спиной гонца на красном ремне висели богатый, изукрашенный бирюзой колчан со стрелами и лук с натянутой тетивой. Из-под тегиляя – кафтана со стоячим воротником и короткими рукавами гонца виднелся край шубы, но он, все равно страдая от ветра, скакал, втянув голову в плечи. Год назад папка тоже ходил с бородой, но мама велела ему побриться.








