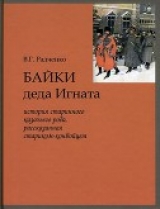
Текст книги "Байки деда Игната"
Автор книги: Виталий Радченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
БАЙКА НЕ КОНЕЧНАЯ,
ибо байкам конца не бывает, как нет конца тому чуду, что называется жизнью

Свободными осеннее-зимними вечерами наше семейство собиралось вокруг стола на «священнодействие» особого рода – громкие читки любимых книг – Тараса Шевченко, Ивана Котляревского и, конечно же, Николая Васильевича Гоголя. Этого именовали по имени-отчеству и читали его по-русски, как и случавшиеся подчас басни Крылова или сказки Пушкина. Котляревского и Шевченко же – по-украински.
Пока мы, внуки и внучки были дошколятами, главными чтецами были мои отец и мать, потом пришла очередь старшим детям показывать свою грамотность, а заодно и посоревноваться друг с другом. Для нас украинская «мова» была трудной, но если чтец на чем-то «спотыкался» – ему дружно подсказывали, ибо тексты эти в большинстве своем знали наизусть – вирши Тараса Шевченко, и «Наталку-полтавку» или «Москаля-чаровника» Котляревского. Гоголя читали выборочно – «Тараса Бульбу», «Вия», другие его повести из народной жизни.
Все это составляло «круг чтения», неоднократно повторявшийся. И каждый раз все воспринималось с восторженной непосредственностью и сопереживанием. Волшебному слову любимых писателей верили свято – Тарас Бульба был для нас более реальным, чем, допустим, узнанный позже Богдан Хмельницкий, а уж о подлинном существовании дивчины Наталкиполтавки, или тех же кузнеца Вакулы, Рудого Панька – и говорить нечего.
Продолжались такие посиделки до глубокой дедовой старости и ушли вместе с ним. Да и сама жизнь потом стала иной, семейное бытование перешло в другое качество, на другой фасон, как говаривал наш незабвенный дедуля. А в те памятные вечера семейное чтение частенько разбавлялось дедовыми байками, которые старый Игнат любил и, как я теперь понимаю, умел рассказывать. Это был еще один «круг», но не чтения, а живых рассказов – про то, «что было», и про то, «как было»…
Часть из его баек я запамятовал – видно не врезались они в мою память, а жаль: думаю, что моим внукам было бы не вредно услышать кое-что из мною забытого…
Я тоже любил и люблю пересказывать дедовы байки, и чего греха таить, порой, заполняя забытое, кое-что добавляю «для связки слов»…
Самая же первая моя собственная байка связана с путешествием – событием «эпохальным» для пацана-хлопчика в неполных шесть лет.
Как-то светлым летним днем у нас, в станице Тимашевской (теперь это город – знай наших!) появился дедуля, привезший на собственной телеге кое-какие припасы. Я, понятное дело, крутился возле лошадей, с восторженным любопытством наблюдая, как они подвижными мягкими губами подбирают просыпавшийся на землю овес, время от времени поднимают головы и одобрительно по-храпывают. У коней были большущие щеки, смахивающие на рыбьи жабры, и я все стремился заглянуть под них, ожидая увидеть там розовые пластины, как, допустим, у тех же сазанов («коропов»).
В семье у нас любили рыбу, она регулярно приобреталась, большей частью еще живая, и я непременно присутствовал при ее разделке… К моему разочарованию, жабер, подобных рыбьим, у коней не было, что, однако, не расхолаживало моего интереса и уважения к этим исключительным созданиям. Кстати, я очень долго не мог понять, почему такие большие, сильные, красивые и умные животные слушаются человека – любого, даже порой неказистого и совсем уже далекого от совершенства.
Не помню деталей, как решался вопрос о моем путешествии к деду на хутор – то ли сам дед попросил отпустить меня «погостевать», то ли я родителям поднадоел своими шалостями (и так бывало), но только то поистине историческое решение было принято, и в достопамятный день ранехонько, на самом-самом рассвете, меня, еще недоразбуженного, закутанного в нечто теплое, усадили рядом с любимым дедулей, и мы тронулись…
Рассказывая впоследствии об этом путешествии – а я периодически по просьбе домашних повторял свое повествование в течении многих лет – я разбивал свой рассказ на эпизоды, а между ними неизменно повторял: «и это, значит, мы едем…», подчеркивая тем самым непрерывность нашего с дедом движения. И домашние, когда хотели послушать мою байку, просили: «А ну, расскажи, как это вы с дедом, значит, ехали!».
Итак, «значит, мы – едем»… До восхода солнца было прохладно. По низинам кое-где еще не растаял голубоватый туман, деревья и кустарники, росшие вдоль дороги, были неприветливо нахохлившимися, сонными.
Первое, что я увидел для себя необычное – огромное водное пространство – плавню. Не заросшее зеленым травяным лесом заболоченное место, где и воды-то никакой не видно, а покойно лежащее на земле сизоватое зеркало, в котором отражалось небо. По зеркалу кое-где, словно мухи по потолку, неспешно двигались птичьи стайки… Потом у самой закраины этого водяного чуда стали появляться остроносые головы цапель и, подхватив со дна нечто невидимое, снова замирали в гордом спокойствии. Откуда-то прилетели маленькие серенькие птички, шустро забегали по самому берегу, промышляя что-то свое, непонятное…
Из-за горизонта поднялась горбушка солнца, пока без лучей, и тут же скрылась в узкой полоске далеких сиреневых облаков, а через какое-то время оно огромным яичным желтком выкатилось из-за туч. Постепенно приобретая свой обычный вид, солнышко наполнило мир светом и благодатной теплынью… Плавня вдруг стала голубой, а потом и вовсе синей, и на ее глади уже не просматривались столь резко птичьи стайки.
Вдруг мы увидели рыбака, поднявшегося из-за прибрежных кустов.
– Бог помочь! – сказал ему дед. Рыбак пробормотал что-то, видно поблагодарил, и потянул за веревку, поднимая «хватку-паук». Через мгновение в сетяном квадрате затрепетала серебристая рыбка, а с самой сетки и с дуг этого нехитрого рыболовецкого снаряда дождиком посыпались водяные капли… Дорога стала уходить от плавни, и это водяное чудо вскоре скрылось за стеной кукурузы, а затем непонятного для меня тонкостебельного, но столь же высокого растения с пышными «хвостами» наверху.
– Веничи, – объяснил мне дедуля. – Как поспеют, то семена пойдут курям и гусям, а стебли – на веники и метлы. Вскоре мы выехали на открытое пространство. На хлебном поле шла косовица. Обычную косилку я видел и раньше – на сенокосе возле тимашевской мельницы. Часть полей косили ручными косами, часть – конными. По малости лет я не вникал в их устройство, тем более, что внешне они не производили особого впечатления. Тут же я впервые увидел жатку-самосброску. Это было нечто! Следом за конями, если не сказать, впритык к ним, на ажурных решетчатых «крыльях» низко над полем летело некое рукотворное сооружение.
Дед остановил лошадей, и я с трепетным любопытством смотрел, как скошенные колосистые стебли сначала попадали на деревянную платформу, а потом сгребались с нее теми «крыльями» и ложились на поле ровными рядами. И пока одно «крыло» делало эту работу, другие слаженно поднимались кверху, описывали дугу и по очереди точно попадали на ту же площадку, где накапливались настриженные временем стебли. Машина была живая! Вот она остановилась, сидящий на ее отлете парень соскочил с сиденья, что-то поправил в механизме жнейки, и она, застрекотав, взмахнула «крыльями»-граблями и пошла вперед. Чудесная «механизма»!
Потом мы видели сноповязку, и хотя дед осматривал ее более внимательно, чем жатку, мне она «не показалась»: из темного зева машины выскакивали связанные веревочкой снопы, ну и что? Ее секреты были спрятаны где-то внутри, на жатке все было – вот оно, смотри и удивляйся! Мне потом не раз снились кони с пучком именно таких ажурных крыльев, как на жатке-самосброске.
Вот так, значит, мы и ехали…
Я долго помнил чередование полей, мимо которых мы проезжали, что именно на них произрастало: свекла, овес, конопля и тому подобное. Время подходило к обеду, становилось жарко. Дедуля облюбовал лужок возле дороги, мы свернули, остановились. И пока он распрягал лошадей, я, естественно, обежал поляну, осмотрел ее закоулки. У дороги раскинулась гряда чертополоха, с громадными яркими цветами, которые дед почему-то называл «китайскими розами». Эти цветы трудолюбиво обрабатывали шмели. Вдали голубел цикорий – «петров батыг» – вокруг него роились маленькие бабочки, яркие и неуловимые…
На границе лужайки росли кустики, за которыми простиралось скошенное поле, и я приметил, что какая-то птичка впорхнула в те кустики… Я немедленно побежал туда, и когда приблизился к заветному месту, оттуда вылетела птаха и низом ушла в сторону. Раздвинув кустик, я увидел гнездо, обильно заполненное рябыми круглыми яичками. Я тут же радостно поделился своим открытием с дедом. Тот, бегло взглянув на гнездо, расправил кустик, скрывавший птичий домик, и сказал, что здесь живет «перепелица», и беспокоить ее нельзя – грех…
Обедали мы, лежа под телегой. У самого колеса росла какая-то трава – дед сорвал ее пучок, и чуть примяв, дал мне понюхать:
– Вот это – рута… или мята, чуешь, как пахнет?
Запах той «руты-мяты» я запомнил навсегда… Переждав в тени самое жаркое время, мы после обеда снова тронулись в путь. Стали попадаться встречные возы. Если они были гружены соломой или сеном, мы отъезжали в сторонку, на обочину, и огромная мажара, величиной с полдома, торжественно проплывала мимо. Иногда навстречу мчалась порожняком какая ни то легкая гарба, за нею поднималось облако мелкой въедливой пыли – дед правил на ту сторону дороги, откуда тянуло ветерком, и мы пережидали, пока та пыляка не уляжется. Останавливал он лошадей и тогда, когда какая-либо из них начинала справлять свою нужду – дед считал, что естественные надобности худоба должна справлять в спокойном состоянии… Вот мы въехали в первую попутную станицу, и мне показалось, что здесь просторнее, чем в поле: там к проселку чуть ли не в притык подходили посевы, подчас можно было рукой дотронуться до стоящих стеной подсолнухов, кукурузы, того же прядива (конопли). Здесь же от одной стороны улицы до другой было широкое поле, за росшее бурьяном, среди которого виднелись две-три дорожные колеи. Хаты стояли в глубине дворов, что еще более расширяло уличное пространство.

Возле одной «лиски» (плетня) стоял, оперевшись на «гирлыгу» (кривую палку), седобородый старик. Дед Игнат остановил коней, поздоровался с тем стариком, стал расспрашивать об общих знакомых – кто живой, кто «вмэр», кто здоров, кто не очень, и тому подобное. Возле ног станичника крутился пушистый щенок, точь-в-точь такой же, какого я видел у нас в Тимашовке, в соседском дворе. «Может, братишки, – подумалось мне. – А может, тот самый… Только как он оказался впереди нас?».
Дед стеганул лошадок и мы поехали дальше. И снова – поля, огороды, посевы. Вдруг возле дороги откуда не возьмись – заяц. Огромный, рыжевато-серый. Дед поднялся в полный рост, закричал: «Ату его!», присвистнул. Заяц метнулся в сторону, в другую и выскочил на свежевспаханное поле. Там, однако, не залег, а зигзагами помчался все дальше и дальше. Освещенный солнечными лучами, он яркой серебристой точкой долго был различим на черно-бархатном фоне пашни. Но вот эта искорка, наконец, погасла – видно, косой нашел-таки место, достаточно для него безопасное. Дед покачал головой, похвалил дичину, мол, хороша, и сел на свое место…
Под конец пути я, укаченный тряской ездой и преисполненный новыми для меня впечатлениями, стал подремывать. К дедову двору мы подъехали затемно. Меня, спящего, сняли с гарбы и унесли в дом. Помню слышимый сквозь дрему незлой лай собак, ворчливый дедов голос:
– Ну, что разгавкались? Своих не признали? На этом можно было бы и закончить рассказ о том, как «мы, значит, ехали», но последующие события являются естественным продолжением всего, что произошло в те памятные дни, и без их освещения будет не совсем ясно, а зачем, собственно, ехали, ради чего? А посему, что же было, значит, дальше?
А наутро я окунулся в воистину сказочное царство дедушкиного двора. Он не был хутором в прямом смысле этого слова – это был большой жилой участок, расположенный чуть поодаль от основного станичного массива. Между ним и ближайшими садами и хатами на полверсты простирался неровный луг, кое-где заболоченный и вероятно по этой причине незастроенный.
С одной стороны двора стоял довольно солидный дом, к которому почти вплотную подходили хозяйственные постройки – коровник, конюшня, телятник, курятник, крольчатник, небольшая кузня, неровная земляная куча, поросшая бурьяном (как выяснилось, это была домашная «цэгельня» – ныне не действующее кирпичное производство), и далее в углу – какой-то мусор, навоз и тому подобное… Напротив хозяйственных построек – большой навес, крытый камышом, а где и просто соломой, под которым с одной стороны были уложены еще не обмолоченные снопы, а с другой стоял нехитрый крестьянский инвентарь.
За этим навесом и небольшим плетнем перед самым домом простирался огород и громадный сад, прямая дорожка через который выходила к перелазу через капитальный деревянный забор – за ним на пустой луговине находился большой колодец с «журавлем», рядом с ним – несколько корыт для скота. Еще один колодец – «криница» находился в саду, но вода в нем была горьковатой и годилась только на полив, за «сладкой» же водицей лазили через перелаз, что было не совсем удобно: вода расплескивалась, и возле перелаза обычно было сыро. Именно тут я увидел огромную пучеглазую лягушку. Взять ее в руки было страшно, и я попытался с нею пообщаться с помощью длинной хворостины, но животина не захотела знакомиться, а, сделав два-три скачка, скрылась в бурьяне. Однако на следующий день я ее снова встретил у перелаза – здесь она охотилась на мошек, слетающихся к лужице.
От колодца разбегались торные дороги и тропинки – в станицу, куда-то в поле. Одна из них была мне хорошо знакома: по ней мы частенько ходили «с поезда», и само собой – «на поезд», когда приезжали в гости к дедушке и бабушке. Дорожка шла прямо, не извиваясь, к краснеющему вдали станичному зданию, мимо большого древнего кургана с гордым именем «Высокая могила». Этот курган, по рассказам деда, никогда не распахивался. Возле него проходили скачки, а в старину останавливались чумацкие обозы.
Мы как-то с дедом поднимались на его вершину. На неровном плоскогорье росла невысокая травка и гулял ветерок. Дед оглядывал степные дали, я же с интересом разглядывал курчавых овец, пасущихся по косогору – в дедовом хозяйстве этой худобы почему-то не было…
За воротами, которые были устроены между навесом и навозными кучами, простирался небольшой лужок, где обитали разномастные и разноразмерные кузнечики – «коныки», как именовал их дедуля. Были тут крупные, серые, с розовыми, а порой синими крылышками, встречались зеленые и коричневые – поменьше, а иногда я натыкался на стайку крохотных «коников», весьма шустрых и трудноуловимых. Погоняться за ними для меня было огромным удовольствием, и я доставлял его себе по два-три раза на дню. «Коники» своеобразно стрекотали, и я, приглядевшись, понял, что они не поют, а водят большими задними ножками по ребрам, извлекая таким образом неподражаемый стрекот.
Изучая закоулки, я обнаружил, что соломенная крыша навеса со стороны сада доходила почти до самой земли, и на нее легко было взобраться. Я тут же воспользовался этой возможностью и был вознагражден приятным открытием: на пологую крышу с растущих вдоль навеса деревьев падали яблоки и огромные груши, которые дед называл «дулями». Эти «дули» застревали в соломе, я их оттуда извлекал и с удовольствием грыз, наслаждаясь их сочной сладостью.
Другой запомнившийся фрукт – тоже неимоверно сладкий – крупные белые сливы, добыть самому было невозможно – они зрели высоко и рядом с ними не было ничего, что могло бы мне помочь к ним добраться. Ими меня угощала младшая сестра моего отца, а моя, стало быть, тетя, она же – Настя, она же моя крестная. Ее жених – Кирилл – являлся обычно к вечеру, о чем-то таинственно шушукался с Настей… Во время Великой Отечественной он дослужился до капитана, участвовал в отвлекающем парашютном десанте при освобождении Новороссийска, где был тяжело ранен. Об этом десанте историки почему-то не вспоминают, отдавая всю славу этой победной операции одним морякам, что, по рассказам дядьки Кирилла, не совсем справедливо: «досталось» там всем, кто штурмовал тот город и с моря, и с суши, и с неба…
Бабушка угощала ряженкой и «кисляком». Она доставала из погреба небольшой глечик и, сняв с верху того «кисляка» чуть пригоревшую корочку, плюхала его мне в миску. Кисляк разламывался на солидные куски, и я называл это угощение «большим кисляком», в отличие от «кисляка», присыпанного сахаром и размешанного ложкой. Хорошо было полакомиться в жаркий день «большим кисляком», холодным, чуть кисловатым, без приправ, будь то малина или вишня без косточек. Такое лакомство я тоже ел, но настоящее удовольствие получал именно от «большого кисляка»…
В бабушкином погребе было мрачно и холодно. В полутемных углах громоздились мешки и короба, на просторных полицах стройными рядами, как куры на насесте, шпалерами высились кувшины.
Погреб все время манил меня своей таинственностью и неисчерпаемыми открытиями: здесь были и загадочные крюки на потолочном бревне, и стоящие вдоль одной из стен бочки, бочонки и кадушки, и многое другое. А главное – полумрак и прохлада… Самому спускаться туда мне было запрещено, так как по общему мнению, я должен был непременно упасть с крутых ступеней. И этот запрет делал для меня тот погреб еще более привлекательным и желанным…
И еще бабушка угощала хлебом, который пекла в громадной русской печи, занимавшей в хате почти полкомнаты.
Большой деревянной лопатой сажала она в ту печь приготовленные «паляныци» на капустном листе каждая. Хлеб там не только выпекался, но и чудесным образом дозревал, становился пышным, высоким, румяным, несказанно духовитым и вкусным. При выпечке на отдельных буханках-«паляныцях» корка прорывалась, часть теста вываливалась наружу, запекаясь как-то сбоку и образуя особенно лакомый «злэпок», который особенно хорошо «шел» к свежему прохладному молоку.
После того, как печь остывала, я забирался на ее жилую часть. На тыльной стороне стены дед в свое время прорубил небольшое полукруглое окошко. Через вмазанное в него стекло была видна окрестность – какие-то кусты вдоль тына, калитка, за которой шла тропа через стоящий стеной полусозревший ячмень. В те времена для содержания скота нужно было много соломы, и поэтому выращивали длинностебельные злаки. Тот ячмень был выше моего роста, он деду-то доставал до плеч, и его заросли казались мне необычайно таинственным…
Снаружи в запечном оконном проеме в тот год поселилась какая-то птичка-невеличка, ее желторотые птенцы, словно какие-то незнаемые цветки, торчали из гнезда, и было забавно наблюдать, лежа на печи, за их кормлением. Пугать их, а тем более трогать, было строжайше запрещено – «грех»…
Там же, на заоконных задворках, жила и другая разная птица-птаха, со своими заботами, житьем-бытьем. Их тоже было интересно рассматривать через то запечное окошко-«виконыцю».
Запомнилась божница. В полутемном углу хаты на стене висели иконы, покрытые сверху белыми «рушниками» с красными строчками плохо различимой вышивки по краю. В центре негасимо горела лампадка-«каганэц». Пониже, на треугольном столике, тоже покрытом белым платом, лежали какие-то книги, возвышались простенькие подсвечники, и – о чудо! стояли и лежали необыкновенной красоты разномерные стеклянные яйца. Розово-синие и сине-зеленые с красниной, они имели сказочное нутро: сквозь прозрачную оболочку проглядывались нежнейших оттенков какие-то завихрения, облака или волны… А может – крылья каких-то загадочных птиц. Все это разноцветно переливалось, переходя одно в другое. У некоторых где-то в глубине виднелись пещерные горы, из которых на извивистых стебельках вытекали таинственные вкрапления, не то семена сказочных нездешних трав, не то слезинки-сосульки. А когда поднесешь такое яйцо к глазам и посмотришь сквозь него на дрожащее пламя лампадки, все внутри него вдруг оживет, заколеблется, станет дышать, куда-то поплывет и останется на месте…
Среди этих яиц дед особенно ценил такого же фасона и содержания чернильницу, ценил потому, что она, кроме удивительной красоты имела и полезное предназначение – в нее макали перьевые ручки все дети деда Игната, а потом и старшие внуки, по мере возрастания до школьной поры. Сказочные яйца потерялись в сутолоке тридцатых годов (может, одно-другое все же сохранилось у младших дедовых внуков и внучек, что мне неизвестно), а чернильница живет у меня, и дожила до нового, XXI-го века, потеряв свое практическое применение, но зато приобретя статус семейного сувенира-реликвии. Уже в лейтенантских годах я узнал, что этими стеклянными яйцами казаков-конвойцев одаривала императрица Александра Федоровна, обычно к Пасхе, и наш дед за отменную службу неоднократно удостаивался такой награды. Думаю, что вскорости я, самый старший дедов внук, передам этот раритетный сувенир своему внуку – с откровенной надеждой на то, что когда-нибудь он передаст его своему внуку. Дай-то, как говорится, Бог…

Из семейного альбома. Верхний ряд. В центре – «Дед Игнат» – Дмитрий Игнатович Радченко, рядом его сын Григорий с женой Марией Петровной (ур. Агибалова). Нижний ряд – поколение внуков: Галина Викторовна (ур. Боровикова), молодая жена Виталия; Александра Дмитриевна (в замуж. Гончаренко); Валентина Григорьевна (в замуж. Бойченко).
Станица Красноармейская. 1950 год
Но вернемся к незабвенному детскому путешествию, на дедов хутор. Любил я участвовать в кормлении домашней живности. Чтобы разглядеть, как клюют зернышки попискивающие пушистые цыплята, я к бабушкиному ужасу ложился на землю… Наблюдая за поросятами, я пришел в восторг не от их «свинячьего» аппетита, а от того, как они ловко умеют чесаться – задней ногой у себя за ухом. По вечерам дедуля водил меня к задним воротам, и мы слушали сверчков. Степь звенела от их самобытной музыки, и даже собаки, сопровождавшие нас на этот концерт, переставали путаться у ног, замирали, вслушиваясь в таинственные ночные звуки. Однажды в эти трели вплелся довольно громкий ритмичный скрежет.
– Деркач, – объяснил дед. – Есть такая птаха, летает мало, болыше пешком ходит. Вот и сейчас, видно, пошла зимовать в жаркие страны. Пока она туда сходит, у нас зима кончится, деркач вернется, птенчат выведет, и снова в поход. Так и живет, все на ходу, на ходу, и все пешком… Позади дома дед устроил небольшой ток, на котором большим каменным катком домолачивали снопы. Меня к этому серьезному делу не допускали из боязни, что я могу как-то ненароком попасть под каток, мол, был в станице недавно такой случай. А вот когда обмолот кончился, дед затеял резку соломы, так как половы, по его мнению, для корма скота было маловато.
Меня «для груза» посадили на широкий досчатый помост, поддон которого был утыкан треугольными ножами от косилки. В этот нехитрый агрегат была запряжена лошадь, дед водил её по кругу, ножи резали солому, уложенную нетолстым слоем на току. Моя задача была не свалиться с платформы и не засорить глаза. Поначалу эта роль мне нравилась, я крепко держался за какой-то ремень и с гордостью озирался по сторонам, искрене жалея, что меня никто не видит, кроме шелудивого пса, сидящего под хатой. Дед, конечно, в счет не шел… Потом мне монотонность нашей деятельности поднадоела, и я уже поглядывал, как бы спрыгнуть с платформы и куда-нибудь удрать. На мое счастье, явилась бабушка, отругала деда за то, что мучает «детинятко», тот остановил лошадь. Я бодро соскользнул с насиженного места и тут же свалился на солому – голова кружилась, ноги не слушались, земля шла кругом.
Надолго мне запомнилось это участие в серьезной работе. Дня через три мы поехали в поле, на один из «паев», где у деда, выражаясь по-нынешнему, произрастали «технические культуры»: «прядиво», оно же «конопелька», «маслянка» (подсолнухи), «пшинка» (кукуруза) и что-то еще, поменьше ростом. На участке стоял балаган – дощатый домик, рядом – навес, под которым можно было укрыть коней от жары, или, допустим, от дождя и ветра.
У входа в балаган цвели «сояшники» – те же подсолнухи. Дед отпустил распряженных лошадей на пастьбу, а сам занялся каким-то ремонтом балагана. Настя с бабушкой что-то пололи, подгребали. Потом дед собрался сходить «по воду», именно «по», а не «за» – меня все время поправляли, когда я говорил «за водой», мол, пойдешь «за водой» – не вернешься… Я само собой, увязался за ним. Мы по тропе прошли сквозь «маслянку» и оказались на краю балки, поросшей тернами и «шипшиной» (шиповником), и тут дед поставил на землю ведра, взял меня на руки и показал на двух пасущихся невдалеке больших птиц.
– Дрофы! Дюже гарна дичина… Дрофы были похожи на крупных гусей, только на больших ногах. Они спокойно пощипывали травку, потом, увидев нас, неторопливо удалились. Впоследствиии я видел дроф и под Тимашовкой, да и отец приносил их с охоты – дичина действительно была «гарна»… Где-то незадолго до войны она исчезла с кубанских степей окончательно. А были ведь у нас такие птицы. Бывало, их заготавливали на зиму: в печи запекали в соленом тесте, которое пропитывалось жиром самой дичины, и подвешивали на чердаке, где было достаточно прохладно и гулял ветерок. По нужде такую заготовку снимали с крючка, разбивали высохшую хлебную корку и разрезали птицу на аппетитные куски, разогревали и подавали к столу…
На обед бабушка «на цыглинках» (на кирпичах) сварила пшенный супчик. Каким он показался мне вкусным! То ли нагулялся хлопчик на полевом просторе, то ли действительно в том чуть пахнущим дымком жиденьком вареве, «засмаженным цыбулей» (зажаренным луком) было что-то неповторимое, объяснить которое обычными словами нельзя.
В балагане я увидел висевшую на стене картину. На ней был изображен круглолицый усатый человек с бандурой на руках, сзади него – красивый конь. Бандурист сидел в непонятной позе, которую я тут же попытался повторить. Так сидеть было неудобно, хотя и можно, когда, к примеру, нет стула или табуретки. Вот только жаль, что у меня нет бандуры… Дед, заметив мои упражнения, улыбаясь, объяснил, что на «парсуне» изображен казак Мамай[2121
Мамай – казак, фольклорный герой запорожских черноморских (кубанских) казаков, благородный рыцарь, защитник вольной казацкой бедноты. Его характер известен из устных преданий и множества изображений (картины, лубки, рисунки на дверях, крышках сундуков).
[Закрыть]].
– Был такый добрый казачюга, азиятам, абож тем же туркам-татарве спуску не давал, а сам был веселый и певучий. Вот у него саблюка, вот – пороховныця, а тут – сулия с горилкой и торбочка с тютюном-табаком.
– А где он жил? – спросил я, не видя на картине ни хаты, ни какого-либо шалаша. – А везде… Он же казаковал, ездил по степи с места на место, нес охрану и ублажал людей своими песнями. Это сейчас казаки живут по хатам… Говорят, что такого Мамая и совсем не было, да только брешут – был! И посейчас с таким прозвищем их на Кубани немало. За Славянской по Анастасьевским хуторам тех Мамаев дюже густо. Может, то их какой пращур… «Казак Мамай» мне очень понравился, и я позже, узнав про татарского предводителя Мамая, всерьез его не принимал, для меня настоящим был совсем другой Мамай – казак, которого я видел на картине в дедовом балагане…
И еще запомнилась гроза. Где-то во второй половине дня над степью повеяло ветерком, небо стало быстро заволакиваться сначала бело-серыми тучами, потом откуда-то взялась громадная черная «хмара», она закрыла собой почти всё видимое и невидимое пространство, пригоршнями сыпанул сначала мелкий, задорный дождичек, и раздался неуверенный гром, отдаленный, один, другой, блеснула молния и – началось! Дождь полил, что называется, как из ведра, небо корежилось в железном грохоте, молнии накладывались одна на другую, то огненными змеями уходили в землю, то с треском рассыпались где-то вверху. И когда они вспыхивали, то в распростёртой над нами угольно-черной туче, казавшейся абсолютно однородной, вдруг высвечивались какие-то прорехи, дыры, пещеры и ямы…
Мы с дедом стояли под навесом, и я точно помню, что мне было совсем не страшно, а наоборот, восторженно весело в этом вселенском погроме, могучем и сказочно прекрасном. Вот две особо яркие, голубовато-серебристые молнии сверкнули совсем близко, зазмеились и ушли куда-то за окаем. И тут громыхнуло с такой силой, что стоявшие сзади нас кони ошалело дернулись, и тут же обреченно затихли, как кролики перед пастью огненного удава. Дед перекрестился, что-то прошептал, и мне было видно, что ему – тоже интересно!
Гроза прошла также скоро, как и началась. Уже через полчаса, может чуть больше, ливень прекратился, черная хмара ушла к горизонту и хотя там, где-то вдали, еще погромыхивало, над нами заголубело небо, и было понятно: праздник кончился!
Огромной дугой над степью выросла радуга, яркая у основания и чуть размытая к вершине.
– Отож, – показал мне ее дед, – она означает, что всемирного потопу не будет! Так в Святом писании прописано. И кажется мне, что именно с того момента я усвоил себе, что какой бы сильной не была гроза, ее пронесет, засветится радуга и вселенской погибели не будет…
Через много-много лет, когда я был совсем уже взрослым, а дед Игнат совсем уже старым, я как-то спросил у него, помнит ли он ту грозу, которую мы с ним пережидали под навесом у степного балагана.
– А как же? – даже удивился дедуля. – Тож було чудо! А чудо и есть чудо, его из головы не выскребишь!.. И я понял, что для меня таким «чудом» была не только та памятная гроза, а все, что я тогда увидел, и дорога, и дедово подворье, и его окрестности. Хорошо, когда жизнь – чудо!
Чудом жили, чудом живем, на чудо надеемся, чудом спасемся… Да здравствует чудо!









