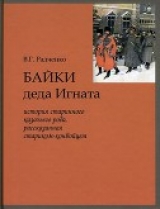
Текст книги "Байки деда Игната"
Автор книги: Виталий Радченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Вот такая сложилась нескладная судьба ладного и складного Петра Петренки. Дед считал, что не искал бы тот Петро приключений на свою голову, и будь все кругом покойно, быть бы ему станичным учителем, или, может, хорошим писарем. Не судьба…
А вот то, что скатился он на самое дно, больше его вина. Оно само слово «судьба» от суда идет. Может, рассуждал дедуля, это и есть начало последнего Божьего суда, и человек получает уже при жизни приговор и за свои грехи, и за грехи своих отцов. Так что не такая уж она «слепая» так судьба, и присуждает каждому то, что он сам себе накличет…
БАЙКА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ,
про то, почему род человеческий не развеялся по ветру, как придорожная пыль
Был у деда Игната, как он выражался, «шматок» земельки в отдаленном углу станичного юрта, глухая закраина вдоль одной из плавень, многочисленных в наших местах. Дед там сажал капусту, для чего тот «шматок» и был ему в свое время нарезан. Но в смурные военные годы соседствующая с ним и так не очень полноводная плавня пересохла, капусту и другие огородные радости поливать стало нечем, и пока дед был в армии, этот участок у него захирел, стал зарастать бурьяном. Вернувшись со службы, дед выжег сорняки, основательно подправил построенный им здесь балаган, в котором при случае можно было переночевать или спрятаться от непогоды, и по весне засеял как бы бросовую земельку кавунами и дынями: выпадут два-три дождика, и той влаги хватит – баштан много воды не любит.
И вот как-то, через неделю-другую после того, как «кадеты» вернули себе Катеринодар, к деду на его пристаничный хуторок пришла отдаленная («девятая вода от киселя») родичка Прыська и побалакав о разных станичных вестях-новостях, попросила деда посоветовать, куда бы ей пристроить приехавшего к ней племянника, да так, чтобы его мало кто видел месяц-другой, потому как он, тот племянник, при советах работал у них писарчуком, а сейчас, при «кадетах», может под горячую руку попасть туда, куда никому попадать не хочется.
– А что, – почесал дед потылицу, – давай своего племянника, я его утром, еще до света, на баштан отвезу, хай трошки поживет в балагане. Балаган не хоромы, а так – три кола, а сверху борона, но жить там можно. В дождь там сухо, в жару прохладно… А что чи той хлопчик красный, что белый, то его дело, был бы людина хороша, не вертополох який… И отвез он того параськиного племянника на свой баштан, наказав ему по возможности отпугивать волков, повадившихся лакомиться поспевающими к тому времени арбузами. Причем не было случая, чтобы волк расколол еще не созревший кавун. Как он угадывал, красный ли он внутри – неизвестно. Умная худоба, не то, что свинья – дикие кабаны порой тоже делали набеги на бахчи, но сметали все подряд. Больше потопчут, чем съедят – свиньи, одним словом. Но вот на баштан, облюбованный волками, они не ходили, и в том была своя польза от волчьего, можно сказать, попечительства.
Прожив в балагане на дальней царине (так казаки иногда называли земельные участки не совсем свои, запаханные не в счет пая) до первых морозов, племянник «ссыпался» в Катеринодар, а потом, по слухам, подался к «зеленым» в Черноморье… Такая у него была планида – не сидеть же ему вечно на чужом баштане…
А на следующий год в балагане поселился Омелько Горбач, тот самый, что приблудился к казакам-оружейникам на станции Лиски. Он «ховался» от советской власти. Удержавшись от участия в красных и белых войсках и бандах, джерелиевский казак по веселой пьянке оказался втянутым в улагаевский переполох.
А сманил его никто иной, как «свояк» Василий Федорович Рябоконь, тот самый, с которым Омелько познакомил нашего деда летом семнадцатого года в Катеринодаре, когда они сдавали в «чихауз» оружейную мастерскую. «Чего, мол, ты будешь отсиживаться, да мы сейчас этих краснюков в землю втопчем, а не втопчем, так пощекочем за будь здоров! А там, глядишь, и сам Врангель с моря шарахнет, опять же с Дона обещали подмогнуть… Да и наши кубанцы, мол, поднимутся…». Черта с два: ни те, ни другие не пошевельнулись…
Правда, поначалу выступление высадившихся в Ахтарях улугаевцев шло с нарастающим победным успехом, но получив под Тимашевкой встречный удар, они так же скоро откатились к Гривенской, а потом и к Азовскому морю. Много казачков подалось тогда с Улугаем в Крым, но немало и осталось. И не все, кто остался, разбрелись по домам, были и такие, что ушли в камыши, к большим и малым батькам-атаманам. Чтобы отсидеться до лучших времен – авось, мол, и на нашей улице будет праздник. Остался в плавнях и Васько Рябоконь, а с ним не один десяток его дружков-земляков. Наш Омелько надумал «тянуть до родной хаты», война ему уже давно наобрыдла до умопомрачения. Рябоконь его, как и других, не держал.
Добравшись до своей Джерелиевки, Омелько по совету родичей решил на некоторое время «потеряться», не мельтешить перед очами недоброжелателей, и выбравшись в Катеринодар, где у него были, как он говорил, «свояки», пристроиться на какую ни то работенку. А там видно будет…
Зайдя переночевать к нашему деду, он к утру занемог, и провалявшись в лихорадке дней пять, настолько ослаб, что выпускать его в дорогу по дедову соображению было «неможно». Он отвез Омельку на свою царену и, снабдив харчами, велел отлежаться и набрать силу, мол, какой из тебя городской работник, одна кожа да кости… Недели через две Омелько исчез из балагана, по всем признакам – своей волей, «самочинно»…
Однажды в те годы дед Игнат по хозяйственной нужде побывал в Катеринодаре и по обычаю заехал к дядьке Охриму. Встретил его, как и положено быть, дворовый страж, свирепый пес Сирко, заросший сивой шерстью и злющий, как сто волков. Отгоняя собаку, дядько Охрим сетовал:
– Что он у нас такой дурнобрех! Не собака, а просто сатана неугомонная. Ему все равно на кого гавкать, что на своего, что на чужого. Кто мимо двора не шел бы, не ехал, он тут как тут… На самого генерала Покровского якось так заливался, что тот коня пришпорил. Ну, думаю, сейчас прикажет порешить собаку-злодияку, а заодно и хозяину всыпать плетюганов… Да что на Покровского: тут верховодный комиссар Троцкый был в Катеринодаре, на Улагая поднимал большевицкую силу, а сам жил в вагонах на Черноморце (т. е. на Черноморском вокзале ныне станция Краснодар 2-й), и каждый день на моторе в город проезжал по нашей улице. А Сирко, клята его собача душа, за версту чуял, что едет начальство, выбегал за ворота и ждал того комиссара, як почетный караул… Так что ему все равно, на кого гавкать, что на генерала, что на комиссара. На комиссара, может, и сподручней, он на автомоторе чешет по своим заботам, а то интересно не только собаке. Я б, может, тоже на него погавкал бы, та кто ж мне даст: нема у меня такого собачьего права на начальство шоб гавкнуть раз-другой…
Справив свои продажно-покупные дела, дед Игнат пошел в войсковой храм – Лукьяновна наказала поставить свечку Пресвятой Богородице, а от себя притулил огарок преподобному Ерофею – он считался покровителем казаков-конвойцев, ну и конечно же, другим каким угодникам, что подвернутся, без разницы, на всякий случай, авось в чем помогут… И на самой паперти ноздря в ноздрю наткнулся на Омельку Горбача. Как говорится, еще не успел шапку снять, не успел лба перекрестить… И хотя тот подстриг усы и обрезал свою лихую чуприну, дед его сразу узнал, да и тот не стал заноситься. Как водится, «поручкались», и слово за слово Омелько рассказал, что он теперь, можно сказать, расказачился, забился в городскую жизнь и вертаться в станицу не думает, даже жинку перетянул в Катеринодар – работает в буфете на железной дороге. Сам же он – бери выше: в красили подался, вместе с такими же, как он сам, веселыми хлопцами-вертопрахами крыши красит. Зарабатывает – на хлеб да на сало хватает. А главное – никто не завидует, работа хоть и верховая, но малозаметная.
Больше наш дед Игнат того Омельку не видел, может, он и выжил в крутых передрягах последующих тридцатых годов. Городских коллективизация так не тряхнула, как станичных, хотя и их задело то, что называлось словом «саботаж», и голодомор, и высылка, и все остальное. Советская власть мало кого не доставала. Ну, дай ему Бог всего благополучного, парень он был хоть и любопытный, но без падлючества.
– А Прыськин племянник, – вспоминал дед Игнат, – проявился через немало годов и совсем с другого боку.
И рассказал, что сын его младшего брата Касьяна, а для нас – дедовых внуков, стало быть – двоюродный дядько, Андрей Касьянович, царствие ему небесное, в конце последней германской войны бился с японцами на китайской земле. Был он шофером на американском «Студере», а вот гаубицу «тягал» нашу, российскую.
И надо ж было такому случиться, что уже после того, как все японцы, не выдержав нашей силы, посдавались, кое-где из укрепленных дотов отстреливались самураи-смертники, что говорится, до последнего. Чтобы на том свете попасть в вечное блаженство, такой самурай должен был погибнуть в бою за своего микаду-императора и уложить как можно больше врагов – для собственного счастья. Вот он и шпарит из пулемета, клята его душа, до последнего патрона, а последний, если он оставался, конечно, живым – для себя. Ну, а чтобы тот смертник ненароком не уполз из своего дота, его приковывали к пулемету цепью, как злого барбоса.
Наши же, стараясь нести меньше дурных потерь, громили доты из пушек – у нас в конце войны всего было в достатке, и пушек, и снарядов, и боевой сноровки.

Сражение японцев и казаков (Ватанабе Нобуказу. Изображение нашей доблестной армии, изгоняющей русскую казачью кавалерию с берега реки Ялуцзян. 1904)
И вот как раз такой смертник-самурай и чиркнул пулей нашего Андрия в тот момент, когда он разворачивал гаубицу на прямую наводку. Пуля, она ведь дура, давно известно – нет, чтобы мимо пролететь в белый свет, как в копеечку, так она, скользнув откуда-то сбоку, прошила солдату левую ладонь, да так, что все пальцы вывернулись назад, хоть плачь, хоть лайся. Андрий, понятно, больше лаялся, что делу была какая ни то подмога. Ну, чтобы он не остался вовсе без пальцев, отвезли его сначала в медсанбат, а потом и в госпиталь – руку спасать. Ничего, вправили что куда следует, лишнее вырезали (у хорошего портного всегда остается лишний лоскут), остальное закрепили, забинтовали, лежи, боец-ухарец, до свадьбы заживет!
А обходы в госпитале делал врач-профессор, доктор по костям и, может, сухожилиям, или что-то там в таком же фасоне. У них, у ученых докторов, на каждый глист свой специалист, на каждое ребро – свое мурло. Что, скорее всего, на пользу: кто-то должен же про те ребра знать все секреты до тонкости, до мелкой мелкости… Вон святые, говаривал дед Игнат, и те, не глядя на их всесвятую благость, тоже специализируются: кто по хворям, кто по коням и прочей худобе, кто по грешному воинству… Даже, прости Господи, у воров, и у тех есть свой небесный покровитель, видать, знаток этого дела. А лекаря все же люди, не святые, им всего про все не постичь…
Так вот, этот доктор-профессор, присмотревшись к нашему Андрию и порасспросив его, признал в нем станичника-родича: он, оказывается, и был тот самый Прыськин племянник, что спасался от «кадетов» на дедовом баштане. Он, правда, Андрию не стал вспоминать про баштан, об этом рассказал Андрию дед Игнат года через три, когда тот вернулся с войны, целым и невредимым, при живой голове, на своих ногах, и пальцы на его руке работали исправно, слава за что дохтурам-хвершалам…
– Вот оно как бывает, – вздыхал дед Игнат, – гора с горою не сходятся, а человек человека когда-нибудь, да находит. Мертвых находят, а жива душа, глядишь, сама объявится… И что только не разделяет людей – и злоба, и случай, и война, и версты, а все одно – сходятся, сбегаются до кучи… Может, от того и род человечий не пресекся, и происходит то, что было, есть и будет… А иначе – разбрелись бы кто куда, и развеялись бы, как на ветру придорожная пыляка…
БАЙКА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,
про казака Васька Рябоконя – «камышового партизана»
Была у нашего деда Игната одна байка, которую он рассказывал редко, и не только из-за привитой обстоятельствами осторожности, но и из опасения, что мы, его внуки, «шось нэ так» поймем, ибо события, о которых в ней шла речь, однозначному толкованию не поддавались. Главной персоной этих рассказов был его случайный катеринодарский знакомый Васько Рябоконь, прославившийся в теперь далекие двадцатые годы как «камышовый» партизан, по оценке советских властей – головорез и бандит, а по знавшему существо дела народному мнению – несчастный бедолага и мститель за кровавую неправду, в те годы чинимую казачьему народонаселению. Мститель подчас жестокий и беспощадный. И страдали при том противостоянии прежде всего простые люди, непричастные к сваре, хотя, может, кому-то и сочувствующие… Да и то, что волку в радость, зайцу – слезы…
– Отож Рябоконь со своею ватагою, – вспоминал дед Игнат, – плыть пароходом в Крым с Улагаем отказался, сказал, что с большевиками у его свои счеты, и он с ними будет воювать тут, в ридных краях, где он знает, кто чого стоит, и кому надо воздать… Его злость к большевикам была понятной. В красно-белой распре воевал он на стороне белых, командовал сотней, но когда «белое дело» на Кубани было проиграно, вернулся домой, считая, что война для него закончена. Но не тут-то было: новая власть стала отлавливать бывших офицеров и нещадно их «сничтожать». Рябоконь, решив, что напасть эта временная, скрылся в плавнях. Ну, а красная власть тем часом расстреляла в Гривенской одноразно около двухсот человек «классово-чуждого элемента», и в их числе была его престарелая мать. Батько, избежавший той кровавой облавы, был чуть позже на своем базу изрублен в куски пьяными милиционерами. А вскорости непонятно как утонула или была утоплена его жена. Рябоконь собрал в камышах таких же обездоленных и обозленных, и «погуляв» с Улагаем, обосновался на затерянной в лиманах и плавнях Казачьей гряде у самого Азовского моря.
Повстанцы понастроили себе куреней, оборудовали склады, охранные траншеи. Но тут пришло известие, что Врангеля выбили из Крыма, и он увел свою армию в туретчину. Рябоконь собрал сход и сказал: помощи им ждать неоткуда, а война с большевиками будет продолжатся и предстоит трудная, злая и долгая, а потому он предлагает всем, кто не уверен в своих силах, разойтись по домам. Сам же он остается в плавнях до конца, потому как ему теперь терять нечего, остается лишь мстить за кровь родных, близких и боевых товарищей.
– И розбиглись тогда по хатам немало казачков, – говорил дед Игнат, – зато остались все бильше такие, кому деваться было никуда, люди, дюже злы на новую власть, того не понимая, что Бог часто посылает нам ту абож другую власть в наказание.
С этими преданными ему друганами-единомышленниками Рябоконь и разгулялся по округе, прилегающей к его родной станице Гривенской, часто наведывался в Полтавскую, Николаевскую, Чебаркули, «гостил» и в Славянской, где совершил однажды налет на пароход с продовольствием. Побывал в Катеринодаре, где по чужим бумагам на войсковом советском складе получил несколько пудов боеприпасов, якобы для доставки в славянский гарнизон. А для того, чтобы сберечь опасный груз от банды Рябоконя, попросил у начальства сопровождающих. И ему дали! Рябоконь их отпустил с дороги, вручив «пакет для отчета», в котором лежала записка-цидулька: «Хто патроны давав, той Рябоконя видав»…
Плавни, заросшие двухсаженным камышом, и сейчас малопроходимы, а в те годы это был густющий лес, кабаньи тропы в котором и отдельные кочки-островки знали далеко не все хуторяне-станичники, прожившие жизнь на обрывках суши вдоль этого зеленого моря-океана.
Против Рябоконя власти отправляли отряд за отрядом, и все зря. Проплутав по камышовым дебрям, красноармейцы в лучшем случае возвращались ни с чем. Но больше нежданно-негаданно нарывались на засаду, одну, другую, и зачастую почти поголовно выбивались. Заранее предупрежденный сочувствующими ему станичниками-хуторянами, атаман уходил, где бродом, где плавом в глухие места, либо расставлял своих бойцов так, что они, пропустив колонну, нападали на нее с тыла, с флангов, «из-под земли и из-под воды»…
– Рябоконь оказался хитроумным воякою, – подчеркивал дед Игнат, – он не лез напролом, не шел туда, где его ждали… коли нужно было – таился, и казалось, что его вроде уже нема, и вдруг нежданно-негаданно тихобродом налетал на сонных чоновцев и милицию, и брал их, можно сказать, голыми руками… О подобных его деяниях ходили легенды, они обрастали слухами, и было трудно различить, что в них правда, тем более, что власти часто приписывали ему то, к чему он не имел отношения.
Как-то из Краснодара был прислан довольно большой отряд, специально предназначенный для уничтожения намозолившей очи начальству «банды Рябоконя». Возглавлявший отряд командир предложил «бандитам» сдаться «по-хорошему», и не получив ответа, не нашел ничего лучшего, как организовать в плавни особое шествие: впереди выставили детей, женщин и стариков, нахватанных в Гривенской и ближних хуторах, за ними – местного священника с иконами и хоругвями (по ним, мол, верующие казаки стрелять не будут), а позади – красноармейцы, в гуще которых на пароконке восседал сам верховода начальник. Было объявлено, что за каждого убитого солдата расстреляют не менее 80 заложников…
Рябоконь пропустил это «шествие» мимо своих застав и неожиданно проявился стрельбой поверх колонны. И заложники, и красноармейцы бросились врассыпную. Развернулся наутек и лихой командир. Рябоконь верхом нагнал его и крепко отстегал нагайкой за издевательство над людьми и святотатство – привлечение святых икон на неправедное, пагубное дело.
А тут, как нарочно, разразилась сильнейшая гроза, какие даже в наших краях случаются нечасто. Из черной хмары, как из ведра, полил такой дождь, что вмиг погасил начавшуюся было свару, и ее участники, по словам деда, тут же «охолонули и разбиглись по своим углам»…
Другой раз «батько Васыль» через своих людей узнал, что чекисты устроили засаду на Крыжавском ерике, по которому он должен был в ту ночь проплывать. Установив на лодках чучела, казаки, не доплыв до засады, тихонько занырнули в воду, а лодку пустили по течению. Вскоре она была обстреляна, Рябоконь же с несколькими сотоварищами выбрался на берег и, пробравшись в станицу, расстрелял встретившихся ему чекистов.

М. Греков. В отряд к Буденному. 1923 г.
Рябоконь запросто посещал проводившиеся местным руководством собрания и сходки, возникал в самых неожиданных местах и жестоко карал партийных и советских активистов, их осведомителей. За его голову была назначена немалая по тем временам награда в две тысячи рублей.
Так продолжалось почти пять лет. От его отряда осталось совсем немного – кто погиб в бесчисленных стычках, кто, не выдержав напряженной таборной жизни «камышатника», сам покинул отряд. Атаман их не держал. Был убит есаул Кирий, от случайного выстрела из собственной винтовки погиб родной брат Рябоконя Осип. А когда была объявлена амнистия добровольно сдавшимся участникам антисоветского сопротивления, на «волю» подались Загубывбатько, Дудка, Просяной… Войну с советской властью продолжало не более десятка «рябоконевцев», но это были люди беспредельно ожесточенные, сознательно обрекшие себя на погибель во имя страшной мести новой власти – их родные и близкие были давно побиты, хаты сожжены, на них самих висел смертельный груз ответственности за борьбу с советами – терять и приобретать им было нечего…
И сильны они были не только своей ненавистью, но и поддержкой тех, кто жил в окрестных хуторах и станицах, и зачастую тоже был обижен большевиками, но в открытую сражаться с ними по разным причинам не мог. Близживущее население снабжало «камышатников» хлебом и солью, а многостайная дичина и неисчерпаемые рыбные табуны могли прокормить в плавнях сколько угодно людей.
Дерзкая же лихость Рябоконя, его способность уходить от преследователей, умение обмануть их и найти нежданный, подчас очень остроумный выход из самого безвыходного положения – вызывали не только восторженное сочувствие, но и порождали легенды о его похождениях и приключениях. Большинство же населения жалело «камышатников» как людей несчастных и обреченных.
Деду Игнату пришлось как-то встретится с тем Рябоконем в степи. Дело было вскорости после улугаевской замятни. Возвращался наш дедуля на своей гарбе из Джерелиевки, куда отвозил бывшему сослуживцу по конвою деревянную ногу – свою он оставил где-то в Галиции. На войне бывает, что человека отправляют на тот свет не целиком, а по частям… Ну дед, стало быть, изготовил ему легкую культю с твердым наконечником, добре продумал крепление, чтобы было удобно и не тяжело. А заодно оттянул на своей кузне два лемеха – все хлеборобу-инвалиду какая ни то помощь. Сослуживец остался доволен, посидели они, побалакали «про жизнь», пропустили по чарке, не без того. Хозяин оставлял ночевать, да дед решил, что время не позднее и он, пожалуй, дотемна успевает добраться до дому, до хаты…
И вот где-то на полпути он вдруг услышал за поворотным бугром какой-то шум-гомон, и вроде даже бабский. Медведь, говорят, от шума бежит, а человек, наоборот, на шум бежит. Вот и дед, нет чтобы остановиться, переждать, пока там стихнет чужая свара, так он даже подстегнул лошадей и, выскочив за поворот, увидел, что несколько конных окружили гарбу, на которой стояла тетка Лупенчиха (он ее сразу узнал), вдова с соседнего хутора, и что-то кричала, а один из конных, спрыгнув с седла, распрягал у нее коня. Увидев в стороне другую гарбу, дед сообразил, что на его глазах совершается довольно обычное по тем временам дело: ватага решила заменить своего порченного коня на исправного из первой же попавшейся упряжи. Так делали и белые, и красные, и зеленые… И тут же он увидел, что возглавлял ватагу не кто иной, как сам Рябоконь. Поздоровавшись с ним, дед сказал:
– Не дело затияли, Василь Филипповыч: хозяйка, бачь, вдова, муж у нее склал голову на туретчине, а в хате четверо детей, и все – мал-мала… Рябоконь зыркнул на деда, хмыкнул и, почесав плеткой за ухом, крикнул, чтобы хлопцы погодили с перепряжкой.
– Что-то твое обличье мне известно, – сказал он. – Откуда знаешь меня?
– Как не знать… – И дед напомнил, что летом семнадцатого в Катеринодаре их свел свояк, Омелько Горбач, на запасных путях, где казачки разгружали мастерские… Хотел было напомнить про поясок с серебряным набором, за ремонт которого за сотником остался «магарыч», да постеснялся: мало ли чего подумает тот Васько-атаман… Видя, что сотник мнется, не зная, как ему быть с бедной вдовою, дед предложил, раз есть такая нужда, заменить у него одного коня. Хоть и жалко… Рябоконь недовольно отмахнулся:
– Тоже не ладно… И крикнул своим: – Перекиньте с нашей гарбы вдове пару мешков с харчами… хай сирот накормит… Да нашей хромой кобыле будет легче… Ну, бывай, казак! – кивнул он деду и, помедлив, сказал, – А поясок серебряный у меня улугаевский адъютант выцаганил, сказал: для генерала! Так что блестит он сегодня, может, в Париже, может еще где, как память тому Сергею Егорычу Улагаю про нашу Кубань! Вот такая была встреча…
Старался народный мститель Василий Рябоконь не обижать простых людей в своей смертельной схватке с советской властью, но война есть война, и бывало, с его нелегкой руки летели и невинные головы, а его жестокость была не меньшей, чем та же большевистская…
Рябоконя выдали свои же – по слухам, бывший его сотоварищ Загубывбатько. Правда, говорили еще, что тропу в камышах указал пастушок, у которого спутники Рябоконя забрали телушку.
– Да только то бабьи сказки, – уверял дед Игнат, – для отвода глаз. Скорей всего, выдал его Загубывбатько, не зря у него было такое прозвище.
И дед в опровержение того «бабьего слуха» говорил, что когда Загубывбатько умер, то на его могиле долго гавкал черный бродячий пес. Не выл жалобно, как это бывает по доброму хозяину, а именно лаял, злобно и надрывно.
Милиционеры сумели незаметно подобраться к стоянке Рябоконя и первыми же выстрелами перебили половину привыкших к удаче «камышовых партизан». Сам Рябоконь был ранен в обе руки и не смог путем сопротивляться…
Дед Игнат не забывал упомянуть, что когда Рябоконя везли через станицы, то люди снимали шапки, а то и бросали в его гарбу охапки цветов – белых дубков, расцветающих как раз по осени, и чернобрывцев с панычами, усыхающих еще летом, но в тот год почему-то красовавшихся до первых снегов.
А еще говорят, что когда конвой приближался к Полтавской, откуда-то из тернов выскочила снежно-белая лошадь, незанузданная, с распущенной гривой и длинным хвостом. Она сделала круг вокруг печального обоза и также нежданно скрылась, как до того возникла. И сопровождавших сотника милиционеров охватил такой ужас, что они чуть было не разбежались, да только та красавица-лошадь больше не появлялась…
Доставленный в Краснодар, Рябоконь на допросах не выдал никого их живых своих сотоварищей, наотрез отказался подавать прошение о помиловании и вступлению в Красную Армию, где ему обещали хороший чин.

Тачанка. Худ. М. Греков
– Отож вскорости его там, в тюрьме, и убили, хай пухом ему будет земля, – говорил дед Игнат. – Все ж уважили, расстреляли, а не позорно повесили, как те ж «кадеты» в Святом Кресте пхнули в петлю казака Ивана Кочубея, когда он, попав в плен, тож отказался от должности в Добрармии. А вояка был умелый… И дед сокрушенно качая головой, со вздохом вспоминал, что тот же Кочубей был тоже не только умелым, но лично храбрым (на Турецком фронте трех Георгиев отхватил), но и столь же беспощадно жестоким, сам рубал не только врагов, допустим, тех же «кадетов», но по случаю и не понравившихся ему своих же начальников – красных командиров и комиссаров. Сам палил церкви, и даже сжег станицу, и может, не одну…
– Отож его Бог, мабудь и покарал… Так что крепки были казаченьки и у красных и у белых, то надо признать. Отож, может, и мордобой был таким нещадным и кровавым… А в народе еще долго ходила молва, что Рябоконь каким-то чудесным образом избежал казни. Спасся… И его не раз и не два видели уже после войны то на краснодарском Сенном рынке, то на базаре в станице Славянской. И видевшие его клятвенно утверждали, что то был именно Рябоконь, и никто другой. Да и кому другому тут быть, если Рябоконь был один такой, и другого быть не могло…
– Народ брехать не станет, – говаривал дед Игнат. – Отож, раз кажуть, что он жывой, то так оно и есть. Точно, – ухмылялся дед, – как сто баб нашептали.
И было видно, что дед Игнат очень хотел, чтобы все было так, как «нашептали сто баб». Дед любил истории со счастливым концом.








