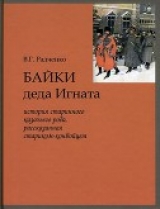
Текст книги "Байки деда Игната"
Автор книги: Виталий Радченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
БАЙКА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ,
про то, как была такая война – германская, с которой и началась на Руси колготня-чертоскубия
– Отож, у нас совсем запамятовали, что была такая война – германская, – хитровато улыбясь, говаривал иногда дед Игнат, – или как она теперь прозвана – Первая Мировая… Все про штурм Зимнего, та про Гражданскую чертоскубию книжки пишут, кино показуют, да песни поют. А началась-таки вся колготня от нее, от той германской. А что как бы того Вильгейма тряхонули как след, да поскорее, так все пошло бы совсем по другому чертежу. Смотри, и царь Микола сидел бы на месте, да и Вильгейм, не будь дурнем, красовался на своем германском троне. И про Ленина и про Троцкого никто бы ничего не знал бы и не чуял… Генералу Брусилову, та и тому же, может, Корнилову, все ж геройский был вояка, конные памятники понастроили б… И жили б мы, как жили, тихо да мирно… По дедовой «стратегии» получалось, что в России и войск было предостаточно, и снаряжения «под завязку» – хватило же всего этого еще на три года Гражданской войны.
А пошла та германская война, как он считал, как-то не по-хозяйски. Войска раскидали по всему белому свету – и в Турцию, и в Персию, и во Францию, и в Австрию, и в Македонию, и в Пруссию, и черти куда еще. Сподручнее все же было бы бить германцев и их друзей-союзников не всех сразу, а поодиночке… Высшее начальство, по словам деда, не о войне с германцем думало, а больше мечтало о «переменах», чтобы в России все было как «в просвещенных европских странах». Многие из них, в особенности депутаты, газетчики и юристы, вредили царю, вредили армии, ну, а когда вождям-генералам все это наобрыдло, то и они захотели «перемен». Так и пошел он, весь этот трам-тарарам…
Народ же понимал так, что сверху виднее, и хотя воевать не хотелось, но раз война началась, то надо воевать. Не за какие-то там Дарданэллы, хай им грэць, а за Веру, Царя и Отечество…
Война же была серьезная, настоящая, и поначалу воевали по-настоящему…
Двоюродного барат деда Игната – Касьяна Спиридоновича четырнадцатый год застал на действительной службе, и уже в начале августа их сводная казачья дивизия попала на австрийский фронт.
Армия генерала Брусилова[1818
Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), генерал от кавалерии. Служил на Кавказе, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В первую мировую войну командовал 8-й армией, затем был назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом. После февраля 1917 г. – верховный главнокомандующий. В белом движении не участвовал. В 1921 г. вступил в РККА. Инспектор кавалерии.
[Закрыть]], куда влились казаки, сразу же пошла в наступление, так что казаки-кубанцы в первые же дни попали в жестокое, если не сказать, кровавое сражение, развернувшееся у небольшого подольского местечка Городка. Не велик был тот «городок», а баталия за его околицей случилась большая…
Спиридоныч потом рассказывал, как на нашу пехоту навалилась венгерская конница, прозванная «будапештской гвардией». То была краса и гордость Австро-Венгрии… Как будто на параде шли они в разомкнутом строю ровными рядами на наши позиции. Казаки не видели этой красотищи, они стояли на фланге, но, говорят, это было впечатляющее зрелище… Наша пехота стала нещадно косить гусар из пулеметов и винтовок. Австрияки смешались, повернули вбок, задние стали напирать на передних. И тут по ним ударили казачьи сотни – как говорится, «вперед, смелых Бог любит!»…
Касьян до конца жизни помнил тот бой, первый для него и его сотоварищей. Любоваться синими мундирами и ярко-красными «чинчирами» австрийских гусар было некогда. Наши конники навалились на них сходу, без остановки, и началась рубка. Стрельба со стороны русской пехоты стала стихать, в воздухе стоял истошный крик «а-а-а!!», не «ура», а вот такое остервенелое «а-а-а», которое ему потом снилось по ночам, звук тяжелого конского топота и падающих тел, ржание, хруст и скрежет. Австрийские всадники оказались неважными фехтовальщиками, и казаки рубили их, по словам деда, «як капусту».
Касьян хорошо помнил первого зарубленного им солдата – усатого красавца, который почему-то не стал отбиваться, а поднял руку с шашкой к своему лицу, видно, в предсмертном ужасе не соображая, как спастись от казачьей сабли. Касьян рубанул его наискосок по плечу, почувствовал, что сабля «загрузла», рванул ее. Тут подвернулся еще один австрияк. Отбив занесенную им шашку, Касьян ткнул в его грудь конец сабли и помчался дальше…
Вдруг перед ним возник высоченный всадник (сразу видно – гвардеец!), видать, офицер, потому что в руках у него был револьвер, и казак как-то бесчувственно понял, что он сейчас всадит в него пулю, и – не одну… Но тут его конь встал на дыбы, Касьян пригнулся. Выстрела он не слышал, да и того гвардейца больше не видел… А по соседству станичник матюгнулся и «хэкнув», опустил свою «шаблюку» на плечи подвернувшегося гусара. Прямо на Касьяна осадил коня другой станичник, оттесняя его лошадиным крупом. Он вывернулся, резанул по голубому мундиру мелькнувшего перед ним австрийца…
Кровавая схватка продолжалась, но вот Касьян почувствовал, что рубиться стало свободнее – австрияки, те, что еще не были сброшены нашими казачками на землю, повернули своих коней назад. Как потом рассказывал наш родич, их долго не преследовали – и без того австрийской конницы, как считается, после этого боя не стало: часть ее полегла под пулями нашей пехоты, остальных докончили казачки – кубанцы и донцы…

Казак и немцы. Плакат. Худ. Г. Нарбут
– У многих молодых казаков, – вспоминал дед Игнат, – после той рубки-резни от натуги отнялась правая рука. В горячке боя мало кто чуял чрезмерную натугу, а к ночи они трошки поостыли, кое-кто места не находил от боли: кромсать живу людину – не лозу рубать на учениях. Так что лозу – глиняное чучело не так сопротивляется, как человечья природа… Возьми шашку и зарубай, ну – свинью, к примеру! Э? А то – живую людину! Так что война – дело нелегкое… Но как ни трудно, а хлопцы поначалу воевали по-военному, нещадно… Впрочем, дед отмечал, что и потом тем же немцам, австрийцам и прочим, скажем, туркам, россияне все же перцу дали. Как ни говори, а за два с половиной года тогда пустили немцев только до Бреста, не то, что в сорок первом – за три месяца довели их аж до Москвы – и то сдержали-таки верх. А в Первую мировую наши союзники потом и без нас наклали германцам, а если б навалиться всем вместе, гуртом, то и война кончилась бы раньше, и потерь было бы меньше, и все было бы ладком… Но… Не сподобил Господь, разлюбил Россию. Видно, по грехам нашим нам и воздалось…
Из грехов народных дед чаще всего осуждал развившееся уже на втором году войны мародерство и, как он выражался, «бандитство», вдруг изнутри поразившее русское воинство.
– Грабиловка в Гражданскую войну расцвела, – говорил дед, – а началась она там, на той войне, империалистической. Набрали в армию черти кого, лапотников из глухоманных деревень, босяков и пройдох из городов и местечков, а они ж не воины-защитники, не потомственные казаки, не благородные рыцари-сотоварищи, а босота и подневольное быдло. Дали им ружья и послали воевать. А воевать по их понятиям – це грабить. Не внушили тем солдатам свято правило – нещадно бей врага в бою, щади пленного и пальцем не тронь мирного обывателя! По словам деда, на войне «трошки» мародерствуют все армии, и начальство на такие нарушения смотрит как бы не видя, ну, а босякам и пройдохам только дай повадку – там, где можно взять чужую иголку, «законно» загребают и нитку, а кто виноват, что на другом конце той нитки, может, привязан кабанчик или маленький, такой «зовсим маленький» бычок… Так грабиловка все ширится и скоро заполоняет все и вся.
Через год-полтора мародерство на войне стало массовым, и отцы-командиры своими силами уже не могли с ними справиться, пришлось направлять против грабительских подразделений специальные части, а где их взять? И вот казаков, как наиболее дисциплинированных и боеспособных, вместо того, чтобы использовать против германцев и австрийцев, начали посылать для наведения порядка в тылу.
В основном, конечно, для этого дела посылали донцев, их было больше, и они в таком мордобое имели свою сноровку, но когда они не управлялись, привлекали и ку банцев, ведь мародеры устраивали настоящие погромы, и не только по мелким хуторам и поселкам, а при случае курочили и большие города. Вот и нашему Касьяну однажды пришлось поучаствовать в разгоне и отлове таких мародеров-погромщиков.
Донцы, где нагайками, где построже, разогнали мародеров из одного поселка, и те разбрелись по окрестным перелескам. Кубанцев поставили в оцепление, а полевая жандармерия стала прочесывать местность, отлавливая тех бандюг, гуртовать из них команды и отправлять в верхний штаб для предания суду.
И в одно хорошее утро к казачьей кухне прибился посторонний солдатик, мало того, что малорослый и неказистый, так еще конопатый и с белыми волосами. Зубы редкие, а уши большие, торчком. Морда небольшая, но вся заляпана веснушками – вроде черти на рыле у него горох молотили. Уродил его дядя на себя глядя… В общем, приблудился не лучший солдат. Как в половодье, кому что, а нашему берегу то щепка, то дерьмо… Как будто бы отстал от своей части, вот теперь ее догоняет, а по всему видно, что крутит и всей правды не выкладывает. Но потом все же раскололся: участвовал-таки в грабеже в том злополучном местечке. У всякого скота своя простота: он, мол, как все – сначала разбили жидовские лавчонки на базарной площади, потом пошли по домам… А когда налетели донцы и жандармы, он дворами, огородами, а дальше оврагами выбрался в поле, переночевал в снопах. Барахло, что схватил в одном из магазинчиков, на всякий случай побросал в бурьянах, оставил себе только очки без заушин, но с позолоченным коромыслом, а может, и золотым. Решил, что если найдут при обыске, скажет, поднял на дороге, про тряпки такого не скажешь, а про цацку – чего ж, нашел, и все такое. Дурной, дурной, а хитрый…
Казаки решили его в трибунал не отправлять. Жалко стало ушастого – в трибунале под горячую руку могут из него «сгарбузовать» такого бандюгу, что ни одна тюрьма не примет. Да и прижился он, чертяка конопатая, при кухне – безотказно любую работу делал, дров там поколоть, казан помыть, или, может, еще «куда пошлют». Про звали его «Плюгай» – не то он сам так сказался, не то еще почему, но вот – Плюгай…

Казаки в походе. 1914 год
Так он при полевой кухне и проболтался с месяц, потом куда-то сгинул, как будто его жабы схарчили с галушками. И забыли про него, как вроде его и не было, ну, а если вспоминали, то жалеючи: где он, мол, и как, наш непутевый Плюгай?
Но пути Господни неисповедимы, а наши пути-дороги узки и ухабисты. Касьян вдруг встретил того Плюгая в Катеринодаре. Это было уже весной двадцатого года, когда «кадеты» только-только убрались из города, а «товарищи» только-только начали устраивать свою, как они говорили, самую справедливую власть на свете.
Оказавшись в городе, Касьян зашел к другу-сослуживцу, и тот предложил ему сходить в тифозную «лекарню» – поискать зятя, был, мол, слух, что тот лежит где-то в карантине с повальной в то время болезнью – тифом. И друзья неспешно направились «пошукать» родича. Бараки, а скорее – длинные низкие сараи с тифозными больными, были переполнены, в полутемных помещениях – душно и сумно. Пахло карболкой и чем-то непонятным, может, самой смертью…
Касьян обратил внимание, что, когда они шли по коридору, под чоботами что-то похрустывало: «хрусь, хрусь»…
– Воши, – объяснил санитар, – оцэж воны пэрэплазують от мэртвых до живых. В общем, те бараки нашим хлопцам не понравились, зятя они не нашли, не числился он в карантинных книгах ни среди «прибывших», еще живых, ни среди «убывших» – и живых, и мертвых. Но возле одного из сараев наткнулись они на расхристанных солдат, сидевших в холодке и игравших в карты. Среди них Касьян и узнал старого знакомого – мародера, белоголового Плюгая, такого же, каким был он прежде, ушастого, с мордой, засыпанной грязными веснушками. Проморгавшись, тот признал Касьяна, и тут же, не ожидая вопросов, объяснил, что был ранен под Тихорецкой, после выздоровления оставлен в рабочей команде при госпитале, а вот сейчас новая власть отправила его за старшего сторожа сюда, к тифозным, для помощи и охраны.
Когда они отошли от сторожей-картежников, санитар тихо посоветовал Касьяну много с Плюгаем «не балакать, бо як вин шкура и христопродавец» …
– А что ж це так? – спросил Касьян. – Что он, сатана ему брат, не ангел, я знаю. У каждого прохвоста своя короста… – То-тож, – подтвердил санитар. И коротко рассказал казакам, что, мол, этот ушастый стражник в госпитале, где он недавно ошивался, выдал красным нескольких раненых офицеров, и те тут же их прикончили – кого вывели на задворки, а кто идти не мог, того застрелили прямо в палате, на койке… Сестры и доктора попрятали все документы, а рыжий Плюгай все равно указал, кто среди раненых «золотопогонник», хотя никто из них по военному времени не успел и поносить тех золотых погон, и были они все больше подхорунжие и прапорщики, выслужившиеся из рядовых. Вот тебе и Плюгай, бисова его душа. Видно, что сделано в гузне, того не перекуешь в кузне… Ну, а к тифозным его прикомандировали за старшего сторожа, видимо, для присмотра – сами «товарищи» сюда ходить не любят, побаиваются: вошка – она в политике «не бум-бум», может прицепиться хоть к белому, хоть к самому красному…
Плюнул Касьян и, махнув рукой, пожелал Плюгаю и другим таким, как он, «плюгаям», сотню чертей под ребра и всего другого, чего никому путному пожелать нельзя, и чтобы его, того Плюгая, никогда-никогда больше не встречать. Однако ж тесно живут на грешной земле грешные люди и, как ни желал наш Касьян не видеться с Плюгаем, встреча такая все же состоялась.
Дня через три зашел он на «Черноморку» (тогда это была главная железнодорожная станция Катеринодара), узнать, когда ходят поезда в сторону его станицы, и решить, как ему сподручней добраться до дому. Народу на станции, как он и ожидал, было «под завязку, да еще с гаком».
К каким-либо кассам продраться не было никакой возможности, в вагоны сажали по пропускам разного начальства, а большей частью люди занимали места кто как сможет: кто самохрапом забирался в вагон через окно, кто лез на крышу. Касьян встретил станичника, тот сказал ему, что сегодня ночью на Тимашевку будет идти не то «бочкарь», не то грузопассажирский поезд, и знакомый ему железнодорожник обещал посодействовать. А вдвоем не только веселей, но надежней. Так что «прыходьтэ, Касьянэ, после полуночи!». На том и порешили, и тут Касьян увидел в центре привокзальной толоки какуюто свалку. «Когось бьют, – сообразил он, – может, и есть за что».
Толпа на какое мгновение разомкнулась, и Касьян увидел, что колотят двоих, и один из них ни кто иной, как его давний знакомый – белоголовый Плюгай.
– За что их волтузят? – спросил он кого-то из зевак. – За дело, – удовлетворенно ответил тот. – Оклунок с салом потягнули, бисовы хапуны. Тут их и застукали… Били «хапунов» основательно – ногами по ребрам, толкли мордами о землю. И если бы Касьян сразу не узнал Плюгая, через минуту-другую ему сделать это было бы невозможно: его белая голова стала черной от грязи и крови.
– Ежели б их так мордовали не только за сало, но и за другие их хвокусы, – говорил дед Игнат, – так може, и от великого греха удерж был бы. Наказание – оно ж первый шаг к покаянию. Може, всыпали б тому Плюгаю плетюганов ще там, на Галитчине, он бы одумался, и зла от него больше не было бы. Есть така порода людей, что без бича не зъисть и калача… – Была така война – германская, – вздыхал дед. – Там все и прорезалось, и тяга к переменам, и бандитство, и геройство…

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,
про то, как казаки узнали, что царя больше нету, народ получил волю и все «пошло-поехало»…
Туапсинская служба деда Игната не была тяжелой, особенно по военному времени.
– Так можно было три войны провоевать, – говаривал он, и вспоминал, что в горах поблизости от Туапсе была пещера, в которой по стенам ручейками стекал на стоящий мед. Правда, с горчинкой. Где-то в верхних ее расщелинах веками жили дикие пчелы, меду они натаскали «уйму, тай ще и с гаком», и по особо жарким дням он подтаивал, и где крупным дождичком капал, а где и тек по стенам пещеры, скапливаясь в ямках, трещинах и каменных бороздках. Пчелы в жару были сонными и мало беспокоили посетителей, в обычные же дни, особенно «на погоду», охраняли свое богатство с беспощадной жестокостью, и горе было тому, кто в такой день попытался зайти в ту пещеру – она гудела грозным гудом, и вся была наполнена этими жгучими, кусачими созданиями… Чем не служба: горы, море и даровой природный мед? Война хоть и напоминала о себе побитым оружием, приходившим для ремонта, но была далеко и не казалась страшной. Казарменная жизнь шла размеренно, и лишь изредка приходилось вести ремонт круглосуточно. И где та Германия-Мазурия, где те Дарданеллы с Босфором – для казачков-ремонтников, по словам деда, было «бай-дуже».
Но всякому покою, каким бы сладким он не был, рано или поздно приходит неизбежный «отбой». В конце шестнадцатого года вышло приказание – оборудовать мастерские в железнодорожных вагонах и быть готовым к отправке на Юго-Западный фронт.

На бивуаке
Фронт для них мыслился один – Кавказский, или как его больше называли – Турецкий. Дела там шли вполне прилично: несмотря на отдельные неудачи, российские войска уже были где-то за Трапезундом, то есть прошли, считай, полдороги до этих самых Дарданелл, нужды в которых для наших казачков не было никакой. Другим краем фронт шел в обход Святой земли, а летучий отряд казаков– уманцев сотника Гамалия[1919
Гамалий Василий Данилович (1884–1956). Герой первой мировой войны. Сотник, впоследствии полковник. В апрелемае 1916 г. во главе Первой сотни Первого Уманского казачьего полка совершил рейд через Персию (Иран) до Месопотамии для связи с англичанами, и обратно. В Гражданскую войну был на стороне белых, командовал вторым Кабардинским полком, потом бригадой. Ранен в руку под Перекопом. Эмигрировал сначала в Турцию, затем во Францию.
[Закрыть]] уже выскочил впритык к библейским райским землям – на речку Тигр. И гроб Господен был уже вот он – рукой подать! Да только турки опять выкрутились, как это часто с ними случалось и в раньших войнах, к примеру, при том же незабвенном Скобелеве.
Еще бы чуть-чуть, и Святые земли мы бы освободили, но не довелось.
Что было надо освобождать на западных фронтах, дед Игнат и его сослуживцы не знали, но так уж случилось, что их мастерские в конце-концов направили именно туда, на Запад.
– А жалко, – вздыхал дед. – На туретчине было б интереснее… Чем «интересней», он не уточнял. Просто он так считал. С турками воевали ближние и дальние родичи, знакомые станичники, они много рассказывали о тех боях-походах, и он давно, может, с самого детства, привык к мысли, что если война, то это, конечно же, с турками, а то с кем еще?
Незадолго до отъезда на фронт к нему в Туапсе заезжал отпущенный по ранению в отпуск двоюродный брат Григорий Спиридонович, хвалился, как они там за Араксом воют. Позвякивая двумя медалями, которых он сподобился за фронтовое служение, бахвалился своими приключениями, среди которых было и такое.
Как-то они с группой казаков-разведчиков заблудились в ледяных завалах на горе Арарат. Пролазив по ним целый день, они к ночи натолкнулись на голую скалу, поднимавшуюся из ледяного поля и припорошенную снегом. Решили тут, в затишке, переночевать. Утром же разглядели – скала не каменная, а вроде как бы из древесины выстругана. А откуда на такой верхотуре может случиться деревянное строение? Проводник, из близкоместных армян, сказал, что ничего в том странного нету – в теплую погоду, не каждый, правда, год, из-под векового «лёду» вытаивает Ноев ковчег, тот самый, что описан-прописан в Святом писании. Казачки поохали, руками его «помацали» – надо же! Про тот случай потом в газетах писали… Спиридоныч хотел было отколупнуть от святыни невеликий шматок, малую таку щепку, да древесина оказалась «як железна»! Вот такие случаи можно было пережить на туретчине!
Но хочешь не хочешь, а повелено отправляться на Юго-Западный фронт против австрийцев. Там уже воевали казаки-кубанцы из почти родного I-го Хоперского ее императорского высочества великой княгини Анастасии Михайловны полка, а в Терской казачьей дивизии приняли боевое крещение конвойцы уже совсем родной I-й лейб-гвардии Кубанской сотни, в которой более десяти лет назад провел свою военную юность наш дед Игнат.
И вот, в начале семнадцатого туапсинские оружейные мастерские, оборудованные в вагонах, двинулись ближе к войне. До Армавира добрались, как вспоминал дед Игнат, «разом», а дальше пошли пробки и заторы. Их эшелон частенько загоняли в тупики, пропуская поезда с войсками, на некоторых полустанках стояли дня по два, в Ростове застряли дней на десять. И лишь в начале марта оказались за Днепром, где их, как гром из черной хмары, застало известие о самовольном отказе-отречении от престола царя Мыколы.
– Оно ж было видно, что кругом непорядок, – говорил дед. – В Ростове бастовали заводы, потом железно-дорожники загудели, на станциях каждый день дезертиров ловили. А чого их ловить, як их – что пчел… Так мы и не такое бачили в девятьсот пятом году… Тогда был и мордобой и стрельба… Но чтоб царь, божий помазанник, хытнувся, а тем более с престола слез! Так этож уму не взять, не понять! Эшелон втолкнули на запаску, начальство поехало в штаб фронта, наказав ждать вестей и никого постороннего в вагоны не пускать. Зажурились казаченьки, задумались: ой, что будет? И обязательно вставал вопрос: а как война? Замиряться с германцем или не замиряться? Раз царя не стало, то на что нам те Дарданеллы и другие заморские земли?
Начальство, побывав у верхнего начальства, подтвердило, что царь действительно отказался от престола.
Может, хотел, чтобы его попросили не бросать державу, не сиротить народ, да только никто его об этом просить не стал, а власть захватили незнамо кто и обозвали себя хотя и временным, но правительством. И тут же объявили: война до победного конца! Вот тебе и на! Видать, те Дарданеллы не только царю были нужны…
Но народ уже взбаламутился. На станциях, что ни день, то собрание. Кто – «до победного конца», кто – «долой временных!». У каждого скота своя простота. Не разбери – поймешь. Куда конь с копытом, туда и жаба с хвостом… Повылезали на свет Божий всякие анархисты, эсеры, эсдеки и еще черти кто, о ком раньше не было ни слуху, ни духу. И конечно же – большевики. Всякого добра по лопате. И все за народ, за хорошую жизнь, за счастье и свободу. И каждая харя себя хвалит, а правды в ней, как у козы хвоста.
– Отож свобода, – вспоминал дед Игнат, – понималась так, что можно было делать все, что хочешь… Все дозволено… Выпустили народ на свободу, как яичко на горячу сковородку, и заскворчало… Разогнали городовых, шугнули из тюрем политических, как они были против царя, а воров та жуликов за то, что богатых обкрадали. И пошло, и поехало…

К оружейникам стали наведываться комитетчики и агитаторы: вы, мол, какие – левые или правые? «Та мы казаки! – отвечали те. – Мы не левые, не правые, мы просто казаки!». «Так, мол, не бывает, чтобы “просто”». «Ну, раз ты такой грамотный, то напиши слово “казак”, теперь читай: и слева направо, и справа налево – все равно получается “казак”»!». Плюнет такой агитатор, да сгинет с глаз. Так что и в раскардаш нас с панталыку не собьешь!..
К лету фронт стали бросать целые части. Кто-то из верхних штабов шепнул начальнику мастерских, что ему не надо ждать официальных приказов, а тихо-мирно отправляться в Катеринодар, тамошнее войсковое руководство определит их дальнейшую судьбу. И покатили наши оружейники назад – на ридну нэньку Кубань.
Есть под Воронежем узловая станция Лиски.
– То кацапы думают, что название того места увязано с хитроумною зверюгою лисицей, – усмехался дед. – А оно ж ясно, як день: «лиска» и есть «лиска», абож забор, плетень… Так мы через той «плетень» никак не могли перестребнуть, застряли на тих «лисках» аж на две недели – никак нам паровоза не давали… Потом таки сбалакались с железнодорожниками: за ведро спирту нас подцепили к какому-то эшелону… На Лисках к мастерским приблудился земляк – джэрелиевский казак Омелько Горбач, отлежавшийся в госпитале и теперь пробивавшийся «до дому, до хаты». Хлопец он был веселый, живой, с людьми сходился быстро. Из тех, кому и черт не брат, и свинья не сестра.
– А нам как раз такого и не хватало, – говорил дед Игнат. – В дороге, что выпала нам, бывает нужен такой Горбач, и для дела, и для веселья… Пока он латал свои раны в госпиталях, перевидал не один десяток таких же бедолаг-окопников из разных частей. И каждый ему что-то рассказал, о чем-то поведал. От него, Омелька, дед узнал, как воевала его родная конвойная сотня. Добре воевала. Вот только на войну она пошла под командой есаула Андрия Жукова, а вернулась с есаулом Грицком Рашпилем. Жуков же за отвагу и воинское умение был поднят в чине, принял полк. И быть бы ему, может, генералом, да только перед наступлением его отправили в тыл, в госпиталь, лечить застарелую грыжу. Андрей Семенович, устрашась, что его подчиненные подумают – забоялся перед ответственным боем – сам лишил себя жизни, застрелился. Вот так понимал свою честь и достоинство казачий офицер, царствие ему небесное…
Малосведущим казакам-оружейникам, проведшим почти всю войну в своих мастерских, как на забытой степной кошаре, Омелько рассказал, как мог, о разных партиях, тех, кто против власти. У них, надо полагать, была общая цель – все ниспровергнуть и «зробыть» новую жизнь, справедливую и прекрасную…
Тогда дед Игнат в первый раз услышал про Ленина. Верховодит, мол, у большевиков такой головастый и дюже хитроумный атаман-председатель. Заслали его в Россию германцы, чтобы войну кончать в их пользу. И он вовсе не Ленин, а Ульянин, «а, може, еще хто…»
– Про Троцкого мы узнали в Гражданскую войну, – вспоминал дед Игнат. – Остальных не было. Ну, потом явился Калинин, сказали, что – староста. А Сталин вып лыл на нашу голову совсем недавно, перед колхозами…
Рассказывал тот Омелько и о том, что большевики с их, значит, Лениным-Ульяниным, стоят за то, чтобы с германцем замириться, заводы и фабрики раздать рабочим, а землю – крестьянам. На счет замирения казаки были согласны – хотя и не нашего оно ума дело, но Дарданеллы нам, может, и вправду не нужны, живут там те турки и пусть себе живут. Видно, так уж заповедано, что все теплые места заселены не православными. Может, в том есть какой-то смысл: «неверы» сидят ближе к «пеклу» (аду)…
Что касается заводов и фабрик, то тут – «сумнительно»: как рабочие сами, без грамотного начальства управляться будут с ними, теми заводами? Ну, да это тоже не нашего ума дело – хай управляются, раз им того хочется. А вот на счет земельки – то «це не про нас», у нас, казаков, земли достаточно… А городовикам (т. е., иногородним) она не нужна, так как они не знают, что с нею делать. Ну, а тем из них, кто умеет хозяйствовать, можно и нарезать земельки от панских угодий. Зачем тому же генералу тысяча десятин? Хоть он и генерал… К тому же, слушок идет, что генералов и другое панство поразжалуют и упразднят, или они сами разбегутся, как те же жандармы и городовые. Ох, что же оно будет?… А может, перемелется и само собой утрясется?
К концу пути Омелько выбегал на каждой остановке и везде у него находились свояки или другие какие родичи. Он их изпод земли доставал, расспрашивал, приводил к вагонам. И те «свояки» приносили «крученые» новости, путанные известия о том, что делается на белом свете. В тяжких раздумьях ехали казаки-оружейники на родную «батькивщину», и даже всезнающий веселый Омелько с его шутками-прибаутками не мог развеять те думы и сомнения, что роились в чубатых казачьих головах…

В Катеринодаре их ждали хлопоты по сдаче в цейх-гаузы казенного добра, на что ушло недели две. Омелько тоже крутился вместе со всеми, помогая размонтировать и перегружать станки и, понятное дело, приводил к эшелону «свояков». Деду особенно запомнился один – чернявый, юркий хорунжий Васько Рябоконь, казак с хутора Лебяжьего, что под Гривенской, почти земляк-станичник. В молодых годах он служил в войсковом хоре, потом успел побывать на Турецком фронте, выслужил офицерские погоны, и вот вернулся в Катеринодар. От него казаки узнали о местных новостях, немного их успокоивших.
У того хорунжего был наборный серебряный пояс, а вот застежка у него заедала, и две бляшки-горошины утеряны. Дед Игнат починил ему застежку, из кусков хранившейся у него черкесской уздечки перенес недостающие украшения на ремень, а заодно приладил к ним три хвостика с такими же «под масть» концами. Получилось что надо. Обновил серебро раствором, и вручил сверкающий поясок хозяину – носи, земляк, радуйся! Тот действительно обрадовался, обещал магарыч, да как-то не пришлось, так как вскоре казаков, справивших все обязательные дела, спровадили по домам. Событие всегда радостное.
– И казалось нам, – с усмешкой вздыхал дед Игнат, – что смута и колготня в нашем житьи-бытьи кончилась… А она только-только прорезалась… Эх, где та туапсинская райская жизнь-житуха, с ее медовою пещерою, с загадочными «хатками» из великих каменьев, да с веселой кошкой Гэбой?








