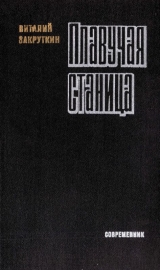
Текст книги "Плавучая станица"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Глава третья
1
Весна хозяйничала на реке. Все жарче становилось солнце. Распускались первые набухшие соками почки. Светлая зелень опушила ветви деревьев, на пойме зазеленели травы, белыми барашками нежного цветения покрылись надречные вербы. Унося все следы ледохода, сошла в море холодная «казачья» вода. В далеких верховьях реки, на северной стороне, за меловыми склонами Дивногорья, у великой Приволжской возвышенности, стекая бесчисленными ручьями с холмов, уже стала собираться прогретая солнцем талая «русская» вода. Медленным и неотвратимым паводком она стремилась вниз, к дельте, которая протянула к морю щупальца гирл, поросших кугою и камышом.
Уровень воды с каждым днем поднимался. Сначала исчезли в речных глубинах прибрежные косы и перекаты, потом утонули слоистые срезы более высоких берегов, оказались в воде цветущие белой кипенью вербы, а талая вода поднималась все выше и выше, бурлила под глинистыми ярами, размывая наносы и устремляясь во все стороны по ерикам. Наконец, выйдя из берегов, она понеслась веселым голубым разливом по бескрайним донским займищам, затопляя станицы, леса, поля, сады, виноградники – все, что попадалось на ее пути.
В эти дни голубовские рыбаки покидали станицу. На среднем участке реки вступал в силу строгий весенний запрет на рыбу. Начинался самый разгар рыбьего нереста, и все рыболовецкие артели переезжали в низовья.
Прощаясь с Василием, Марфа сказала ему, что она договорилась с Осиповной, своей старой теткой, и та пообещала через день приходить и варить обед Зубову и Витьке, который, несмотря на пылкое желание уехать в гирла, был оставлен в станице.
Уже одетая в парусиновую рыбацкую робу, неуклюжие сапоги, по-девичьи повязанная алой косынкой, Марфа стояла, опершись о косяк дверей, и, улыбаясь глазами, говорила Зубову:
– Вы же глядите, не скучайте, Вася. Тут остается много славных девчат. Что это вы – либо на моторке своей по реке гоняете, либо за книжками сидите. Разве ж так можно? – Она вздохнула и подала Зубову маленькую, с крепкой ладонью руку: – До свидания, Василь Кириллыч…
Василий поднялся, снял со спинки стула пояс и крикнул:
– Я сейчас догоню вас, Марфа Пантелеевна! Пойду проводить рыбаков.
Когда он вышел на улицу, Марфа была уже довольно далеко. Придерживая рукой корзинку с вещами, она шла легкой, молодой походкой, похожая в своей синей робе на девушку. Василий догнал ее, взял у нее корзинку и пошел рядом.
На берегу собралась вся станица.
Окаймленная молодой, еще неяркой прибрежной зеленью, розово-золотая от игравших на воде солнечных бликов, река, казалось, трепетала. И в этом едва заметном трепете было такое радостное выражение счастья жизни, что оно, словно теплый отсвет солнца, отражалось на лицах толпившихся на яру людей.
У затопленных причалов, выстроившись вереницей, стояли просмоленные рыбацкие дубы, на которых высились завязанные канатами невода, плетеные корзины, длинные шесты, ведра, ящики с инструментом – все, что могло понадобиться во время лова.
На каждом дубе виден был черный, покрытый копотью костров ермак – огромный чугунный котел, из которого не одно поколение голубовских крутьков со смаком хлебало наваристую рыбацкую шарбу [5]5
Шарба – казачье название ухи.
[Закрыть].
Возле дубов покачивались взятые на буксир баркасы и каюки. Они тоже были забиты корзинками, ящиками, ворохами одежды, мешками с мукой и хлебом, разномастным рыбацким добром, необходимым во время путины.
Василий и Марфа пришли перед самой посадкой рыбаков на суда.
Вдоль всего берега стояли мужчины и женщины, суетились ребятишки. Даже столетний дед Иона вышел проводить на путину двух своих сыновей, шестерых внуков и четырех невесток. Всматриваясь в разношерстную, гудящую, как потревоженный пчелиный улей, толпу, Василий увидел Груню. Она стояла рядом с Егором Талалаевым и улыбалась, слушая его болтовню. Заметив, что Василий пришел вместе с Марфой и, осторожно ступая по сходням, отнес на дуб Марфину плетеную корзину, Груня слегка нахмурилась. Потом она повернулась к Зубову спиной, еще веселее заговорила с Егором и стала ходить в отдалении, искоса поглядывая на Василия.
Зубов всего этого не видел, но Марфа, как видно, заметила. Тронув Василия за локоть, она как бы невзначай сказала:
– Вася, вам нравится эта девочка?
– Которая? – рассеянно спросил Зубов.
– Рыбвод наш, Грунечка Прохорова, вот она ходит с племянником Пимен Гаврилыча… Видать, интересный у них разговор… Славная девочка, правда, Вася?
– Не знаю, Марфа Пантелеевна, я не думал об этом, – мрачно буркнул Зубов.
Мимо них, громко переговариваясь, прошли Мосолов, Архип Иванович, Пимен Талалаев и трое членов правления. Мосолов посмотрел на залитую солнцем реку с затопленными берегами, вынул часы и сказал озабоченно:
– Ну, братцы, по баркасам! Пора!
Началась суматоха. Наскоро прощаясь с остающимися женщинами, стариками и детьми, рыбаки один за другим стали подниматься по сходням на дубы. Вся женская бригада деда Малявочки разместилась на последнем дубе. Первая смена гребцов, здоровенных румяных парней, села за весла. Стоявший на берегу Мосолов простился с бригадирами и махнул здоровой рукой:
– Добрый час! Счастливой путины!
Архип Иванович Антропов – он ехал в гирла за старшего – закричал:
– Поехали!
Гребцы взмахнули веслами. Колыхаясь на высокой воде, поскрипывая деревянными кочетками, дубы плавно двинулись вниз по реке. Василий, стоя на обрыве и держась за плетень, еще долго видел, как над последним дубом взлетала алая Марфина косынка.
Станичники стали расходиться по домам. Берег опустел.
Зубов вдруг почувствовал щемящую тоску одиночества. Он присел на обрыве и закурил.
Над водой, описывая круги, парила скопа. Раскинув могучие крылья и напружинив сильные, готовые к удару когтистые лапы, она кружилась над серединой реки. Вперив в речную глубь острый взгляд светлых, с желтизной, злобных глаз, птица примечала даже самое малое движение в реке. Сверкая белоснежным оперением подгрудка и наклонив хищную с бурым чубатым загривком голову, скопа несколько раз пересекла реку и вдруг замерла в одной точке, потом, сложив крылья, камнем ринулась вниз. Короткий удар, всплеск воды – и вот уже птица, тяжело махая пестрыми крыльями, понесла над разливом трепещущую в ее железных лапах чехонь.
– Вот это браконьер! – невольно улыбнулся Зубов. – Прямо как пикирующий бомбардировщик!
Он не заметил, как сзади, из виноградных садов, к нему подошли Груня и Егор Талалаев. Егору не очень хотелось встречаться, да к тому же еще и знакомиться с Зубовым, но, уступая Груне, он пошел с ней, важно заложив руку за борт франтовского суконного пиджака. Груня, в наброшенном на плечи жакетике и мягких, туго охватывающих ногу, спортивных туфлях, неслышно подошла к Зубову и сказала вполголоса:
– Проводили, Василий Кириллович, а теперь скучаете?
Василий вздрогнул, быстро обернулся, но, овладев собой, сухо ответил:
– Здравствуйте, Груня. Да, проводил и скучаю.
Тронув Егора за руку, девушка подвела его к Зубову:
– Знакомьтесь, это старший монтер с плотины, Георгий Авдеевич Талалаев, племянник нашего бригадира.
– Очень приятно, – не улыбаясь, сказал Зубов. – Я, кажется, уже видел вашего друга, Аграфена Ивановна.
– Где же именно вы меня видели, товарищ инспектор? – блестя цыгановатыми глазами, спросил Егор. – Мы с вами, кажись, нигде не встречались.
Не ответив Егору, Зубов повернулся к Груне:
– Я вам нужен, Аграфена Ивановна?
Девушка вспыхнула, исподлобья взглянула на него и нервным движением пальцев сломала сухую лозинку, которую держала за спиной.
– Нет, Василий Кириллович, – сдерживаясь, чтобы не заплакать, сказала она, – вы мне не нужны… Это я так… Извините, пожалуйста, если мы вам помешали… До свидания.
И, не дожидаясь оторопевшего Егора, Груня быстро пошла между рядами воткнутых в землю виноградных кольев и исчезла за вербами. Талалаев побежал следом за ней.
Разговор с Груней окончательно испортил Зубову настроение.
«Что ей было нужно, не понимаю? – сердито подумал он. – Гуляла со своим монтером, ну и пускай бы себе гуляла. Я-то ей зачем?..»
Но, думая так, Василий испытывал горькое чувство обиды и ревности.
«Больше никогда не пойду к Прохоровым, – говорил он самому себе, – и встречаться с ней больше не буду. Хватит!»
Так он говорил себе, а сам думал о темных Груниных ресницах, о милых, чуть припухших губах, о стройной ножке, на которой так ладно сидела кожаная спортивная туфелька. И чем больше он думал об этом, тем сильнее растравлял себя: «Нет, не пойду… ни за что не пойду и даже разговаривать не буду… Не нужна она мне…»
…Егор догнал девушку, пошел с ней рядом и, заглядывая в ее расстроенное, подурневшее лицо, сбивчиво заговорил:
– Что я вам скажу, Аграфена Ивановна… Давно уже собираюсь сказать, да только случая подходящего не было… Может, вам и не дюже интересно будет слушать мои слова, так это дело ваше… А я уже больше года надеюсь поговорить с вами, только никак не могу рискнуть…
Самоуверенный Егор путался, бормотал что-то непонятное, и Груня, не глядя на него, спросила:
– Чего вы хотите, Георгий Авдеевич?
– Вашей взаимности, Грунечка, – выпалил Егор и, сказав это, как будто сбросил с плеч гнетущую тяжесть и заговорил своим обычным нагловато-веселым тоном: – Работаю я на шлюзу, работенка у меня подходящая… Деньжат хватает… Живем мы с батей вдвоем, да батя уже, как говорится, на ладан дышит. Усадьба тридцать соток, обшелёванный домик, садок яблоневый на двенадцать корней, двадцать виноградных кустов… ну и, обратно же, коровка своя, барахлишко всякое в доме…
Егор взял Груню за локоть и сказал, обжигая ее цыганскими, влажными, как терн под дождем, глазами:
– Одним словом, хозяечка мне нужна, Аграфена Ивановна… Жениться я задумал… Записаться в загсе, честь по чести, как положено по закону…
– Ну и что же? – передернула плечами Груня. – При чем тут я?
– Вы-то тут как раз и при чем, – засмеялся Егор, – потому что я, Грунечка, на вас вид имею и слова вашего ожидаю.
– Какого слова, Георгий Авдеевич?
Егор остановился и загородил девушке дорогу. Внезапным движением сильных рук он привлек ее к себе, придержал за плечи и заговорил глухо:
– Понравилась ты мне, Грунечка… ночи из-за тебя не сплю… Прошу по чести моей женой стать… Я не обманываю… я по закону хочу.
Прижав Груню к себе, он коснулся ее губ горячим ртом.
– Что вы, Георгий Авдеевич?! – испугалась Груня. – Оставьте. Оставьте меня, иначе я закричу! Слышите? Не смейте!
Она вырвалась из его объятий и отбежала за редкий, зеленеющий молодыми листочками виноградный куст.
– Как не стыдно! – с сердцем крикнула Груня. – Вы что? Силу свою показываете?
Приглаживая жесткие черные волосы, Егор засмеялся:
– Какую силу? Разве нельзя побаловаться?
Груня перескочила через плетень и, не оглядываясь, побежала к станице.
2
Вода с каждым днем все прибывала. Уже затоплен был весь лес на Церковном рынке, по самые кроны утонули в разливе цветущие вербы Тополихи, исчезли под водой Бабские луга, и, наконец, вода, пробираясь по чуть приметным падинам, устремилась в станицу. Подмывая плетни, руша насыпанные станичниками земляные преграды, теплая, сверкающая на солнце вода разлилась по широким улицам, хлынула в колодцы, погреба, ледники, стала рвать доски на деревянных ступенях каждого крыльца, полилась, вышибая стекла и просачиваясь через рамы, в избяные низы, откуда предусмотрительные хозяева вынесли всю домашнюю рухлядь.
По бескрайнему займищу поплыли прошлогодние стога сена, вырванные с корнем деревья, разметанные скирды соломы. Голубовцы едва успели выгнать из затопленных базов ревущую скотину и погнали ее на Пески – огромный с пологими склонами холм, стоявший среди залитого водой займища, как остров в синем море. К счастью, на Пески вела ровная, как натянутая струна, возвышенность – Бугровская грядина, по которой можно было гнать быков, лошадей, коров с телятами, овец, коз. Там, на этой грядине, и паслось большое голубовское стадо, выщипывая молодую, еще не набравшую силы траву.
Вся Голубовская уже была затоплена из конца в конец. На сбитых паводком плетнях виднелись только верхние колышки, каменные низы домов утонули в воде, на деревьях и на крышах пели петухи и отсиживались перепуганные куры; между ними, задрав хвосты и брезгливо потряхивая взмокшими лапками, разгуливали призывно мяукающие коты. Собаки жались к дверям домовых верхов, а некоторые храбро пускались в плавание.
У каждого порога стоял на приколе маленький, легкий на ходу каюк, и люди, если им надо было побывать в сельсовете, в магазине сельпо или правлении колхоза, усаживались в каюки и плавали по улицам, вздымая веслами радужные брызги. После отъезда рыболовецких бригад в низовья все оставшиеся в Голубовской станичники – мужчины и женщины – надели высокие резиновые сапоги, с голенищами, подтянутыми до самого пояса. Кое-где люди отыскивали брод и переходили улицы, шагая по колени в воде. Резиновые сапоги были в таких случаях незаменимой обувью.
По воскресеньям на станичной площади, между аптекой и правлением полеводческого колхоза, собирался плавучий базар: колхозницы привозили на каюках крынки со сметаной, бутылки с молоком, картофель, соленую рыбу, связанных попарно цыплят. Покупатели, лихо управляя легкими каюками, пробирались между затопленными базарными стойками, приценивались к продуктам и, купив бутылку молока или десяток яиц, уплывали к своим усадьбам.
Василий впервые в жизни наблюдал такое зрелище. Вместе с Витькой он починил старый Марфин каюк и с утра до вечера плавал по затопленной станице, любуясь ее великолепным, почти сказочным видом. В станичных садах уже зацвели стоящие в воде деревья, и тонкие ветви их, осыпанные белой кипенью пахучих лепестков, отражались в спокойном, широком, как небо, голубом разливе. Над деревьями с тихим жужжанием кружились сытые, охваченные сладостной ленью шмели, серые аленки, красные солнышки с прозрачными крыльями.
Спасаясь от губительной воды, на ветвях багровели целые колонии насекомых. Легкий весенний ветерок нес по всей станице крепкий, дурманящий запах цветущих деревьев, трав и влажной, теплой земли.
Время от времени Зубов выезжал с досмотрщиком ка своей моторной лодке.
Сверкая медью и стеклами, оставляя за кормой пенный, разбегающийся веером след, нарядная «Стерлядь» летела по разливу, точно выпущенный из пушки снаряд. Воде, казалось, не было конца: до светлеющих на горизонте правобережных донецких высот разлилась она могучим, спокойным потоком, сровняла все холмы и западины займища, накрыла ерики, озера, мочажины и остановилась, застыла, отражая чистую голубизну сияющего неба.
– Эх, красота какая, Василь Кириллыч! – вздыхал Прохоров, осматривая необъятную водную гладь. – Вот родился я в этой станице, вырос тут, уже, можно сказать, стариться стал, а все не могу налюбоваться на наши места и считаю, что красивше их нету на свете.
– Да, Иван Никанорович, красиво! – соглашался Василий.
– Куда уж красивше! Тут бы только жить и жить в этой благодати.
Поглядывая на Зубова кроткими, слезящимися глазами, кашляя и сморкаясь, досмотрщик бормотал умиленно:
– И ведь злого немало у нас есть… На днях вот мошка налетит, цельная туча мошки, спасенья от нее не найдешь… Потом, апосля мошки, комар заявится и, чуть солнышко на закат, зачнет грызть, проклятый… А ведь, скажите, любят наши люди свои места. Ни мошка, ни комар, ни наводнение – ничего наших станичников отсюда не выгонит! Привыкли!
Слушая словоохотливого досмотрщика, Василий несколько раз порывался спросить у него о Груне, но сдерживал себя и заговаривал о чем-нибудь другом.
Так, в своей быстроходной «Стерляди», проводил он целые дни, записывая в дневнике ход рыбьего нереста.
А нерест с разливом реки вступал в свою силу.
Вначале, еще при сломе льда, отнерестился налим. За ним – тарань, потом заиграли язи и жерехи, и наконец наступила пора нереста самой промысловой и важной рыбы: судака, леща, сома, сазана, сельди.
Первым снялся с зимовальных ям и пошел бродить подо льдом гуляка-лещ, которого станичники издавна именуют чебаком. Чебак даже зимой не любит крепкого сна, а в теплые зимы и вовсе не сидит на месте, разгуливая по омутам и под крутоярами. Когда же наступают весенние дни, чебаки партиями движутся на нерестилища, выискивая тиховодные неглубокие места с луговыми травами. Сперва играют свадьбу холодные лещи, которые зимовали в реке, а уже за ними выходит из залива и моря главная масса «теплых лещей», чующих приближение насквозь прогретой солнцем «русской» воды.
Иногда чебаковый косяк ведет опытный, старый «князек» – здоровенный чебачина, у которого пожелтевшая от старости чешуя крупнее двугривенного, а весь он отливает червонным золотом. Голубовские рыбаки, поймав неводом такого «князька», обязательно выкидывают его обратно в реку, веря в то, что «князек» снова приведет в это место стаю чебаков.
Лещ – рыба сторожкая. Даже при малом шуме она уходит и не скоро возвращается в беспокойное место.
– У нас в старину, – рассказывал Василию дед Иона, – во время чебачиного хода рыбаки требовали у попа, чтоб он даже в праздники не звонил в церковные колокола и не распугивал своим звоном нерестующих чебаков. Приходилось попу подчиняться, потому что чебак дюже нервная и капризная рыба…
Деду Ионе, с которым любил поговорить Василий, из всех рыб больше всего нравились сазаны. О сазанах он рассказывал с упоением, с таким азартом, что на его иссохших, морщинистых щеках появлялось даже слабое подобие румянца.
– Сазан – энто рыба! – покачивал головой и причмокивал языком дед Иона. – Энто всем рыбам рыба! Донской король!
– Ну, дедушка, разве только о сазане можно говорить? – пробовал возражать Зубов. – А возьмите белугу или осетра, или стерлядь, да и того же леща! Плохая рыба?
– Не то, сынок, не то! – жевал губами старик. – Сазан – энто рыба! А то – так. Рыбка!
И дед Иона рассказывал Василию о жизни сазанов с такими подробностями, будто сам прожил свои сто лет под водой, по соседству с сазанами.
– Как наступят холода, – говорил дед, – сазаны идут искать зимовье. В это время они уже едят мало, а шкорлуха ихняя зачинает одеваться сленью, навроде шубы или же полушубка. Ну, найдут они какой-либо опечек или же, скажем, яму и давай пристраиваться. А в яме, бывает, уже сомы зимуют: повсунули рыла в иловатую мякинку и спят, как ведмеди. Летом сазан и не подступил бы до сома: тот враз пасть разинет; а тут другой коленкор: лежат сотни сомов навроде дровеняк, хоть танцуй по их. Ну, сазаны покрутятся, покрутятся и давай один по одному укладываться на сомов. Так и зимуют двумя этажами: сверху сазаны, снизу сомы.
– Только ледок таять пойдет, – закрыв глаза, продолжал дед Иона, – так сазан просыпается на своих становищах. Спервоначала он далеко от ям не идет, тут же и прогуливается, а потом, как солнце пригреет и «русская» вода с теплотой вниз двинется, зачинает сазан свой ход на свадьбу.
Все больше оживляясь, дед Иона переходил на свистящий шепот и хватал Зубова за руку:
– Сазан идет на нерест с блеском, с буйством, с баловством, прямо-таки как подгулявший казак. Ежели ему, скажем, надо через мель какую перебраться или препятствие обойти, так он смело сигает вверх, выскакивает из воды, плюхается назад, обратно скачет, и все это, заметьте, весело, яро, шумно…
Василий слушал бесконечные рассказы деда Ионы, всматривался в темное, с тонкой, словно пергаментной, кожей лицо старика и видел, как этот столетний человек оживает, вдыхая запах весны, и каким блеском начинают сверкать его бесцветные, затянутые старческой мутью глаза…
А весна брала свое, и уже по всем затопленным займищам большой реки сновала нерестящаяся рыба: чем крепче пригревало солнце, тем большими табунами выплывали на свои нерестилища громадные, похожие на замшелые колоды сомы; бесчисленными косяками шла в верховья сверкающая, с синеватым отливом сельдь…
И всюду, по всему неоглядному, отражающему бездонное небо голубому разливу, начался незаметный для человека, но буйный и яростный, как сама весна, рыбий свадебный праздник.
В самый разгар рыбьего нереста появились несметные тучи мошкары. Казалось, будто эти заполнившие воздух крошечные существа непрестанно выходят из водных хлябей. От мошкары не было спасения нигде: подобно поднятому бурей песку, она облепляла пасущиеся на грядине стада, забивалась животным и людям в ноздри, в уши, в глаза, проникала в каждую складку одежды, гибла во множестве и тотчас же появлялась в еще более великом множестве, словно массой своей мстила за малую величину, и несметным количеством отвоевывала место под солнцем.
Все голубовцы ходили, накинув на головы смоченные в керосине обрывки рыбацких сетей. Пока в этих сетках держался едкий керосиновый запах, он хоть немного отгонял мошкару, но стоило сетке высохнуть, как мошка налетала на человека, забивалась ему за пазуху, за воротник, в волосы, в рукава и каждым своим прикосновением причиняла нестерпимый зуд.
Особенно страдали дети. У них не хватало терпения примириться с зудом, и они до крови расчесывали себе щеки, шею, ноги, руки.
– Это мучение будет до той поры, покедова зинчики налетят, – успокаивала Василия старая Осиповна, приходившая варить обед вместо Марфы.
– Какие зинчики? – морщился пестрый от расчесов Зубов.
– Ну какие… Как они у вас по-книжному именуются? Стрекозы, что ли? Как только зинчики налетят, они мошкару враз сничтожат, поедят всю, и следов ее не останется…
Василий спрашивал с тоской:
– А скоро они налетят, ваши зинчики?
Пожевав губами, старуха отвечала хладнокровно:
– Может, через месяц или через полтора месяца, это разно бывает…
В один из жарких воскресных дней Зубов решил съездить на займище и посидеть с ружьем в затопленном Кужном озере. Там, в этом озере, водилось много больших кряковых уток. Скрытые от человеческого глаза густыми зарослями непроходимой куги и камыша, утки уже начали гнездоваться в Кужном, и Василию захотелось понаблюдать за ними.
Одноглазый Яша подал сердито урчащую «Стерлядь» под самый порог Марфиной хаты. Смочив керосином кусок невода, Василий накрылся от мошки, захватил ружье, взял в сумку хлеб и кусок сала, и «Стерлядь» помчалась по станичным улицам, вышла за околицу и понеслась по разливу в ту сторону, где синели камыши Кужного озера.
Через четверть часа моторная лодка была на месте. Яша заглушил мотор, натянул на лицо рубашку и растянулся на лодочной скамье, готовясь уснуть. Василий поднял голенища непромокаемых сапог, подвязал их ремешками к патронташу, сунул в карман полинявшей синей спецовки кусок хлеба и, взяв двустволку, побрел в камышовую гущину.
Солнце припекало довольно крепко. Над озером носилась темная туча мошки. Перед Василием вставала зеленая стена камыша, в которую вкраплены были ломкие желтые стволы прошлогоднего старника. Камыш и куга оказались высокими – в два человеческих роста. Когда Зубов залез в чащу и пошел по колени в воде, он сразу потерял горизонт и стал ориентироваться только по солнцу.
Идти было тяжело: приходилось все время раздвигать руками густой камыш. Ноги цеплялись за подводные кочки, руки царапал колючий, режущий, как острый нож, камышовый старник. Мошка вилась над Зубовым беспрерывно, но крепкий запах смоченной керосином сетки пока предохранял его от укусов.
Василий знал, что посреди озера есть связанные между собой пространства чистой, не заросшей камышом воды, которую станичники называли плесками. Но эти плески не так легко было найти, потому что в камыше, раскинувшемся на несколько километров, не было ни одной тропинки. Как раз на плесках и можно было встретить уток.
Долго плутая по камышам, Василий все-таки выбрался к чистой воде и решил посидеть. Он облюбовал густой камыш между двумя плесками: первой, круглой, и второй, продолговатой; нарезал ножом ворох камыша, связал его снопом и устроил себе сиденье. Потом он тщательно замаскировался, сел и положил на колени ружье.
Ждать пришлось недолго. Через четверть часа на круглую плеску, совсем близко от Василия, сел матерый селезень. Где-то неподалеку закричала спрятанная в камышах утка. Красавец селезень, видимо, готовился к встрече. Нежно-сизый, с кофейной грудью, с двумя темно-синими вставками в крыльях и кольцеобразными завитками на подвижном хвосте, он горделиво поднимал блестящую, как бархат, изумрудную голову, чистил и приглаживал широким клювом каждое перышко, и его ослепительно-белый воротничок резко выделялся на гибкой, грациозно выгнутой шее.
«Ну как же в такое чудо стрелять?» – усмехнулся Василий.
Селезень покрутился на плеске, несколько раз хлопнул крыльями и, охорашиваясь, поплыл навстречу своей подруге. Потом до Василия донеслось их радостное кряканье, шум потревоженной воды и потрескивание камыша.
На воде то здесь, то там вскидывались сазаны. Василий слышал их характерное причмокивание и наблюдал игру озорной рыбы. Он смирно сидел на своем камышовом снопе, муть под его ногами давно улеглась, и он видел мечущихся, как стрелы, мальков, но не мог на глаз определить: к какому семейству принадлежат эти юркие, недавно выросшие из выметанной икры рыбки.
Вспоминая все, что на протяжении последних месяцев произошло с ним в станице, Зубов вспомнил и годы учебы и подумал о том, что техникум с его лабораториями, лекциями, так называемыми практическими занятиями все же не дал ему и его товарищам знания той жизни, с которой он встретился только тут, в этой плавучей станице, где все выглядело не так, как он представлял себе раньше…
«Да, обо всем этом мне говорили, – подумал Зубов, – говорили и о законных восьми процентах прилова, но не предупредили, что меня будут упрекать в том, что я, следуя правилам, якобы подрываю выполнение колхозного плана…»
Размышления Зубова были прерваны шумом воды, который он услышал в конце правой длинной плески.
Ему показалось, что у камышей плывет целая стая уток.
Шум и плескание усиливались, все громче и громче потрескивал камышовый старник. И вдруг Василий увидел вышедшую из камыша Груню.
В белой майке и в мальчишеских синих трусах, она шла, отмахиваясь от мошкары, встряхивала мокрыми волосами, часто садилась в воду, смешно надувая губы и сосредоточенно всматриваясь в суету мальковых стаек. Когда она поднималась, с ее прямых волос, с шеи и с маленьких загорелых рук стекали сверкающие на солнце капли воды.
Она была так близко от Василия, что он увидел даже розовые пятнышки москитных укусов на ее шее и румяных щеках. Не зная, что делать, Зубов с бьющимся сердцем смотрел на приближавшуюся девушку. Она прошла мимо него на расстоянии трех шагов и, подминая исцарапанными босыми ногами колкий камыш, исчезла в густой чаще.
Слушая утихающее плескание воды и шорох камыша, Василий подумал, что Груня приснилась ему, но вдруг она запела негромким, охрипшим от ветра и долгого молчания голосом.
И, слушая Грунину песню, Василий понял, что он любит эту девушку, любит всем существом, как воздух, как пахучие белые деревья и веселых птиц, как этот безбрежный разлив, отразивший в себе голубое небо и нестерпимо пылающее яростное солнце.
Она уже была далеко, когда он бросился догонять ее. В непролазной чаще высокого камыша трудно было найти человеческий след. Только медленно поднимающиеся из воды камышовые стебли, недавно примятые Груниными ногами, выдавали направление, по которому она шла. Песня ее умолкла, и Василий наугад шел среди камышей, несколько раз сбивался, два раза упал, споткнувшись о подводные кочки, набрал полные сапоги воды и потерял свою смоченную керосином сетку.
Они увидели друг друга на чистой плеске.
Груня густо покраснела, исподлобья глянула на Василия и, не зная, что сказать, жалобно пробормотала:
– Камыш колючий… ноги изрезала до крови…
Василий тихонько засмеялся. Наклонившись, он подхватил Груню на руки, бережно прижал к себе ее влажное, прохладное тело и понес по разливу, идя боком, чтобы ее не исцарапал жесткий камышовый старник.
А она, доверчиво обняв его за шею, сказала, не думая о том, что говорит:
– Не надо, Вася…
Как будто не слыша Груниных бессвязных слов, Василий целовал ее мокрые волосы, глаза, щеки, и она, отстраняя его слабым движением руки, повторяла:
– Не надо… я пойду… тебе ведь тяжело…
– Почему тяжело? – удивляясь и радуясь своему счастью, сказал он. – Мне совсем не тяжело… Тут есть тропинка… Я донесу…
Он донес ее до тропинки, осторожно опустил в воду, и они, держась за руки, пошли к лодке.
Зубов разбудил дремавшего моториста:
– Заводи, Яша! – весело закричал он. – Поедем на Донец!
Мотор фыркнул, как застоявшийся конь, и лодка, вздымая пылающую золотом пену, понеслась по разливу к голубым холмам…
3
Голубовский колхоз получил телеграмму-молнию о срочной подготовке к спасению рыбной молоди. Беспокоясь о выполнении плана добычи, Мосолов созвал заседание правления и предложил решить вопрос о спасательных работах так, чтобы они не оторвали рыбаков, занятых ловом в низовьях реки.
На заседание был приглашен и Зубов.
В просторной комнате правления Василий застал человек пятнадцать. Мосолов вызвал группу комсомольцев, часть которых уже работала в бригаде Груни Прохоровой. С низовьев на три дня приехали Антропов и дед Малявочка; они тоже присутствовали на заседании. На скамье у стены сидело несколько пожилых женщин.
Груня стояла у окна, сердито слушая Мосолова. Лицо ее разрумянилось, брови были нахмурены. Глядя куда-то в угол, она нервно теребила пепельно-русую прядь волос.
Посмотрев на присевшего рядом Зубова, Кузьма Федорович сказал, очевидно продолжая свое выступление:
– Раз народа у нас мало – значит, выше себя не подскочишь. Не буду же я снимать ловцов из бригады и бросать их на спасение молоди! Мне этого никто не позволит сделать. Придется обходиться теми силами, которые есть в наличии… План срывать я не могу.
– У нас всегда так, – перебила его Груня, – если дело касается спасения молоди, то помощи тут никогда не добьешься, потому что вы, Кузьма Федорович, считаете это детской забавой!
– Погоди, Прохорова! – отмахнулся председатель. – Никакой забавой я это не считаю, но чего не могу сделать, того не могу. Надо мобилизовать на спасение молоди комсомол и тех стариков, которые дома остались. Нехай поработают.
Груня насмешливо фыркнула:
– Вы мобилизуйте деда Иону, он за вас все сделает.
Женщины засмеялись. Усмехнулся и Антропов. Он попросил у председателя слова и заговорил, покалывая Мосолова буравчиками стальных глаз:
– Тут надо рассудить по-хозяйски, Кузьма Федорович. План добычи – это ведь только одна часть общего производственного плана колхоза. А нам надо выполнить не только часть, а все, что положено. Спасение молоди не игрушка. Ежели у нас ребятишки будут с черпаками по займищу бегать, то мы толку не добьемся. Надо осмотреть все места, прорыть каналы, выполнить всю мелиоративную работу, какая нужна, приготовить тару для перевозки молоди, закрепить транспорт – одним словом, подготовиться как следует.








