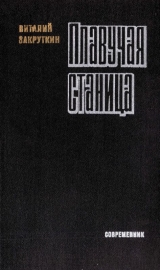
Текст книги "Плавучая станица"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Дремавший под кустом Семка еще не замечал Зубова, хотя каждую секунду, отгоняя дремоту, протирал глаза и всматривался в темноту. Зубов тоже не заметил Семку, так как все свое внимание обратил на подплывающий к берегу баркас.
Баркас еще не успел коснуться прибрежного песка, как вдруг в темноте вспыхнул прожектор и раздался совсем близкий стук лодочного мотора. Голубоватый луч прожектора подвинулся от фарватера к мелководью и осветил сбившихся на носу баркаса парней. Только на одно мгновение резкая полоса света выхватила из темноты второй баркас, который, повинуясь бешено работающим гребцам, пересекал фарватер, устремляясь к берегу.
Если бы Егор Талалаев обратил внимание на этот второй баркас, он увидел бы в нем Антропова, Мосолова, Груню, Тосю Белявскую и двух молодых ловцов сетчиковой бригады. Но ни Егор, ни Трофим не видели этого баркаса, потому что смотрели на подлетавшую слева моторную лодку, с которой раздался голос Егора Ивановича:
– Сто-ой!
Соскочив на берег, парни бросились к лесу, но им пересек дорогу Зубов.
– Стой, ни с места! – закричал он, бросаясь к бегущему впереди Трифону.
В эту секунду Семка, с которым поравнялся Зубов, выскочил из-за деревьев и, разинув рот, застыл с ломом в руке. Василий мгновенно вышиб у него лом и ухватил его за пояс.
– Подожди, не торопись, – сказал Василий, – иди сюда.
– Завертай быков и жарь в лес! – заорал Егор.
Парни кинулись вправо, но перед ними вдруг выросла освещенная прожектором коренастая фигура Антропова. Сунув за ремень сжатые кулаки, широко расставив ноги, Архип Иванович стоял на узкой тропинке, и за его спиной Егор увидел фигуры ловцов.
– Ну, здорово, Талалаев! – сквозь зубы сказал Архип Иванович. – Теперь уже бежать некуда, теперь вы со мной встретились, а ты, кажись, меня знаешь…
Парни исподлобья поглядывали то на Антропова, то на Василия, возле которого, подняв с земли лом, стоял оробевший Семка.
Не вынимая из-за пояса сжатых кулаков, Архип Иванович повернулся к парням и бросил коротко:
– Ну что ж, сидайте в баркас.
Молодой ловец принял из рук дрожащего парнишки налыгач и погнал быков вдоль берега. Окруженные рыбаками, браконьеры, понуро опустив головы, полезли в баркас.
– Сдайте их в сельский Совет, – сказал Архип Иванович, – и пришлите со второй бригады людей, нехай вытянут невод…
Невидимый невод покачивался в черной реке, и взбаламученная вода плескалась, набегая на истоптанный, похолодевший за ночь песок.
4
Когда с деревьев осыпались листья и садоводы стали зарывать в землю виноградные лозы, над станицей полетели дикие гуси. Им предстояло совершить далекий, трудный путь, и летели они неторопливо, выдерживая ровный строй – птица за птицей и стая за стаей. Утром и днем в холодноватой чистой синеве неба видны были темные точки улетавших на юг гусиных стай и слышалось звонкое гоготанье – перекличка в пути. Иногда порыв встречного ветра сбивал летящих сзади молодых гусей, они ломали линию строя, тревожно кружились над степью, и старый вожак, замедлив размеренный лет, звал их резким гортанным криком. Они возвращались на свои места, и стая летела дальше и дальше, в подернутую белой дымкой синеву.
И все же, бывало, на озере или где-нибудь на мелководье степного ерика оставалась обессилевшая старая гусыня. Ей уже трудно было поспеть за стаей, и она летела одна, часто опускаясь на землю и отдыхая от полета…
Заболоченные берега ерика были испещрены засохшими, как камень, следами воловьих и конских копыт. Тихонько покачивались поломанные стебли бурого камыша. Отражая холодное солнце, чуть рябила под ветром прозрачная вода, и вокруг стоял горький запах осыпающейся полыни.
По длинному ерику плавали юркие нырки, на излучинах, у берега, бродили по болоту тонконогие кулики-поручейники, и одинокая гусыня казалась им великаном. Она долго сидела, покачиваясь на воде, всматривалась, вытянув шею, в пустынную синь неба и, вдруг услышав далекий клич невидимых гусиных стай, разбегалась, тяжело хлопала крыльями и взлетала, роняя капли воды. Под ней, однообразно бурая, по-осеннему тусклая, проносилась земля, на которой мелькали отбрасывающие тень высокие скирды соломы, темные квадраты зяби, серые ленты проселочных дорог, станицы и хутора.
Гусыня летела все дальше на юг, ее обгоняли чужие стаи. Проводив их коротким криком, она тщетно всматривалась в повитое дымкой поднебесье и упрямо продолжала трудный полет…
– Ничего, долетит, – следя за гусыней, говорил Щетинину Егор Иванович, – а ежели своих не найдет, то до чужих пристанет…
С наступлением осени Егор Иванович все чаще уходил с профессором Щетининым на берег и подолгу сидел с ним, рассказывая о своей жизни.
За последние недели до Голубовской дошли сведения об отдельных экземплярах меченых белуг, причем в этих сведениях не было ничего утешительного.
Одну мертвую белугу нашел выше плотины бакенщик Анисим. Ее прибило к камышам, и когда Анисим тронул веслом огромную рыбу, он увидел, что ее брюхо изранено чем-то острым. Бакенщик снял с белуги латунный ярлык и принес его Щетинину.
– Вот, товарищ профессор, – сказал Анисим, – с вашей рыбы снял, она лежит снулая в устье Дона…
Щетинин молча взял ярлык, повертел его между пальцами, поговорил с бакенщиком, потом вынул записную книжку и записал: «Белуга № 54. Самка. Снулая. Икра слабая…»
Через два дня лесник Антон Белявский, проверяя тополевый участок на Чебачьем острове, увидел на песчаной косе белужью голову. Присев на корточки, он долго осматривал песок, потом снял с белуги ярлык и пробормотал:
– Должно быть, волной выкинуло на берег, а лесное зверье растащило рыбину по кускам…
И опять в книжечке Щетинина появилась лаконическая запись:
«Голова меченой белуги-самки № 84 обнаружена на косе у Чебачьего острова».
Еще через три дня от районного инспектора рыболовного надзора в адрес профессора пришла телеграмма: «Возле станицы Багаевской рыбаками найдена снулая белуга № 61 точка Направляю акт осмотра и ярлык…»
Старые голубовские рыбаки знали, что Щетинина очень тревожит судьба переброшенных за плотину белуг. Увидев сидящего на берегу профессора, рыбаки подходили к нему, степенно здоровались и осторожно спрашивали:
– Ну, товарищ профессор, как же оно будет с нашей белугой?
Щетинин хмурился, поглядывал на реку и отвечал:
– Надо ждать…
– А чего ждать-то? – пожимал плечами дед Малявочка. – По всему видно, что дела с белугой неважные…
Губы профессора подергивались, и он раздраженно бормотал:
– Надо иметь терпение. Цыплят п-по осени считают. Б-будем ждать… П-пять или шесть мертвых белуг еще не решают проблемы…
Когда же рыбаки расходились и рядом оставался только Егор Иванович, лицо профессора мрачнело, и он размышлял вслух:
– Река – не лабораторный стол. Это в лаборатории можно сразу видеть результат опыта. И все же идея пересадки п-производителей-белуг за плотину, безусловно, правильна. Только маловеры могут это отрицать…
До Щетинина дошли слухи, что кое-кто из его коллег пытается опорочить работу экспедиции, но он не обращал на это никакого внимания и только с каждым днем становился все более сердитым и раздражительным.
В таком настроении его и застал однажды на берегу Кузьма Федорович Мосолов. Он подошел к профессору, вежливо поздоровался, присел сбоку на перевернутой лодке и сообщил Щетинину последнюю станичную новость:
– Вчерась в районе крутьков наших судили.
– Каких крутьков? – буркнул Щетинин, недовольный тем, что председатель прервал его размышления.
– Егора Талалаева и продавца Тришку. Их инспектор поймал на Лучковой тоне.
– Ну и что?
– Оба получили по заслугам. Егор, как заводила, – лишение свободы, а Тришка – принудительные работы.
– Так им и надо, – поморщился Щетинин.
Заметив состояние профессора, Кузьма Федорович осведомился деликатно:
– А вы, Илья Афанасьевич, все про своих белуг думаете?
– Не про моих, а про ваших белуг думаю, – сердито поправил Щетинин, – и вам советую ч-чаще о них думать.
Кузьма Федорович смущенно пожал плечами:
– А что? Я в этом деле мало разбираюсь.
– Надо разбираться.
– Известно, надо. Только для меня это нелегко.
Щетинин усталым движением поднял на лоб очки и сказал неожиданно:
– А вы думаете, для меня легко? – Он охватил руками колени и задумался. – Для меня, друг мой, еще тяжелее.
– Почему же?
– Потому, что хочется скорее увидеть результат, а это пока невозможно… П-потому, что глупые и скучные маловеры сомневаются в целесообразности нашей работы и предпочитают стоять в сторонке… П-потому, наконец, что белугу надо спасти от гибели, а мне до сих пор не ясно, как это сделать…
– Когда же можно видеть результаты пересадки? – осторожно спросил Мосолов.
– Не раньше весны. А может, и позже. Сейчас пересаженная нами белуга гуляет где-то выше плотины… Мертвые экземпляры не в счет, меня интересуют живые: как они ведут себя, добрались ли до своих нерестилищ, выметали они икру или нет? Все это надо знать.
– А можно?
– Можно, – убежденно сказал Щетинин.
– Как же?
– Б-белуга, которую мы пересадили за плотину, принадлежит к так называемой озимой расе. Она идет к нерестилищам не весной, а летом и осенью. Поднявшись вверх, эта белуга залегает на зимовку в ямы, а икру выметывает только следующей весной. 3-значит, нам надо ждать весны.
– А потом?
– А потом б-будет видно. После нереста выбившие икру самки начинают скатываться обратно в море. Если рыбаки поймают весной меченных нами белуг и у этих белуг икра окажется выметанной, значит, наш опыт удался.
– Д-да, – вздохнул Кузьма Федорович, – хитрая штука…
Он с нескрываемым восхищением посмотрел на сутуловатую фигуру профессора и спросил:
– Скажите, Илья Афанасьевич, почему же, если эта самая белуга – такая важная для нас рыба, никто, окромя вас, ею не занимается?
– Как это «не занимается»? – поднял брови Щетинин. – Белугой занимается много людей. В низовьях на рыбоводном пункте и сейчас работает одна наша сотрудница. В Москве, в научно-исследовательских институтах, многие ученые заняты белугой.
– И результат есть? – заинтересовался Кузьма Федорович.
– Есть и результат, вернее, намечается, – задумчиво сказал Щетинин. – Одна московская аспирантка успешно работает над искусственным разведением и выращиванием белужьей молоди. Другие изучают проблему кормовой базы для белуги. Третьи уже думают о яровизации озимой расы белуги п-по методу академика Лысенко, который дал в своих трудах замечательные установки на примере пшеницы и картофеля…
Щетинин повернулся к Мосолову, и впервые улыбка осветила его хмурое лицо:
– Так что, товарищ Мосолов, я работаю не один… Именно потому у нас не может быть неудач… Мы работаем коллективно, и в этом наша сила. Кроме того, государство отпускает нам средства, которые обеспечивают безусловный успех любого п-полезного для народа начинания…
– Да, – поднялся Кузьма Федорович, – это я понимаю.
Он пожал профессору руку и сказал добродушно:
– Ну дак что ж… Будем ждать…
Возвращаясь в станицу, Кузьма Федорович вспоминал разговор с профессором и думал: «Старик правильно говорит. Ежели у нас еще попадаются маловеры, то не в них суть дела. Они своими глупостями нас не остановят…»
Думая об этом, Кузьма Федорович забывал, что еще недавно ему самому многое было совсем не так ясно, как теперь. Незаметно для себя Кузьма Федорович сильно изменился за последнее время. Беседы с Назаровым и Антроповым, знакомство с профессором Щетининым, даже стычки с Зубовым заставили его многое передумать. Он понял, что на старых методах хозяйничанья далеко не уедешь и что ему, председателю рыбколхоза, надо вести людей к тому новому, что уже на деле изменяло устаревшие основы рыбного промысла и постепенно превращало этот промысел в сложное, отлично механизированное хозяйство.
«Да, – думал Кузьма Федорович, – что ни говори, а надо учиться. Одного замета невода да умения выбрать рыбу из реки становится маловато».
Так он думал, но все же в нем еще жила успокоительная мысль: «Конечно, надо учиться, но лов рыбы для колхоза важнее, чем всякие там переброски или спасение молоди… И то важно, ничего не скажешь, а лов все ж таки важнее…»
Как Кузьма Федорович ни пытался понять связь между работой Щетинина и сегодняшним планом лова рыбы, у него ничего не получалось, и он уверял себя: «И то важно и другое, а добыча на тоне – это самое важное…»
Возле правления он встретил Зубова. Тот бежал с ящиком гвоздей в руках, и лицо его выражало радостную озабоченность.
– Здорово, Кириллыч! – окликнул его Мосолов. – Погоди-ка маленько.
Зубов остановился.
– Куда это ты с гвоздями?
– Сегодня начинаю дом свой устанавливать, – сообщил Василий. – Вчера вечером сельсовет выделил для рыбнадзора участок, мы и взялись за работу.
– А где ж участок получил? – спросил Кузьма Федорович.
– Там, где и просил, на острове, поближе к Заманухе, чтобы из окна самые рыбные места видны были.
– Хитер, хитер, – усмехнулся Мосолов, – а только теперь это тебе ни к чему.
– Как так – ни к чему? – удивился Василий.
– Ну как же! Главный волчок, Жорка Талалаев, выбыл из строя, а рыжего тоже на канал куда-то отправили. Кто ж теперь будет рыбу ловить? Дед Малявочка, что ли?
Василий посмотрел на Мосолова и засмеялся:
– Почему же обязательно дед Малявочка? Мне рассказывали, что в прошлом году председатель рыбколхоза Кузьма Федорович Мосолов, по договоренности с инспектором, довольно успешно облавливал запретную зону двумя бригадами…
Кузьма Федорович смущенно махнул рукой:
– Ну да что ж? Был такой случай, не отрицаю. Только это – совсем другое дело. Мосолов лично для себя не брал и не возьмет даже самого завалящего ласкиря. Он облавливал твою зону для государства и всю рыбу сдавал государству…
– Я знаю, – перебил Зубов, – но этого, Кузьма Федорович, больше не будет, потому что это не польза, а вред государству…
– Ладно, ладно…
Мосолов тронул Василия за плечо и сказал примирительно:
– Знаешь, Кириллыч, кто старое помянет, тому глаз вон. Такого облова больше не будет, потому что и рыбаки и председатель рыбколхоза начинают понимать, что к чему… Я вот беседовал сейчас с нашим профессором, про белугу его расспрашивал, и он так интересно рассказывал, что я бы до вечера слушал…
Заметив, что Зубов уже раза три взглянул на часы, Кузьма Федорович виновато усмехнулся:
– Ну ладно, неси, Кириллыч, свои гвозди. Только не забудь председателя на новоселье позвать.
– А как же? Обязательно позову, – пообещал Василий.
Он простился с Мосоловым и, придерживая тяжелый ящик, пошел на участок, где уже собирали присланный Рыбводом домик. Участок был расположен на южной стороне острова, среди леса, у самой реки. Старые тополя и густые заросли вербы отлично защищали это место от холодных северных ветров, и – самое главное – отсюда просматривались все запретные зоны, за которыми должен был следить инспектор.
По просьбе Зубова домик ставил лучший голубовский плотник Никита Иванович, суровый, неразговорчивый старик, которого знала вся округа. До войны Никита Иванович работал в плотницкой бригаде рыбколхоза, но однажды обиделся на председателя и после возвращения из эвакуации перешел в полеводческий колхоз к Бугрову.
– Раз люди красоты не понимают, значит, мне с ними не работать, – упрямо сказал старик, – а рыбацкому председателю что шкафчик для книг, что свиное корыто – одинаково.
Среднего роста, сутуловатый, с угрюмым и строгим лицом, с жесткими, коротко подстриженными усами, Никита Иванович тотчас обращал на себя внимание неторопливой походкой знающего себе цену человека и испытующим взглядом серых, с тяжелыми веками глаз.
Когда Зубов обратился в правление рыбколхоза с просьбой выделить плотника, который смог бы разобраться в конструкции разборного дома и поставить его на участке, Антропов посмотрел на Мосолова и сказал:
– Придется просить Никиту Ивановича.
– Разве наши не сделают? – спросил Мосолов.
– Куда там нашим! – махнул рукой Антропов. – Я глядел чертеж этого дома. В нем три комнаты, кухня, веранда, всякие кладовочки, умывальники, ванна. Там одних труб метров сто будет, да с десяток ящиков с разными скобками, болтами, шурупами, планками, крючками. Кто ж, кроме Никиты Ивановича, разберет всю эту музыку?
– А что Никита Иванович, хороший мастер? – поинтересовался Зубов.
Антропов оживился:
– Хороший? Это, брат, Василий Кириллыч, не мастер, а бог плотницкого дела. Он еще в старое время по станицам дома строил, и вы поглядите, какие дома! Каждый красуется, как картина на выставке: карнизы, крыльца, наличники на дверях, на окнах, ставни – все резное и все будто из самого тонкого кружева вывязано. А ведь Никита Иванович все это своим инструментом делал, вручную.
– На днях он мне показывал токарный станок, – вмешался Мосолов, – для колхозной мастерской сделал.
– Сам?
– Сам. Нашел старое колесо от лобогрейки, штук пять дубовых бревен да пару ремней. А вы полюбуйтесь, что он из этого сделал! Не станок, а игрушка. Тронешь ногой педаль – и что тебе угодно выточишь, лишь бы руки были умелые…
– А за что он на рыбколхоз обиделся? – спросил Зубов.
– Председатель его обидел, – усмехнулся Мосолов.
– Вы, что ли?
– Нет, до войны тут был другой председатель. Никита Иванович соорудил тогда для колхозного клуба стол. Чуть ли не год его делал. Говорят, не стол был, а чудо. Председатель возьми и отдай кому-то этот стол. В район или область отвез, кому – не знаю. Ну, а Никита – старик норовистый. «Ах, так, говорит, я стол для трудящихся рыбаков мастерил, а ты им, как своей собственностью, распорядился, Ты, говорит, не председатель, а…» Не знаю, как он его там назвал, а только поссорились они. Вскоре война началась, эвакуация, и старик перешел в полеводческий колхоз.
Когда Зубов попросил Никиту Ивановича поставить на острове привезенный из города разборный дом, старый плотник внимательно посмотрел на него и сказал отрывисто:
– Ладно, поставим…
И как только на участке закипела работа, Василий каждое утро ходил туда и любовался Никитой Ивановичем. У этого человека были волшебные руки: все, к чему прикасались его жесткие, натруженные пальцы, сразу как будто оживало; из-под рубанка с легким посвистыванием вылетала тончайшая, пахнущая сосной стружка; острый топор вытесывал столб так ровно и точно, что все его грани можно было измерять сантиметром; любой гвоздь, даже самый ржавый и тонкий, входил в дерево после двух-трех ударов молотка.
Никита Иванович почти никогда не разговаривал. Слегка сутулясь и расставив ноги, он стоял у самодельного, наскоро сколоченного из досок верстака и работал молча, сосредоточенно и даже угрюмо.
Он только изредка бросал помогавшему ему молодому плотнику:
– Гвозди!
– Фуганок!
– Отвертку!
– Молоток!
Зубов заметил, что старый мастер не выносит плохо выполненной работы и по десять раз переделывает то, что ему не нравится. Казалось бы, петля сидит на двери безукоризненно. А он прикоснется к ней угольником, сморщится и начнет отвинчивать все шурупы, чтобы сделать по-своему. Любой выбитый из доски сучок, чуть-чуть косо посаженный гвоздь, зазубрина на пиле или шероховатость на буковой планке – все приводило Никиту Ивановича в состояние тихого, молчаливого бешенства. Он мрачнел и, стиснув зубы, подтачивал, подстругивал, переделывал – и все это молча, без единого слова, упрямо и настойчиво.
Зато как только нужная деталь укладывалась на место или доска после фуганка становилась зеркально гладкой, Никита Иванович светлел. Он и в этих случаях не произносил ни одного слова, только щурил левый глаз и, осмотрев какую-нибудь на диво выстроганную планку, облегченно вздыхал и ласково поглаживал пальцами усмиренное, неподвижное, еще теплое от трудной работы дерево.
Василий часами наблюдал за стариком, видел, как быстро и ладно вырастают стены уютного, светлого дома, и говорил восхищенно:
– Золотые руки!
«Так настоящий человек должен относиться к своему делу, – думал Василий. – Он должен уметь трудиться самоотверженно, красиво, наслаждаясь даже самой тяжелой работой. Он обязан все задуманное им доводить до конца, причем делать это так, чтобы сам он был доволен и совесть не могла упрекнуть его ни в чем…»
Думая о Никите Ивановиче, любуясь его руками, Зубов спрашивал себя: «А я так могу?» – и со стыдом признавался себе, что еще не может так работать, что ему не хватает выдержки, опыта, настойчивости.
«Нет, нет, еще до этого далеко, – думал Василий, – мне еще многого не хватает. Я тороплюсь, уступаю своей нетребовательности, горячусь. Так нельзя. Надо научиться побеждать в большом и в малом…»
Однажды на участок, где строился инспекторский дом, забрел Пимен Талалаев. Сторонясь людей, он отлеживался в балагане у паромщика и, изнывая от тоски и скуки, решил побродить по острову. Увидев, что Никита Иванович работает один, Пимен подошел к нему и молча присел на штабель досок.
– Мастеруем? – равнодушно кивнул он.
Старый плотник угрюмо посмотрел на него из-под козырька полинялой фуражки и ничего не сказал.
– О-хо-хо! – вздохнул Пимен. – А я вот места себе не нахожу, ослаб вовсе… ноги, можно сказать, отнялись.
– Голова у тебя, дурака, отнялась, – буркнул Никита Иванович.
Пимен удивленно посмотрел на него:
– Чего ты?
– Ничего…
Никита Иванович и Пимен Талалаев жили по соседству и хорошо знали друг друга, хотя в последние годы встречались редко, так как старик плотник работал в колхозной мастерской, а Пимен днем и ночью крутился на реке.
– Не, ты все ж таки скажи, – настойчиво повторил Пимен.
Фуганок летал в жилистых руках плотника, на землю атласными завитками сыпались сосновые стружки.
– Чего там говорить, – отмахнулся Никита Иванович, – одно слово тебе скажу: дурак…
Пимен промолчал. Там, в полутемном балагане деда Авдея, он уже не раз, проснувшись на пахнущих гнильем нарах, кряхтел, вздыхал, сплевывал на земляной пол горькую от махорочных корешков слюну и проклинал себя, сам не зная за что. Он все еще считал себя правым, ненавидел Зубова, Антропова, Мосолова, Груню, Степана Худякова, всех ловцов своей бригады, каждого, кто, по его мнению, в подметки ему не годился, но работал, в то время как он, опытный рыбак, мертвяком лежал в балагане.
Уже много ночей подряд, поворочавшись на нарах, он выходил на берег, молча слушал мерное поскрипывание уключин на рыбацких каюках, жадно вдыхал запах свежей рыбы и, опустив лысеющую крепкую голову, нудно ругался и до рассвета бродил по влажному, упругому песку, напряженно думая о том непонятном, что с ним произошло…
– Не, ты все ж таки скажи, – с упрямой злобой повторил он, поглядывая на Никиту Ивановича, – за что меня дураком обозвал?
Отложив очищенную доску, Никита Иванович погладил ее ладонью, быстро спилив края, приметал к подоконнику и наложил на него старенький плотницкий уровень. Подвижное пятнышко воздуха в уровне, поколебавшись, легло точно между двумя черточками в стеклянной трубке.
Никита Иванович исподлобья посмотрел на Пимена:
– Вот… Видал ты такой инструмент? Называется уровень. Им, этим инструментом, мастер ровность определяет. Ежели же, скажем, дерево не станет ровно, а кособочит – мастер его подпиливает, стесывает, молотком подбивает, чтобы оно не кривуляло и красоты строения не паскудило…
– Чего ты мне басни рассказываешь? – мрачно усмехнулся Пимен. – Я сам этот уровень сто раз в руках держал.
Старик присел на штабель рядом и заговорил, строго и сумрачно глядя в глаза Талалаеву:
– Так вот, имей в виду, Пимен Гаврилов, так оно и с тобой получилось… Люди до твоей личности такой же невидимый уровень приложили, и ты им отразу всю свою кособокость показал: куда ты хитнулся и сколько на тебе корявых сучков понатыкано… Сдумали они тебя маленько подправить, людскую ровность тебе придать, а ты, как дурной пень, корневищем своим уперся, будто бог тебя от твоего рождения косо прибил, да еще здоровенными ржавыми гвоздищами… Ну, чего ж было с тобой делать? Взяли тогда топор, лом под тебя подложили и рванули со всеми твоими сучками, чтоб ты, значит, красоты нового строения не паскудил… Так и оказалось, что ты кругом как есть дурак. И нечего тебе жалиться на кого-то. Жалься теперь на себя, потому что ты косой и неправильный человек.
Пимен ошеломленно отодвинулся от старика и диковато взглянул на его строгое, старчески чистое лицо.
– Это как же понимать надо? – пробормотал он.
– Вот так и понимай, как сказано, – отрезал Никита Иванович.
– А ты знаешь, что меня с бригадирства скинули, перебросили до баб в сетчиковую бригаду, а теперь и оттудова гонят?
– Кто ж тебя гонит?
– Все гонят. Ты, говорят, нам негож, потому что ты, дескать, хищник и симулянт. А я на ноги слабый стал и работать не сдюжаю. В нутре у меня болит, а они ничего не берут во внимание.
– Брешешь ты, Пишка, – сердито сказал плотник, – людей и себя обманываешь, воду каламутишь. Никакой в тебе болезни нет, и ты здоровей меня в сто раз. А на болезнь свою ты киваешь потому, что злоба на людей тебя точит и ум твой мутит. Ты, видать, думаешь, что все люди кривые, один ты ровный? Оно же, имей в виду, как раз обратно получается: рыбаки по новой, ровной дороге пошли, а ты все косыми тропками путляешь и выпрямить себя не хотишь…
Сунув руки в широкие раструбы валенок, Пимен потускнел и притих. В словах старого плотника он еще раз увидел ту жестокую правду, которая в последнее время выгоняла его по ночам из балагана и заставляла ходить взад и вперед по берегу, ревниво всматриваясь в мерцание недоступных рыбацких костров на Тополихе.
– Нет, Иваныч, – тоскливо вздохнул Пимен, – теперь уже мне поворота нема. Люди на меня озлобились и духа моего не выносят. Негодящий, говорят, человек. Степка Худяков от меня отказался, бабы в один голос требуют, чтоб правление выгнало меня из сетчиковой бригады, а Архип Антропов – тот и вовсе чертом глядит…
Приложив ладонь к глазам, Никита Иванович стал всматриваться в вербовые заросли:
– Вот он аккурат идет.
– Кто? – привстал Пимен.
– Архип Иванович.
Пимен хотел было скрыться. Не простившись с плотником, он заторопился, пошел по тропе к реке, но не успел уклониться от встречи с Антроповым. Тот, шелестя мокрыми штанинами и спущенными до земли голенищами резиновых сапог, шел к Никите Ивановичу и столкнулся с Пименом у ворот инспекторского дворика.
Загородив Пимену дорогу, Архип Иванович остановился.
Испытующе взглянув на заросшее щетиной, похудевшее лицо бывшего бригадира, Архип Иванович сказал сквозь зубы:
– Здорово, Талалаев.
– Здорово, – ответил Пимен, опуская голову.
– Чего ты? Болеешь все?
Пимен метнул на него взгляд исподлобья:
– Так… чего-то не сдюжаю…
– Угу…
Архип Иванович шагнул ближе:
– Вот чего. Сетчики требуют вовсе исключить тебя из колхоза. Завтра разбирать будем. Ни одна бригада не хочет тебя принимать.
Щеки Талалаева стали серыми. Пришло то, чего он боялся больше всего и чего не мог предотвратить, так как знал, что люди перестали ему верить и отказались от него.
Подняв помутневшие глаза, он растерянно спросил:
– А как же будет? Я ж того… пятьдесят годов на баркасе…
Архип Иванович положил ему па плечо тяжелую руку.
– Вот, Пимен Талалаев, – сказал он, – ты сам осудил себя… И все ж таки я… это самое… хочу спробовать последний раз…
И отрубил, приблизив к Пимену смуглое, твердое, как речной камень, лицо:
– Ежели дашь обещание… пойдешь в мою бригаду…,
Пимен медленно снял с плеча руку Антропова и, отворачиваясь, глухо сказал:
– Спасибо, Архип.
Никита Иванович не слышал, о чем они говорили, но, искоса следя за ними, видел, как они вместе пошли в станицу.
Он поднялся со штабеля, вздохнул и пробормотал, жмурясь от солнца:
– Видишь, как получается… Самое непотребное дерево можно поставить по уровню, ежели у мастера настоящая рука.
Дом на острове вырастал с каждым днем. Его поставили на высокие, двухметровые, сваи, накрыли белой этернитовой крышей, у переднего фасада пристроили застекленную веранду.
Когда все было закончено, Никита Иванович, собрав в корзину стружки, затопил маленькую кафельную печь, вышел во двор, полюбовался тающим над трубой облачком дыма и строго сказал Зубову:
– Готово жилище. Можно вести хозяйку.
– Какую хозяйку? – смутился Василий.
– А это уж я не знаю, – сухо сказал мастер, – только без хозяйки дом не дом…
Он аккуратно вложил в мешок инструменты, взвалил его на плечи и протянул Зубову большую, в ссадинах, руку:
– Прощевайте. Живите счастливо. А на новоселье меня покличьте…
Зубов остался один. В печке догорели и погасли стружки, белым налетом покрылся пепел.
Вертя в руках ключ, Василий походил по пустым, пахнущим скипидаром комнатам и остановился у окна.
Вечерело. На левом берегу реки, у парома, чернели подводы. Над синеватым лесом остро проблескивал тонкий серп месяца. Слева, у плотины, дожидаясь очереди, стоял на якоре двухпалубный пассажирский пароход. На излучине, отражаясь в спокойной воде, мерцали красные огоньки бакенов.
На мгновение Василий вдруг ощутил щемящее чувство одиночества.
«Как это сказал старик? Без хозяйки дом не дом…»
Весь вечер Зубов бродил по берегу. Слегка пригнувшись, он всматривался в темную гладь реки, слушал однообразный гул воды на плотине, курил, присев на холодный песок. Потом он замерз, побежал домой и, наскоро поужинав, сказал Марфе:
– Я скоро приду, вы дверь не закрывайте.
– Куда ж это вы так поздно? – усмехнулась Марфа.
– К Егору Ивановичу, – не думая, ответил Зубов.
Он накинул шинель и, не оглядываясь, пошел к Груне.
5
Ивана Никаноровича не было дома. Разложив на стульях стопки белья, Груня гладила. Между окнами, на фанерной подставочке, отбрасывая на скатерть желтый круг света, горела лампа. Груня набирала в рот воду, старательно опрыскивала чуть пересохшее белье и, тронув мокрым пальцем горячий утюг, разглаживала полотенца, наволочки, простыни, носовые платки.
У ног девушки с мурлыканьем терся толстый кот Бунька с ободранным носом. Груня поднимала утюг и, наклонившись, напевала Буньке что-то невнятное.
В окно негромко постучали.
– Кто там? – спросила Груня.
– Это я, – услышала она голос Зубова.
Груня кинулась к двери.
Зубов вошел в комнату, поздоровался, снял шинель и присел на стул.
– Ну, как живешь, Грунечка? – спросил он, не зная, с чего начать.
– Хорошо, Вася, – ответила девушка и засмеялась. – Вот глажу и пою песни Буньке.
Василий улыбнулся.
– А я по тебе соскучился.
– Правда?
– Честное слово. Мы ведь встречались вчера, а мне кажется, что я тебя год не видел.
Он поднялся, взял Грунину руку, повернул ладонью вверх и поцеловал.
– Пойдем погуляем, Грунюшка, – шепнул Василий, – мы давно уже не гуляли вместе.
– Пойдем, только надо отца подождать…
Не договорив, Груня вскрикнула и рванулась к столу.
– Что ты? – испугался он.
– Разве не видишь? Забыла утюг принять и сожгла наволочку…
Она убрала утюг на плиту, свернула прожженную наволочку и с видом заговорщицы сунула ее куда-то за книги.








