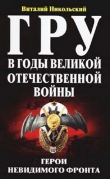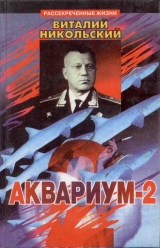
Текст книги "Аквариум-2"
Автор книги: Виталий Никольский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Проникающие в армейскую среду сведения о готовящемся нападении на нашу страну фашистской Германии, ее военной мощи, расколе немецкого рабочего класса и о том, что большинство одурманенных националистической пропагандой немцев поддерживают Гитлера, считались провокационными, с распространением их боролись, как с пораженческими слухами, и за разговоры на эти темы можно было попасть в категорию «врагов народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Жизненный уровень среднего командного состава РККА в тридцатые годы не превышал уровня высококвалифицированного рабочего. Никаких надбавок за воинские звания не было. Выплачивался лишь должностной оклад. С учетом удержаний облигации государственного займа, членских взносов в комсомол или партию на жизнь оставалось не так уж много. Посещать рестораны, тем более устраивать кутежи командиры в те годы не могли.
Скромность денежного содержания военнослужащих в известной мере компенсировалась выдачей довольно обильного бесплатного продовольственного пайка, включавшего в себя все необходимое: от мяса и масла до соли и специй. На этот паек с некоторой дотацией, при скромных потребностях, можно было спокойно прожить вдвоем.
Командный состав получал также бесплатно полный комплект обмундирования и снаряжения по летнему и зимнему плану. При экономной носке его не только хватало на установленные сроки, но и некоторым удавалось выделить кое-что для жен. Боевых подруг командиров нередко можно было узнать по юбкам из темно-синего сукна, выдававшегося на брюки их мужьям, пальто из перекрашенного шинельного драпа или сапожкам из армейского кроя.
Плохо обстояло дело с обеспечением жильем. В нашей дивизии даже семья начальника штаба ютилась в одной комнате общей квартиры. Молодежь жила в общежитиях, и даже семейные не имели подолгу перспектив получить жилье. Счастливчики снимали обывательские квартиры. Им завидовали. Жилищная проблема была весьма острой во всей стране, и военные это хорошо понимали и терпеливо со всем народом ожидали лучших времен.
Перед войной командный состав, в особенности в звеньях взвод-рота-батальон, много и самоотверженно трудился над повышением боевой готовности армии. Младший командный состав (командиры отделений, помощники командиров взводов, старшины) имел весьма низкий культурный уровень, слабую общеобразовательную и недостаточную тактическую подготовку. Это основное звено воспитателей и учителей солдат явно не справлялось со своими обязанностями. И их переносили на плечи командиров взводов и даже рот, которые из своеобразных наставников и инспекторов, призванных контролировать работу подчиненных им младших командиров, превращались в непосредственных исполнителей, решавших с солдатами весь комплекс задач по боевой и политической подготовке.
Вследствие этого командиры среднего звена были весьма перегружены повседневной работой. Они приходили в казармы к подъему и уходили после отбоя, буквально падая от усталости. Работали не считаясь со временем, не жалея себя. Но то обстоятельство, что они подменяли подчиненных, сковывали их инициативу, не развивали командные навыки, приводило к воспитанию у младших командиров неверия в свои силы, устранению их от активного процесса воспитания и обучения бойцов и объективно лишало командиров взводов и рот надежных квалифицированных помощников в мирное время. Это особенно отрицательно дало о себе знать в период войны.
Располагаясь в приграничной полосе, наши подразделения и части периодически выходили на тактические занятия непосредственно к границе с тем, чтобы освоить местность, с которой в случае войны пришлось бы наносить первый, сокрушительный удар по врагу. Иного развития событий никто не ожидал.
Командный состав штаба часто выезжал на рекогносцировки приграничной полосы. При этом с холмов и пригорков в бинокли мы наблюдали аккуратные латвийские хутора и деревушки, лоскутные поля, иногда солдат в незнакомой форме. Там начинался враждебный капиталистический мир, от которого нас отделяла лишь узкая полоска границы, надежно охраняемая нашими пограничниками. «Советская граница на замке» – это было популярное выражение, и мы были глубоко убеждены в его реальности. Правда, в наши приграничные села иногда проходили каким-то путем подвыпившие латвийские унтеры и солдаты, действовали и контрабандисты из числа местных жителей.
Осенью 1937 года 43-ю дивизию передислоцировали в Ленинград. Это событие было встречено нашей дивизионной общественностью, особенно молодежью, с большой радостью. Понятно, Ленинград не Идрица и даже не Великие Луки.
Но многим пришлось менять личные планы, в том числе и мне. В Великих Луках я уже подыскал частную квартиру и собирался перевезти из Москвы жену. Она ждала ребенка и оставалась там, чтобы закончить последний курс техникума. Обитала моя супруга в коммунальной квартире, где занимала восьмиметровую комнатушку, полученную в ее бытность работницей Первого шарикоподшипникового завода. Однако «воссоединение семьи» не состоялось. Что делать: приказ есть приказ!
В Ленинграде штаб дивизии и две части заняли казармы бывшего Московского полка царской армии на Выборгской стороне. Много изобретательности потребовалось от дивизионных интендантов, чтобы разместить в помещениях, приспособленных для расквартирования полка, почти целую дивизию. Пришлось оборудовать казармы двухэтажными койками, сократить промежутки между ними, заселять полуподвальные помещения. Через неделю все вошло в норму, и части приступили к боевой подготовке на новых квартирах.
Дивизии нужно было осваивать новое направление – против Финляндии. В один из первых же рекогносцировочных полевых выездов командиров штаба дивизии по направлению к финской границе произошло ЧП. Конная группа штабистов, выезжавшая со двора казарм, была рассеяна… взбесившимися лошадьми. Никогда до этого не слышавшие грохота и звонков трамваев, сигналов автомобилей, они сбивались в кучу, становились на дыбы, ржали, пятились в витрины магазинов, сбрасывали из седел седоков, не являвшихся, понятно, мастерами конного спорта и не ожидавших такой бурной реакции животных. Движение остановилось, собралась толпа зевак, некоторые из них пытались ловить испуганных коней. Несколько человек из наших командиров и гражданских лиц получили травмы. Осколками стекла от разбитых витрин была ранена часть лошадей. Выезд пришлось отменить. Долгое время мы потратили на выводку коней по оживленным улицам в поводу и с шорами до тех пор, пока они не привыкли к шуму и движению большого города.
Началась напряженная работа по боевой подготовке подразделений и частей дивизии. В дополнение к моим обязанностям по контролю за химподготовкой в войсках, приему имущества на новом месте прибавилась преподавательская деятельность. В Пушкино открылись окружные курсы младших лейтенантов химической службы и специальные предметы – тактику химподразделений, химическую разведку и другие пришлось вести нам с майором Степановым. Служба занимала 12–14 часов в сутки, и поэтому с культурными сокровищами и достопримечательностями Северной Пальмиры можно было знакомиться лишь в воскресенья и то не всегда.
Опасения наших умудренных опытом многократных служебных перебросок старших товарищей оказались не напрасными. Квартир для большинства командиров в Ленинграде не оказалось. Их нужно было терпеливо ожидать, проживая тем временем на обывательских, за которые хозяева драли втридорога. Переезд жены к моему месту службы автоматически отпал. Я временно «квартировал» в кабинете командира дивизии, используя его диван в качестве койки и совмещая таким образом отдых с ночными дежурствами у телефона.
К 8 часам утра я должен был освобождать «квартиру» и вернуться в нее мог не ранее 23 часов, узнав предварительно у дежурного по штабу об убытии комдива. Во время довольно частых совещаний, которые в то время были в большой моде, полковник предупреждал не занимать кабинет, и мне приходилось «гулять» по улицам спящего города.
В апреле 1938 года мне дали двенадцатиметровую комнату в коммунальной квартире в доме по Комсомольскому переулку у Финляндского вокзала. Для меня, прожившего до двадцативосьмилетнего возраста в общежитиях, это скромное жилье показалось дворцом. До нельзя счастливый, я поспешил обрадовать жену. Она срочно собралась ко мне, сдав в Москве свою комнатку, которую немедленно заселили.
Скоро моя судьба внезапно резко изменилась. Бюрократическая машина, медленно прокручивавшаяся после моей беседы в разведуправлении прошлым летом, сработала лишь весной тридцать восьмого. Я уже забыл
о встречах с комбригами Стигга и Туммельтау. Оказалось, их за это время осудили как врагов народа и расстреляли. Люди погибли, а дела шли своим медленным чередом. Нарком обороны подписал приказ об откомандировании К.Л.Ефремова и меня в распоряжение разведуправления РККА. Надлежало срочно сдать дела и выехать в Москву к новому месту службы.
Все мои планы снова менялись.
Любопытно, что несколькими днями позже из Наркомата обороны обо мне поступил другой» приказ, которым я зачислялся в адъюнктуру Военно-химической академии. Это немало смутило моих начальников. Они не знали, куда меня направлять, но после некоторого колебания мудро решили: Разведывательное управление сильнее и авторитетнее военно-химического. Я получил приказ следовать в РУ. Там действительно мгновенно уладили недоразумение. С разведкой никто тягаться не рискнул.
Обезглавленная разведка
Разведывательное управление Красной Армии размещалось тогда в Большом Знаменском переулке недалеко от Арбатской площади в старинном четырехэтажном здании. Оно было мало похоже на нынешний девятиэтажный полунебоскреб у края Ходынского поля, а главное, маловато. Поэтому часть подразделений разведведомства занимали несколько небольших особняков в ближайшей округе.
К середине 1938 года в военной разведке произошли большие перемены. Большинство начальников отделов и отделений и все командование управления были арестованы. Репрессировали без всяких оснований опытных разведчиков, владевших иностранными языками, выезжавших неоднократно в зарубежные командировки. Их широкие связи заграницей, без которых немыслима разведка, в глазах невежд и политиканствующих карьеристов явились «корпусом деликти» – составом преступления – и послужили основанием для облыжного обвинения в сотрудничестве с немецкой, английской, французской, японской, польской, литовской, латвийской, эстонской и другими, всех не перечислишь, шпионскими службами. Целое поколение идейных, честных и опытных разведчиков было уничтожено. Их связи с зарубежной агентурой прерваны.
В результате сталинской «чистки» почти вся разведывательная сеть за рубежом была ликвидирована. К немногим, действующим нелегально, сотрудникам относились с подозрением. Даже донесениям таких суперразведчиков, как Рихард Зорге, не верили, считая их двойными агентами, предателями, провокаторами. Сообщения о подготовке фашистской Германии к войне, начавшие уже в то время поступать в Центр, рассматривались как инсинуации британских спецслужб, преследовавшие цель столкнуть нас с немцами.
На должности начальника управления и руководителей отделов приходили новые, преданные родине командиры. Но они были абсолютно не подготовлены решать задачи, поставленные перед разведкой. В Центральном комитете партии считали, что в разведке, как, впрочем, и повсюду, самое главное пролетарское происхождение, все остальное может быть легко восполнено. Такие мелочи, как понимание государственной политики, уровень культуры, военная подготовка, знание иностранных языков, значения не имели. Это давало возможность проникать к руководству нашей «интеллигентной службой» случайным людям, ставящим корыстные, карьеристские интересы выше государственных, или просто добросовестным невеждам. Из них особенно отрицательно проявил себя И.И.Ильичев. Будучи начальником политотдела управления, он рассматривал как потенциальных «врагов народа» всех старых сотрудников разведки, а созданную ими агентурную сеть полностью враждебной и подлежащей поэтому уничтожению.
Уже в середине 1938 года перед руководством управления во весь рост встала настоятельная задача подготовить новые кадры зарубежной агентуры, но для этого требовались годы упорной работы. Очевидно, наши начальники не вполне понимали это. Да у них и не было достаточно времени, чтобы использовать свои способности и возможности. В период с 1937 по 1941 год, как в калейдоскопе, мелькали руководители «секретной» службы РККА Берзин, Урицкий, вновь Берзин, Никонов, Орлов, Гендин, Проскуров, Ильичев, Голиков, Панфилов и опять Ильичев. За четыре года девять человек сменили один другого на должности, требующей, как нигде, преемственности, громадного объема конкретных знаний, авторитета в армии. Отсутствие у тех, кто занимал руководящие посты в разведке, уверенности в том, что они не будут завтра арестованы как «враги народа», парализовывало инициативу, создавало атмосферу перестраховки, желание оградиться визами и резолюциями руководства НКО и других директивных инстанций, тормозило работу, вызывало недоверие к получаемой из-за рубежа информации.
Когда мы, молодые командиры, прибыли в мае 1938 года на службу в разведку, управлением фактически командовал комбриг Орлов. Затем после его ареста был назначен Гендин, которого через весьма короткий срок постигла судьба предшественника. Нам, состоящим в распоряжении разведупра и готовящимся к отправке за рубеж, ничего не объясняли по поводу чехарды в руководстве. Всю пагубность огульных арестов и уничтожения цвета армии, ее высшего и старшего командно-политического состава, мы осознали значительно позже, в дни войны с фашистской Германией. В ту же пору мы безоговорочно верили в правомерность репрессий, в необходимость усиления классовой борьбы с «коварным врагом и его агентурой внутри нашей страны».
В конце тридцатых годов среднее звено оперативных работников разведки также было заменено молодыми неопытными командирами, сменившими связанных в какой-то мере с бывшим «вражеским» руководством. Управление пополнили в значительной мере выпускниками академий, полагая, что теоретические знания могут заменить оперативный опыт. Так, на 4 отделе военно-технической разведки, в котором нам с К.Ефремовым предстояло проходить службу, начальником был назначен военинженер 2-го ранга [3]3
Соответствует нынешнему званию инженер-подполковника.
[Закрыть]Коновалов, окончивший Военно-химическую академию двумя годами раньше нас. Начальником отделения бронетанковой техники был выпускник Бронетанковой академии Ленгник, артиллерийского – Зубанов, авиационного – Мелкишев, связи – Артемкин, военнохимического – Вахитов. Их помощниками также были выпускники академий.
Все они – энергичные, старательные командиры, преданные своей Родине. Среди оперативного состава управления в ту пору еще было много евреев: Эпштейн, Бумштейн, Финкельштейн, Мильштейн, Гутин, Соркин и многие другие. Часть из них, очевидно, наиболее дальновидная, сменила свои фамилии на русские. Нужно отметить, что все эти сотрудники отличались знанием дела и гибким умом. Они владели иностранными языками, ездили с заданиями за рубеж и казались нам, новичкам, настоящими профессорами разведывательного дела. Значительная часть их проработала до окончании Великой Отечественной войны. Лишь после нее евреев из разведупра стали постепенно увольнять.
Меня и Ефремова по прибытии в управление сразу же направили на специальные годичные разведывательные курсы – Центральную школу подготовки командиров штабов. В целях конспирации слушатели были разбиты на небольшие учебные группы, располагавшиеся на «точках» за городом. Группы не были связаны между собой, поскольку имели полностью автономные хозяйства, и поэтому обучавшиеся на разных отделениях не знали друг друга, что очень важно, поскольку слушатели готовились не только в официальный заграничный аппарат, но и на нелегальную работу.
Наша «точка» располагалась под Москвой в особняке, который скрывался в гуще деревьев и был огорожен высоким досчатым забором, окрашенным в характерный зеленый цвет, – цвет надежды. Нам казалось, что это сама судьба своим перстом благосклонно указывает путь в удачливое и большое будущее.
На «точке» имелись свои учебные кабинеты, лаборатории, спортплощадка, пищеблок на полтора десятка человек, подсобное хозяйство и все необходимое для обучения и проживания слушателей на казарменном положении.
Учебным отделением командовал полковник Егоров – старый кавалерист, не имевший ни малейшего понятия об агентурной разведке и изучавший ее вместе с нами. Он следил за соблюдением общего распорядка, неуклонным выполнением учебного расписания и являлся связующим звеном между нами и штабом школы, располагавшимся в Москве на Гоголевском бульваре. По окончании учебы на основании характеристик, даваемых на слушателей преподавателями, начальник учебного отделения должен был составлять аттестацию с рекомендациями, где целесообразно использовать того или иного выпускника Центральной школы.
К моменту нашего прибытия на «точку» в мае 1938 года там уже в течение шести месяцев обучались наши коллеги, ранее зачисленные в разведку. Нам нужно было догнать их.
В шпионских романах подробно описано, каким экстравагантным способам обучают «рыцарей плаща и кинжала» для вербовки агентов, проникновения на тщательно охраняемые объекты, вскрытия сейфов, ликвидации своих противников с помощью всех видов огнестрельного и холодного оружия, ядов и так далее. Все это чепуха. Нам пришлось изучать далеко не «романтические» дисциплины. Это В первую очередь спецподготовку, которую вела выдающаяся советская разведчица М.И.Полякова, имевшая колоссальный опыт работы за рубежом; оперативную технику, не отличавшуюся в те времена чрезмерной сложностью; криптографию, принципы радиосвязи и фотодело. Затем страноведение – в зависимости от планов предстоящего оперативного использования, и, наконец, иностранные языки.
Мне был определен к изучению немецкий язык, на освоение которого уходило не менее пяти часов в сутки. Слабая подготовка по языку на рабфаке и в академии давала о себе знать. Успехи в его изучении у многих из нас, в том числе и у меня, были далеко не блестящие, чем, вероятно, и объяснялось в дальнейшем мое использование не на нелегальной работе, а в аппарате управления и на официальной зарубежной службе.
Марксистско-ленинской подготовке также уделялось немалое внимание, но большинству слушателей она давалась без особого труда, так как в академиях изучению общественных дисциплин отводилось много времени. Остальные, необходимые разведчику дисциплины, как топография, стрелковая подготовка, тактика, история международных отношений, физическая культура, не преподавались, поскольку полагалось, что мы должны их прочно знать после академического курса.
Все в отделении жили на казарменном положении, в город к семьям увольнения получали лишь в выходные дни. О пребывании в школе запрещалось говорить не только друзьям, но и близким родственникам. За болтливость строго наказывали вплоть до отчисления из разведки.
Перед прибытием в учебное отделение всем слушателям меняли фамилии и выдавали гражданские паспорта. Однако длительное совместное пребывание, уплата партвзносов, получение денежного содержания и вещевого довольствия под истинными фамилиями, а также предварительное знакомство слушателей друг с другом, встречи в семьях и в городе сводили на нет этот вид конспирации, и через несколько месяцев все знали не только настоящие имена, но и биографии друг друга.
В ноябре 1938 года учеба в Центральной школе закончилась, и нас направили в оперативные отделы, по линии которых мы были привлечены в разведку. Система комплектования кадров непосредственно заинтересованными структурами имела то неоспоримое преимущество, что оперативные подразделения несли главную ответственность за отобранных кандидатов и качество их подготовки. Пока мы находились в школе, сотрудники разведуправления следили за нашими успехами и тщательно изучали личные качества, способности, наклонности каждого слушателя.
Настала пора приступить к практической работе. Троих из нашей группы – военинженера 3-го ранга Константина Ефремова, старшего лейтенанта Михаила Макарова и старшего лейтенанта Николая Трусова – послали на дополнительную подготовку к работе в нелегальных условиях. Первых двух забросили в оккупированную немцами Бельгию. Об их трагической судьбе я расскажу несколько позже. Куда тогда командировали Н.Трусова, не помню, но он уцелел, успешно продолжил службу и впоследствии стал заместителем начальника ГРУ. На штатные должности в центральный аппарат сразу попали лишь два человека. Остальных оставили в резерве отдела кадров. Их прикомандировали к разным отделам, где они выполняли отдельные поручения: подбирали кандидатов для привлечения в разведку, обобщали информационные материалы и так далее.
Тем временем мои семейные дела складывались весьма неблагоприятно. В ту пору, когда я изучал в школе основы разведывательного дела, моя жена и новорожденный сын Александр, не имея пристанища в Москве, проживали у знакомых, больше всего в общежитии Военно-химической академии в комнате Ефремова вместе с его матерью-старушкой. Вход в общежитие охранялся часовым, который пропускал только слушателей и членов их семей. Жене с ребенком зачастую приходилось часами ждать у входа, пока кто-либо из знакомых командиров, проживавших в здании, закажет ей разовый пропуск. Ребенок болел. Условий для ухода за ним не было. Все мои просьбы и многочисленные рапорты командованию о предоставлении какой-либо комнаты в любом общежитии не увенчались успехом. Очевидно, мой начальник военинженер 2-го ранга А.А.Коновалов испытывал мое терпение и способности преодолевать личные невзгоды.
В конце концов мы с женой вынуждены были отправить нашего первенца к ее матери, Прасковье Егоровне Федоровой, которая жила в деревне Большие Поляны Старожиловского района Рязанской области. Но ребенок заболел воспалением легких и из-за отсутствия медицинской помощи через несколько дней умер в ноябре 1938 года.
После смерти сына началось срочная демонстрация чуткости и внимания к моей семье. Нам немедля предоставили в общежитии Военного института иностранных языков комнату площадью 13 метров, которая более полугода была свободна, так как от нее отказывались, поскольку она не имела элементарных удобств (находилась в общем коридоре, где размещались еще 22 семьи).
Тем не менее, получи я ее месяцем раньше, жизнь ребенка была бы спасена. На этой жилплощади в общежитии мы с женой прожили с учетом военного времени и поездок в служебные командировки свыше 15 лет. В 1955 году, уже имея семью из 5 человек, мне удалось улучшить жилищные условия и переселиться из общежития в комнату площадью 21 квадратный метр в коммунальной квартире пятиэтажного дома на бывшей 5-й улице Октябрьского поля, ныне улице Маршала Рыбалко, а в 1961 году получить там же отдельную двухкомнатную квартиру. Не баловало нас руководство и другими материальными благами. В частности, всем состоявшим в распоряжении разведупра был сохранен оклад денежного содержания, получавшийся ими в войсках. А он у большинства был весьма невелик. Я имел в месяц по-прежнему 525 рублей, что на троих было более чем скромно. Вспоминалась шутливая рекомендация, распространенная в то время: «Не женись, краском [4]4
Красном – «красный командир», так называли в 20-30-х годах офицеров Красной Армии.
[Закрыть], не прокормишься пайком».: Прокормиться было действительно трудно. Не только продукты, но и промышленные и культурные товары были дороги. Чтобы купить какой-либо пустяк, которым сейчас трудно кого-либо удивить (велосипед, патефон, фотоаппарат), надо было израсходовать почти месячное денежное содержание.
Работа в аппарате управления, в том числе и в отделе военно-технической разведки, в котором я состоял, носила самый разнообразный характер. Мы подбирали людей для зарубежной работы, руководили выделенной нам агентурной сетью, обобщали информационные материалы, получаемые из-за границы. Поскольку эти материалы были главным образом по военной технике, нам приходилось для их оценки поддерживать контакты с ведущими научными учреждениями. Участок служебной деятельности был новый, опыт отсутствовал. Хотелось не ударить лицом в грязь, сделать все как можно лучше. Но практической помощи ждать было не от кого. Наши начальники, как правило, сами были новичками. На свои посты они попали, можно сказать, по воле случая и знали разведывательное дело не больше подчиненных. Незначительные сложности часто ставили нас в тупик. Очевидно, поэтому стилем работы были «ночные бдения». Рабочий день не лимитировали, он продолжался в зависимости от обстоятельств 12–14 часов в сутки, а иногда и более.
В этом свете все стремившиеся найти в разведке легкую жизнь, полную романтики и авантюр, жестоко разочаровывались и быстро отсеивались. Оставшиеся упорно овладевали новой специальностью по таким «авторитетным» пособиям, как книги Марты Рише «Моя разведывательная работа», Макса Ронга «Разведка и контрразведка», отдельным заметкам возвратившихся из командировок нелегалов Бронина, Кинсбургского, Мильштейна и других. Иных пособий не было. Все написанное ранее руководителями нашей службы до 1938 года было изъято, как измышления «врагов народа» и их приспешников. Поэтому на практике приходилось руководствоваться главным образом здравым смыслом и зачастую «изобретать велосипед».
После того как кровавая волна репрессий, достигнув своего апогея, понемногу медленно и неохотно пошла на убыль, в высшем руководстве страны и вооруженных сил начали приходить в себя. Они поняли, что разведывательной службе, без которой армия существовать не может, нанесен страшный удар и что надо поправить дело. В частности, решили немедленно укрепить разведку и поднять ее авторитет. С этой целью начальника разведуправления сделали одновременно заместителем народного комиссара обороны и на этот пост назначили только что возвратившегося из Испании воздушного аса, комдива Проскурова. Молодой, отважный пилот за личное мужество и великолепное мастерство в боях с немецкими летчиками получил звание Героя Советского Союза. За два года он из старшего лейтенанта превратился в генерала. Его избрали в Верховный Совет СССР. В 1938 году ему было всего 31 год, и назначение на пост заместителя наркома не могло не вскружить ему голову.
Понятно, Проскуров не имел ни малейшего представления о разведке и, несмотря на самоуверенность, чувствовал себя на новом посту не в своей стихии. Здесь помимо личной храбрости нужен был большой объем специальных знаний, государственный ум, способности дипломата, высокая оперативная подготовка. Этих данных у нового руководителя разведуправления не было. Не поднявшись по общему уровню развития выше командира авиационного звена или в лучшем случае комэска – командира эскадрильи, но окрыленный громадной властью, которую ему давала должность заместителя наркома, Проскуров тем не менее употреблял ее иногда со всей солдатской прямотою. Являясь честным человеком, он в одном из своих приказов разнес по заслугам командующего войсками Ленинградского военного округа маршала Тимошенко за неудовлетворительную подготовку по разведке частей и соединений. Неопытность, отсутствие «разведки на себя» сильно подвели нового заместителя главы НКО. В 1940 году наркомом был назначен Тимошенко, который, конечно же, не забыл ретивого молодого начальника разведупра, осмелившегося ему, прославленному герою гражданской войны, сделать обидный выговор. Проскурова сняли, и он исчез.
Случай с Проскуровым – один из многих, когда прекрасные на своих местах кадры при неумелом использовании губили дело и погибли сами.
В начале 1939 года я стал работать в центральном аппарате разведупра на западном направлении в должности старшего помощника начальника отделения. До 1940 года отделение было частью отдела военно-технической разведки, в задачи которого входило: подбирать, готовить и направлять за рубеж в легальный аппарат и на нелегальную работу разведчиков – советских граждан и проводить весь комплекс мероприятий, связанных с получением информации о планах наших вероятных противников в области развития военной техники. Затем отдел реорганизовали. Меня перевели в другое подразделение – отдел приграничной разведки в отделение, ведавшее деятельностью разведорганов приграничных западных, особых, как их тогда называли, военных округов. Отдел занимался укомплектованием кадрами, техникой, материальными средствами приграничных разведорганов и разработкой мобилизационных мероприятий для указанных структур. На него возлагалась также инспекция боевой готовности этих органов и анализ информации, поступающей от добывающего аппарата за рубежом. Отделом руководил полковник И.В.Виноградов, а мое отделение возглавлял майор Н.В.Шерстнев.
Несмотря на то, что по условиям конспирации каждый из сотрудников того или иного направления должен был знать только то, что ему положено по службе, все же общая картина надвигающейся военной опасности для всех работников разведки были ясна. Назревали грозные события. Германия неудержимо рвалась к господству над миром. После захвата почти всей Западной Европы, располагая мощным военно-промышленным потенциалом, отмобилизованной, хорошо. вооруженной армией, «третий рейх» направил свои агрессивные устремления против Советского Союза.
Информация о подготовке гитлеровцев к нападению на СССР начала поступать по различным каналам из нелегальных и легальных резидентур и разведывательного аппарата, приграничных военных округов.
Необходимо отметить, что при достаточно хорошо налаженной работе по получению нужных Кремлю сведений о планах и намерениях политического и военного руководства зарубежных государств, в первую очередь Германии, в отношении нашей страны военная разведка, ее ответственные работники были весьма слабо информированы о планируемых акциях собственного правительства. Так, освобождение западных областей Украины и Белоруссии, заключение с Германией договора о дружбе и границе были неожиданностью для разведупра. Поэтому мы не смогли дать указания на передислокацию наиболее ценной агентуры из бывших восточных областей Польши на Запад. Вот и получилась нелепица: в результате стремительного продвижения Красной Армии к Бугу наши агенты оказались в собственном глубоком тылу.
С конца 1940 года в разведуправление отовсюду стали стекаться тревожные сведения. В Генерал-губернаторстве (так гитлеровцы называли оккупированную ими часть Польши), Румынии, Венгрии и Болгарии, несколько позже в Финляндии, германское военное командование концентрировало свои войска, численность которых непрерывно увеличивалась. Разведотделы приграничных военных округов доносили о том, что вдоль нашего рубежа во все возрастающем количестве накапливается живая сила и техника вермахта. Такого в мирное время никогда не бывало. То, что нападение фашистов неизбежно, становилось все яснее.