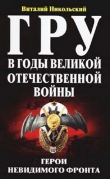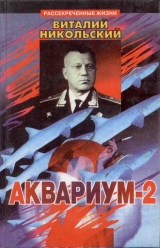
Текст книги "Аквариум-2"
Автор книги: Виталий Никольский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Партактив протекал бурно. Ярко обрисовав в докладе бонапартизм и самодурство бывшего министра обороны СССР, Брежнев призвал развернуть критику неслужебной деятельности местных руководителей. Коммунисты в своих выступлениях поднимали важнейшие вопросы боевой подготовки, указывали конкретных виновников недостатков, невзирая на должности и звания. Особенно досталось генерал-лейтенанту Якубовскому И.И. и некоторым другим генералам и офицерам. Их обвиняли в неграмотности, зазнайстве, самодурстве, а один из выступавших, замполит автомобильного батальона, обслуживающего штаб, под хохот всего зала заявил:
– Родили их простые русские неграмотные женщины, да и сами они особой образованностью не отличаются. Кто же им дал право вести себя так, что если бы не их генеральские погоны, то им не вылезать бы из тюрьмы за мелкое хулиганство.
Впервые в жизни мне приходилось на армейском партийном собрании слышать столь острую критику личных недостатков военных руководителей. Как было бы полезно для дела, если бы это стало нормой партийной жизни. От стольких бед мы были бы избавлены, какая масса промахов была бы устранена своевременно из нашей жизни.
При утверждении решения по докладу Брежнева часть коммунистов потребовала указать перечисленным в критических замечаниях лицам на недостатки и настоятельно рекомендовать не повторять их в практической работе. И здесь произошло неожиданное. Увидев, что «джинн вырвался из бутылки», докладчик явно испугался и, используя свое высокое положение, попытался загнать его обратно.
– Есть ли необходимость в столь крайних мерах? – вопрошал Брежнев. – Государственные умы наших военачальников уже сделали нужный вывод. Они не допустят, чтобы возникла необходимость их повторной критики.
Предложение сняли, не голосуя.
По простоте душевной я полагал, что всех подвергшихся критике по кардинальным вопросам армейской жизни деликатно снимут с должностей, не поднимая шума. Каково же было наше удивление, когда через несколько месяцев И.И.Якубовскому было присвоено очередное воинское звание: генерал-полковник. Многие, кого критиковали, тоже получили повышения в должностях и званиях. Короче говоря, все осталось по-старому.
Наблюдая в ту пору за работой некоторых командиров и начальников в ГСВГ, выдвинувшихся на крупную руководящую должность иногда волею случая или по протекции, приходилось удивляться, как быстро многие из них приобретали не свойственные простому советскому труженику черты высокомерия, чванства, жадности, угодничества перед вышестоящими и хамства к подчиненным. Достигнув высокого поста и тем самым оградив себя от критики подчиненных, такой начальник знал, что его дальнейшая карьера целиком зависит от расположения вышестоящего руководителя, и любым путем старался добиться его, понимая, что в положительном случае он будет на своем участке практически бесконтролен и всесилен.
Выступления генералов и офицеров ГСВГ на активе по докладу Брежнева об итогах октябрьского пленума ЦК вскрыли лишь незначительную часть личных и служебных недостатков ряда руководителей ГСВГ. Никто не осмелился сказать, что главком А.А.Гречко превратился в зазнавшегося барина. Он мог незадолго до партийного актива приказать играть в футбол два тайма для одной своей персоны, хотя матч задолго до этого был назначен на вечер. Собравшимся офицерам и членам их семей просто объявили, что игра не состоится. Выезд маршала с территории военного городка превращался в особый ритуал, во время которого запрещался выпуск с автобазы штаба любого транспорта. Один из штатных переводчиков разведуправления фактически постоянно находился в распоряжении жены маршала для поездок по немецким магазинам и перевода содержания западных фильмов, специально демонстрировавшихся только для семьи главкома у него на квартире два раза в неделю. В каждом окружном городе ГДР имелась отдельная вилла с офицером-комендантом, соответствующей охраной и необходимым оборудованием на случай возможного заезда в этот город главкома или его семьи. Некоторые из этих домов не использовались совсем, но обслуживающий персонал на них содержался. Так, на всякий случай. Многочисленный штат военной и гражданской прислуги от порученца в звании полковника до личных тренеров по теннису и плаванию, поваров и официанток призван был удовлетворять все возрастающие потребности маршала и его семьи, которые уже давно жили при коммунизме.
Все это, равно как и парадные выезды на охоту, рыбную ловлю, пикники с многочисленными немецкими и отечественными высокопоставленными друзьями, занимало массу времени и вызывало законный вопрос: кто же и когда работает? А работа шла. Напряженная, упорная. Вело ее так называемое среднее и низшее звено армейской иерархии, укомплектованное, как правило, самоотверженными, знающими свое дело офицерами и генералами. И вот у это го-то рабочего состава нередко возникал вопрос: к чему же эти излишества? Ведь они оплачивались деньгами народа. Как же скромно жили генералиссимус Суворов или фельдмаршал Кутузов, у которых всего-то обслуги было денщик, казак да корнет-порученец.
Главнокомандующий группой ГСВГ был всемогущ. Ему ничего не стоило уволить начальника рации капитана, участника Великой Отечественной войны, прослужившего девятнадцать лет в Советской Армии, только за то, что его передающая установка недостаточно четко транслировала на учениях последние известия. Маршал знал, что увольняемый, уже пожилой человек, пенсии не получит. Она назначалась только после двадцати лет службы.
Однажды штаб группы войск – от его начальника генерал-полковника Сидельникова до дежурного – был в смятении. Все пытались установить, кто автор изречения: «Блажен муж, да не идет на совет нечестивых». Оказывается, маршал Гречко, опоздав на Военный совет, в шутку произнес эту библейскую истину и спросил:
– Знают ли почтенные члены совета, откуда она?
И дал задание выяснить это.
Понятно, что никто из присутствовавших закона Бо-жия не изучал и не мог знать таких тонкостей. Однако ответить маршалу было лестно. И вот началось своеобразное соревнование штабных начальников, кто быстрее найдет источник. Хотели даже послать срочный запрос в главную библиотеку нашего государства – Ленинскую. К счастью, исчерпывающую консультацию по столь важной проблеме удалось получить на месте у настоятеля православной церкви в Лейпциге. Он с большим удовольствием дал нужную справку. Цитата, оказывается, была из Псалтыря. Задание маршала было выполнено. Военный совет обогатился новыми, укрепляющими боеготовность войск познаниями.
А к слову сказать, за два с лишнем года наболевшие вопросы разведслужбы штаба группы на Военном совете в полном объеме не ставились. Не хватало времени.
В период пребывания Л.И.Брежнева в ГСВГ в 1957 году его друг полковник Бандура согласился организовать с ним встречу для доклада о необходимости создать специальную службу, от которой в значительной степени зависела эффективность разведки и боевая готовность группы войск. К этой встрече все командиры и начальники наших разведподразделений готовились несколько дней. Была составлена памятная записка, в которой излагались насущные потребности оперативной разведки. В частности, доказывалась необходимость содержания разведывательных частей уже в мирных условиях по штатам военного времени, обеспечения новой техникой, координации работы с соответствующими службами наших союзников по Варшавскому договору и ряд других.
Беседа с секретарем Центрального комитета партии, ведавшим в ту пору военными вопросами, была для нас крупным событием, и мы ждали от нее весьма многого. Однако ожидания, к сожалению, не оправдались. Предупредив, что он может уделить нам не более 10 минут, Брежнев спросил, имеется ли по кратко доложенным мною вопросам что-либо в письменным виде? Получив утвердительный ответ, он приказал передать наш материал порученцу. После чего заявил Бандуре:
– Николай Иванович! Пошли завтракать.
Аудиенция закончилась. Какого-либо решения по поднятым нами вопросам или по крайней мере ответа на них мы не получили. Очевидно, руководство в то время было занято более важными делами, и наши заботы и проблемы сочли в Москве слишком мелкими.
Своеобразные отношения складывались в тот период между руководством ГДР и командованием ГСВГ. Наша сторона добровольно приняла на себя роль Пигмалиона, не только создав себе творение по образу и подобию своему, но и влюбившись в него до обожествления. Вообразив, что восточные немцы, перевоспитавшись под влиянием наших войск и твердо став на путь строительства социализма, превратились в искренних друзей Советского Союза, мы отменили все репарационные платежи, приняли на себя все оккупационные расходы, начали платить немцам за все, кроме воздуха. Из своих более чем скромных ресурсов, в ущерб собственному народу в ГДР пошли составы с хлебом, маслом, мясом. Выполнялось пожелание Вальтера Ульбрихта превратить первое в мире немецкое рабоче-крестьянское государство в страну изобилия и благосостояния с тем, чтобы оно стало притягательной силой для западных немцев.
Помпезные приемы руководителей Восточной Германии, ранее пребывавших у нас в СССР в качестве эмигрантов, – Вильгельма Пика, Вальтера Ульбрихта, Германа Матерна, Карла Марона и других деятелей компартии Германии, принадлежавших к старой, еще тельмановской гвардии, удивляли их и при всем нашем желании не давали должного эффекта. Однако гипертрофированное чувство собственной значимости, то, что мы у себя называли культом личности, некоторые из них, наиболее подверженные этой болезни, с нашей помощью не преминули приобрести. Затем у кое-кого из новых государственных мужей вновь начало возрождаться чувство национального превосходства, близкое к немецкому шовинизму.
В стремлении создать авторитет властям ГДР мы иногда доходили до абсурда. В 1958 году начальник одного из управлений штаба ГСВГ генерал-майор Чеченцев А.Е. был заменен ранее служившим здесь генерал-майором Романовским А.В. На приеме в советском посольстве первый секретарь ЦК СЕПГ В.Ульбрихт заметил Романовского в толпе генералов и офицеров и с громким восклицанием: «Саша, а ты сюда какими судьбами?» – бросился к нему и начал обнимать. После чего значительную часть времени провел с ним на приеме в воспоминаниях о совместной службе на 1-м Белорусском фронте, где Ульбрихт одно время работал переводчиком в 7-м отделе Политуправления по разложению войск противника и жил длительное время в одной землянке с этим Сашей, бывшим в ту пору уже полковником.
Такая фамильярность какого-то неизвестного генерал-майора с первым секретарем вызвала возмущение присутствовавших на приеме командующего и начальника штаба группы войск. По прибытии в Вюнсдорф Романовский получил строгое внушение по поводу своей «бестактной навязчивости» В.Ульбрихту, фактически выразившейся лишь в том, что он ответил на его простые человеческие чувства. Что это было? Зависть, недомыслие или и то и другое? А ведь при иной оценке этой связи ее можно было использовать в нужном для нас направлении.
По службе мне приходилось неоднократно встречаться с министром внутренних дел ГДР Мароном. Этот симпатичный человек, старый коммунист, в прошлом простой рабочий, охотно принимал меня и немало помогал нам. Когда о своих контактах с ним я доложил начальнику штаба группы Сидельникову, тот пришел в ужас и категорически запретил встречаться с Мароном.
Отношения с немецкими официальными лицами должны были строиться по нашей схеме только на уровне равного с равным, не нарушая установленной у нас иерархии.
Эту далекую от ленинских норм практику контактов только с нашей помощью легко усваивали некоторые немецкие руководители, выдвинутые на высокие :посты волею случая или благодаря личным связям с кем-либо из власть имущих. Такие деятели быстро осваивали роль чиновников, оторвавшихся от народа. У них в приемных зачастую должны были сидеть в ожидании аудиенции уже и советские должностные лица.
Некоторые из руководящих работников ГДР договаривались до того, что прозрачно намекали о целесообразности вывода советских войск из Германии, утверждая, что они мешают строительству социализма, завоевания которого немцы в силах защитить сами. При этом забывалась опасность поглощения республики более мощным немецким государством, к которому втайне тяготели многие жители восточных германских земель. Оперативно проведя, не без нашего участия, ряд социальных преобразований, присущих действительно социалистическому государству, немцы на востоке забыли, или сделали вид, что забыли, об ответственности за недавно прошедшую мировую катастрофу, происшедшую и по их вине. Они стали «равными среди равных» в социалистическом лагере и небезуспешно принялись требовать от жертв бывшей немецкой агрессии экономической помощи, которая дала бы им возможность успешно представлять социализм на мировой арене.
В результате жизненный уровень жителей ГДР скоро стал значительно выше, чем в других социалистических странах, включая и СССР. В соревновании «кто больше даст немцам», проводимом двумя лагерями – капиталистическим и социалистическим, выиграли в конечном счете граждане двух немецких государств. При этом как в ФРГ, так и в ГДР, можно сказать, не ощущалось чувства признательности к своим «благодетелям» за то, что чудовищные злодеяния, совершенные гитлеровцами в прошедшей войне, были быстро забыты.
Мои суждения об обстановке в Германской Демократической Республике во второй половине пятидесятых годов вовсе не свидетельствуют о том, что политология была тогда моим главным занятием. Я – разведчик и, естественно, обязан был заниматься организацией разведывательных операций, чтобы собрать как можно больше точной секретной информации о планах и конкретных действиях военного командования США, Великобритании, Франции и других стран Североатлантического блока, а также НАТО в ФРГ. Плюс к этому не выпускать ни на секунду строительство и практическую деятельность западногерманской армии – «демократического» бундесвера. Сколько в нем было демократии, читателю самому не трудно сделать вывод, если он примет во внимание один-единственный неоспоримый факт: вооруженные силы боннской республики, создаваемые в первую очередь с материальной и моральной помощью Вашингтона, возглавляли целиком и полностью бывшие гитлеровские генералы и старшие офицеры.
Возможности ведения разведки войск наших бывших союзников в Германии практически были теми же, что и в Австрии. Они, эти возможности, несколько расширялись благодаря наличию в западных зонах оккупации советских военных миссий и небывалой односторонней миграцией немцев из ГДР в ФРГ.
В то время ежемесячно на Запад выезжали до трех десятков тысяч человек. Это облегчало деятельность наших связников и агентов-маршрутников, убывавших и возвращавшихся обратно через Западный Берлин.
Разведуправление штаба группы войск на новой основе использовало уже проверенные в Австрии методы и формы работы. Так, была организована на коммерческой основе переброска из ФРГ в Западный Берлин бумажных отходов из американских штабов. Этот канал работал фактически до вывода наших войск из Германии и давал весьма ценные материалы.
Наши военные миссии в западных зонах открывали не только широкие возможности для визуального наблюдения. Через них устанавливались контакты с интересующими нас людьми непосредственно в Федеративной республике.
Случались и незапланированные операции. Однажды дождливой ночью в квартиру начальника одной из наших миссий позвонил неизвестный, который оказался сержантом, служившим в штабе американского подразделения. Он был, как у нас принято называть, начальником секретной части и имел намерение продать за подходящую цену содержимое своего портфеля с документами, среди которых оказался план нанесения ядерных ударов в случае начала военных действий против СССР и его союзников.
Мы установили с доброхотом надежную конспиративную связь. Долгое время, до отъезда на родину, он снабжал нас важными секретными и сверхсекретными материалами высоких военных инстанций США. А ведь вначале его визит был принят за провокацию, и если бы не решительность начальника миссии, который был потрясен важностью предлагаемых документов, мы могли потерять архиценного источника. Данные были направлены из ГСВГ нарочным в Генштаб, где получили весьма высокую оценку.
Хочу подчеркнуть, что некоторые наши агенты занимали важные посты в оккупационных войсках западных держав и в государственных учреждениях ФРГ. Припоминаю несколько комичный случай, когда во время встречи нашего офицера с депутатом бундестага западногерманского парламента на конспиративную квартиру зашел начальник разведуправления генерал-майор… Впрочем, называть его настоящую фамилию нет надобности, обозначу его просто литерой Н. Так вот, генерал Н. решил почему-то распечь нашего помощника. Не поздоровавшись, он грубо потребовал повышения качества работы, угрожая, что иначе будут неприятности. После чего, не попрощавшись, ушел. Желая как-то сгладить плохое впечатление, офицер сказал, что начальник сильно болен.
– Эта болезнь мне известна, – иронически заметил депутат. – Но я хорошо знаю русский язык и переводить указания шефа мне не нужно.
Пока я служил в Германии, этот агент активно и безвозмездно работал на нашу военную разведку, поставляя ценную информацию. Дальнейшая судьба его мне, к сожалению, неизвестна.
Я мог бы рассказать много других, более важных и интересных эпизодах деятельности разведуправления ГСВГ. Но не истек положенный по закону пятидесятилетний срок, после которого разрешается раскрывать государственные и военные секреты. А нарушать закон не дано никому. Кроме того, учитывая, что ныне в объединенной Германии преследуют лиц, сотрудничавших со спецслужбами СССР и ГДР, я не считаю возможным более подробно писать о немецком периоде своей работы.
Если не ошибаюсь, в 1957 году начальник оперативной разведки ГРУ генерал-лейтенант Кочетков М.А. решил оказать конкретную помощь разведслужбе штаба Группы советских войск в Германии. В результате был составлен план использования находившихся на консервации агентов внутрилагерной осведомительной сети из числа бывших военнопленных, которых освободили из советских лагерей и отправили на жительство в Западную Германию. Очень простой и логичный проект, реализация которого сулила существенное усиление наших агентурных позиций в ФРГ.
Архивы КГБ СССР с делами на этих агентов в ту пору располагались в здании Лефортовской тюрьмы. Руководство Комитета госбезопасности быстро откликнулось на просьбу генерала Кочеткова, после чего в архив направили группу офицеров военной разведки, которым поручили изучить дела и подобрать наиболее подходящие кандидатуры для восстановления связи.
В свое время лагерные осведомители вербовались для выявления военных преступников среди пленных, пресечения попыток побега, сбора информации о настроениях солагерников и так далее. Поражало огромное число этих соглядатаев. Только оформленных личных дел в архиве хранилось свыше ста тысяч.
Среди агентов были генералы и рядовые, нацисты и бывшие социал-демократы и коммунисты, протестантские и католические священники, дворяне и рабочие, старики и семнадцатилетние юнцы, призванные по тотальной мобилизации.
В делах имелись их собственноручные обязательства добровольно сотрудничать с администрацией лагеря, автобиография с адресами родных и близких знакомых в Германии, анкета, подписка о неразглашении секретных сведений и факта сотрудничества с советскими учреждениями, и, правда, не во всех случаях, пароль для восстановления агентурной связи и фотография. В делах были также подшиты все рукописные донесения агентов, сведения, которые он сообщил о вермахте, и другие материалы, компрометирующие его перед германскими властями и закрепляющими его связь с советскими спецслужбами.
Характерно, что значительная часть таких добровольных информаторов выдавала себя за антифашистов, борцов движения Сопротивления, сторонников мира и даже членов компартии Германии. Как следовало из документов, осведомителям в качестве вознаграждения на конспиративных встречах выдавалось немного продуктов, сигарет или табака. Их посылали на более легкие работы, назначали старшими по баракам и так далее. Все это делалось, естественно, втайне от массы военнопленных. В противном случае «доверенным лицам» советской администрации не поздоровилось бы от своих земляков.
Хочу обратить внимание читателей и на следующее. Каких-либо волнений или других случаев массового проявления недовольства военнопленных, их побегов из лагерей фактически не отмечено. Частично это можно объяснить хорошо поставленной службой внутрилагерного осведомления, своевременно докладывавшей о настроениях и намерениях пленных германских военнослужащих и оперативно принятыми по этим сигналам мерами лагерной администрации. Но, пожалуй, главную роль сыграло все же гуманное обращение с военнопленными. Их, например, не изнуряли работой, им своевременно предоставляли медицинскую помощь. Они получали шестьсот граммов хлеба в день, тогда как норма для советских граждан, не занятых на производстве, составляла всего половину этого пайка.
Из многих тысяч дел мы отобрали около ста на тех бывших осведомителей, которые показались нам в свете задач, поставленных перед военной разведкой, наиболее перспективными. Все они были офицерами с высоким положением в обществе и интересными связями в Западной Германии. Кроме того, эти кандидаты больше других скомпрометировали себя в глазах германских властей, дав развернутые показания против многих нацистских военных преступников, осужденных советскими судами на длительные сроки заключения.
Короче говоря, задуманная операция, назовем ее условно «Реанимация», вроде бы сулила успех. Но наши радужные расчеты, к сожалению, не оправдались.
Связники, посланные в ФРГ, чтобы восстановить контакты с законсервированными агентами, вернулись обратно ни с чем. Одни бывшие внутрилагерные осведомители без долгих разговоров пытались передать наших посланцев полиции. Другие категорически отказались работать с советской разведкой и в ответ на попытку принудить их к этому пригрозили немедленно донести на связников немецким властям. Третьи срочно сменили адрес или уехали заграницу. А один бывший осведомитель даже покончил жизнь самоубийством после посещения его нашим человеком.
Надо признать: акция «Реанимация» окончилась для нас полным провалом. И случилось это в первую очередь по нашему недомыслию. Дело старое, чего греха таить! Разведуправление упустило из виду, что в ФРГ обстановка вокруг военнопленных резко изменилась. В 1956 году боннский канцлер Конрад Аденауэр инициировал принятие парламентом широко разрекламированного закона. В соответствии с ним амнистировались все лица, совершившие преступления против германского государства в период пребывания в плену у противника. Почему? Да потому, как считали западногерманские власти, соотечественников, попавших в полон, советские административные и репрессивные структуры вынудили сделать эти преступные деяния. Агенты НКВД-НКГБ и советской военной разведки также автоматически освобождались от наказания.
В ходе акции мы еще раз убедились, насколько советские воины оказались сильнее духом своих противников. Среди наших пленных тоже, конечно, имелись и изменники, и лица, связавшие свою судьбу с гитлеровскими спецслужбами. Но ими были, как правило, убежденные враги существовавшего в Советском Союзе режима, готовые сотрудничать с кем угодно, лишь бы нанести ущерб коммунистической системе, не считаясь с тем, что их действия в первую очередь бьют по безопасности России и других входящих в СССР республик, а также по простым людям, населяющим эти государства. Между тем для подавляющего большинства наших воинов, попавших в гитлеровский плен, характерными были, и это объективно зафиксировано во множестве немецких документов, тысячи случаев бегства из неволи, создание подпольных антифашистских групп Сопротивления в лагерях, взаимная поддержка и выручка, патриотизм и героизм.
Я могу честно засвидетельствовать, что ничего подобного не было у немецких пленных, содержавшихся у нас. И быть не могло, ибо в отличие от нас их не объединяла и не поддерживала в трудную минуту высокая идея.
Мне пришлось наблюдать, как проходило массовое возвращение на родину из Советского Союза пленных австрийцев, служивших в гитлеровской армии. Оно было проведено в короткий срок – конец 1953-го – начало 1954 года.
Пленные были отпущены по просьбе австрийского правительства в преддверии подписания с Веной государственного договора. Этот документ вступил в силу 27 июня 1955 года. Хочу напомнить, что он включил в себя обязательства СССР, США, Великобритании и Франции уважать независимость и территориальную целостность Австрии и австрийское правительство, не допускать деятельности фашистских организаций и обеспечить демократические свободы. Парламент дунайской республики тогда же принял конституционный закон о постоянном нейтралитете Австрии. Так вот, об этом важном документе австрийская сторона поспешила забыть и оказалась ныне в атлантических объятиях.
Однако вернемся к далеким дням середины пятидесятых. Десятки эшелонов с пленными прибывали в Вену и другие крупные города страны. Их встречали федеральный президент Теодор Кернер и члены правительства. Толпы австрийцев забрасывали приехавших цветами. В их честь воздвигались триумфальные арки. Многих вполне здоровых «жертв большевизма» укладывали на носилки и доставляли к автомобилям «скорой помощи» на руках. Проводились многолюдные митинги и собрания.
Я сожалею, но вынужден по правде сказать, что возвращение военнопленных вылилось в шумную и недостойную антисоветскую и антирусскую кампанию. Выпускались клеветнические кинофильмы, издавались десятки книг, публиковались сотни репортажей об «ужасах советского плена». Все вернувшиеся получили бесплатные путевки в санатории, их без очереди, как «героев борьбы с коммунизмом», устраивали на работу…
И невольно вспоминалось, как плохо принимали у нас своих воинов, имевших несчастье попасть в немецкий плен, с каким подозрением отнеслись к ним, как многих направляли в проверочные и фильтрационные пункты и другие учреждения, а затем немало ни в чем не повинных людей перегоняли в следующий круг ада – настоящие концлагеря на долгую отсидку. А ведь почти все военнопленные, прежде чем оказаться в фашистской неволе, уже внесли конкретный вклад, в ряде случаев значительный, щедро политый собственной кровью, в достижение нашей великой Победы.
По возвращении из ГСВГ осенью 1958 года я был назначен на должность начальника направления управления оперативной разведки ГРУ Генштаба ВС СССР. Здесь я мог полностью использовать свой опыт, полученный в годы войны и во время службы в разведструктурах армии, фронта, центрального аппарата, а затем в группах наших войск в Австрии и Германии.
Дело у меня спорилось, и я был доволен своим положением.
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Не прошло и двух лет, как высшая воля в лице моих начальников вновь вмешалась в мою жизнь и круто изменила судьбу…