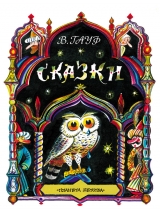
Текст книги "Сказки (с иллюстрациями)"
Автор книги: Вильгельм Гауф
Жанр:
Сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Сейчас скажу, – ответил старик. – Дух человеческий еще легче и подвижней воды, принимающей любую форму и постепенно проникающей в самые плотные предметы. Он легок и волен, как воздух, и, как воздух же, делается тем легче и чище, чем выше от земли он парит. Поэтому в каждом человеке живет стремление вознестись над повседневностью и легче и вольнее витать в горних сферах хотя бы во сне. Сами вы, мой молодой друг, сказали: «Мы жили в тех рассказах, мы думали и чувствовали вместе с теми людьми», – отсюда и то очарование, которое они имели для вас. Внимая рассказам раба, вымыслу, придуманному другим, вы сами творили вместе с ним. Вы не задерживались на окружающих предметах, на обычных своих мыслях, – нет, вы все сопереживали: это с вами самими случались все чудеса, – такое участие принимали вы в том, о ком шел рассказ. Так ваш дух возносился по нити рассказа над существующим, казавшимся вам не столь прекрасным, не столь привлекательным, так ваш дух витал вольней и свободнее в неведомых горних сферах; сказка становилась для вас явью, или, если угодно, явь становилась сказкой, ибо вы творили и жили б сказке.
– Я вас не вполне понимаю, – возразил молодой купец, – но вы правы, говоря, что мы жили в сказке, или сказка жила в нас. Я помню еще ту блаженную пору; все свободное время мы грезили наяву: мы воображали, будто нас прибило к пустынным, необитаемым островам, мы совещались, что предпринять, дабы поддержать нашу жизнь, и часто сооружали мы себе хижины в диких ивовых зарослях, из жалких плодов готовили себе скудную трапезу, хотя в сотне шагов оттуда, дома, мы могли получить все самое лучшее, – да, была пора, когда мы ожидали появления доброй феи или чудесного карлика, которые подошли «бы к нам и сказали: «Сейчас разверзнется земля, соблаговолите тогда сойти в мой хрустальный дворец и откушать тех яств, что подадут вам – мои слуги-мартышки».
Юноши рассмеялись, но согласились, что приятель их говорил сущую правду.
– Еще и поныне, – продолжал один из них, – еще и поныне по временам подпадаю я прежним чарам; так, например, я сильно рассердился бы на брата за глупую шутку, если бы он ворвался в дверь и сказал: «Слыхал о несчастье с соседом, толстым булочником? Он повздорил с волшебником, и тот из мести превратил его в медведя; и теперь он лежит у себя в комнате и отчаянно ревет». Я б рассердился и обозвал его вралем. Но совсем иное, если бы мне поведали, что толстый сосед предпринял далекое странствие в чужие, неведомые края, там попался в руки к волшебнику, а тот обратил его в медведя. Я постепенно перенесся бы в рассказ, странствовал бы вместе с соседом, переживал бы чудеса, я меня бы не очень удивило, когда бы он оказался засунутым в шкуру «и вынужденным ходить на четвереньках.
– И все же, – сказал старик, – существуют весьма занимательные рассказы, где не появляются ни феи, ни волшебники, ни хрустальные замки, ни духи, подающие редкостные яства, ни птица Рок, ни волшебный конь, – это рассказы другого рода – не те, что обычно зовутся сказками.
– Что вы под этим подразумеваете? Объяснитесь получше. Другого рода, чем сказки? – спросили юноши.
– Я думаю, надо делать известное различие между сказкой и теми рассказами, которые в обычной жизни зовутся новеллами. Если я скажу, что собираюсь рассказать вам сказку, то вы заранее будете рассчитывать на приключение, далекое от повседневной жизни и происходящее в мире, природа которого отличается от земной. Или, говоря ясней, в сказке вы сможете рассчитывать на появление других существ, а не только смертных людей; в судьбу героя, о котором повествует сказка, вмешиваются неведомые силы, феи и волшебники, духи и повелители духов; весь рассказ облекается в необычную, чудесную форму и выглядит примерно так, как наши тканые ковры и рисунки наших лучших мастеров, которые франки зовут арабесками. Правоверному мусульманину запрещено греховно воссоздавать в рисунках и красках человека, творение Аллаха; поэтому на этих тканях мы видим замысловато переплетающиеся деревья и ветви с человеческими головами, людей, переходящих в куст или рыбу, – словом, фигуры, напоминающие обычную-жизнь, и все же необычные; вы меня понимаете?
– Мне кажется, я догадываюсь, – сказал писец. – Но продолжайте.
– Такова сказка: чудесная, необычная, неожиданная; так как она далека от повседневной жизни, то ее часто переносят в чужие края или в далекую, давно минувшую пору. У каждой страны, у каждого народа есть такие сказки – у турок и у персов, у китайцев и монголов, даже в стране франков, как говорят, много сказок, по крайней мере, так мне рассказывал один ученый гяур; но они не столь хороши, как наши, так как прекрасных фей, обитающих в великолепных дворцах, у них заменяют колдуньи, которых они зовут ведьмами; злобные уродливые существа, живущие в жалких лачугах и несущиеся вскачь через туман, верхом на помеле, вместо того, чтобы плыть в раковине, запряженной грифонами, по небесной лазури. У них водятся и гномы и подземные духи – крохотные нескладные уродцы, которые любят играть злые шутки. Таковы сказки. Совсем иного рода рассказы, которые обычно зовутся новеллами. Они мирно свершаются на земле, происходят в обыденной жизни, и чудесна в них только запутанная судьба героя, который богатеет или беднеет, терпит удачу или неудачу не при помощи волшебства, заклятия или проделок фей, как это бывает в сказках, а благодаря самому себе или странному сплетению обстоятельств.
– Правильно, – подхватил один из юношей. – Такие истории, без-всякой примеси чудесного, встречаются также в прекрасных рассказах Шехерезады, известных под названием «Тысячи и одной ночи». Большинство приключений султана Гаруна ар-Рашида и его визиря такого рода. Переодевшись, покидают они дворец и сталкиваются с тем или иным необычайным явлением, в дальнейшем разрешающимся вполне естественно.
– И все же вам придется признать, – продолжал старик, – что эти новеллы – не худшая часть «Тысячи и одной ночи». А между тем, как отличаются они от сказок о принце Бирибинкере, или о трех одноглазых дервишах, или о рыбаке, вытащившем из моря кубышку, припечатанную печатью Соломона! Но, в конечном счете, очарование сказки и новеллы проистекает из одного основного источника: нам приходится сопереживать нечто своеобразное, необычное. В сказках это необычное заключается во вмешательстве чудесного и волшебного в обыденную жизнь человека; в новеллах же все случается, правда, по естественным, законам, но поразительно необычным образом.
– Странно, – воскликнул писец, – странно, что естественный ход вещей привлекает нас так же, как и сверхъестественное в сказках! В чем тут дело?
– Дело тут в изображении отдельного человека, – ответил старик, – в сказке такое нагромождение чудесного, человек так мало действует по собственной воле, что отдельные образы и характеры могут быть обрисованы только бегло. Иное – в обычных рассказах, где самое важное и привлекательное – то искусство, с каким переданы речь и поступки каждого, сообразно его характеру.
– Поистине, вы правы! – ответил молодой купец. – Я ни разу не удосужился подумать об этом как следует, смотрел и слушал, ни на чем не останавливаясь, порой забавляясь, порой скучая, – не зная, собственно, почему. Но вы даете нам ключ к загадке, пробный камень, дабы мы сделали пробу и вынесли правильное суждение.
– Всегда поступайте так, – ответил старик, – и наслаждение для вас возрастет, когда вы научитесь размышлять над тем, что услышали. Но глядите, вон подымается следующий рассказчик.
Так оно и было. И другой раб начал:
Обезьяна в роли человека

Господин мой! Я немец по рождению и прожил в ваших краях слишком мало, вот почему и не могу потешить вас персидской сказкой или занимательной историей про султанов и визирей. А потому я прошу позволения рассказать что-нибудь о моей родине, – может быть, это вас тоже позабавит. К сожалению, наши истории не всегда столь благородны, как ваши, то есть в них рассказывается не о султанах и наших королях, не о визирях и пашах, которые у нас зовутся министрами юстиции и финансов, а также тайными советниками или еще как-нибудь в этом роде; нет, обычно они протекают в скромной бюргерской среде, если не повествуют о солдатах.
В южной части Германии расположен городок Грюнвизель, где я родился и вырос. Все такие городишки на одно лицо. В центре небольшая базарная площадь с колодцем, тут же старенькая ратуша, вокруг базарной площади – дома мирового судьи и именитых купцов, а на двух-трех узких улочках обитают остальные жители. Все друг друга знают, всякому известно, что где творится, и когда у главного пастора, бургомистра или врача к столу подадут лишнее блюдо, то в обе денную пору это известно уже всему народу. Вечерком дамы ходят друг к другу с визитами – как принято говорить у нас – и обсуждают за чашкой черного кофе и куском сладкого пирога это великое событие, а в результате выясняется, что пастор, вероятно, купил билет в лотерею и выиграл безбожно много денег, что бургомистра «подмазали» или что доктор получил от аптекаря несколько золотых за то, чтоб впредь выписывал рецепты подороже. Вы можете себе представить, о-господин, какой неприятностью для города с таким устоявшимся укладом жизни, как Грюнвизель, был приезд человека, о котором никто не знал, откуда он, на какие средства живет, что ему надобно. Бургомистр, правда, видел его паспорт – бумажку, которую у нас всякий обязан иметь при себе.
– Неужто у вас на улицах так неспокойно, – прервал невольника шейх, – что вам необходимо иметь при себе фирман[5]5
Фирман – указ. (Прим. ред.)
[Закрыть] от своего султана, дабы держать в почтении разбойников?
– Нет, господин, – ответил тот, – этими бумажками не отпугнешь злоумышленников; заведено же это для порядка, чтобы всякий знал, с кем имеет дело. Так вот, бургомистр обследовал паспорт и за чашкой-кофе у доктора высказал свое мнение: хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюнвизель, всё же за этим что-то. кроется, ибо вид у приезжего подозрительный. Бургомистр пользовался в городе большим уважением, – чему ж удивляться, если на приезжего стали с тех пор коситься как на лицо подозрительное! А образ его жизни не мог разубедить моих сограждан. Приезжий снял за несколько золотых целый дом, до того пустовавший, перевёз туда целую фуру со странной утварью: печками, горнами, большими тиглями – и зажил там в полном одиночестве. Он даже стряпал на себя сам, и ни единой человеческой души не бывало у него, кроме одного грюнвизельского старичка, на обязанностях которого лежала закупка хлеба, мяса и овощей. Но и тому разрешалось входить только в сени, и там приезжий принимал от него покупки.
Я был десятилетним мальчуганом, когда приезжий появился у нас в городе, но и сейчас ещё, словно это произошло только вчера, помню то возбуждение, какое произвёл в городишке этот человек. После обеда он не ходил, по примеру других, в кегельбан, по вечерам не ходил в гостиницу, чтобы, как прочие, выкурить трубку табачку и потолковать о том, что пишут в газетах. Бургомистр, мировой судья, доктор и пастор по очереди приглашали его к себе отобедать или выкушать чашку кофе; – всё было напрасно: он всякий раз отговаривался под тем-или иным предлогом. Поэтому одни считали его сумасшедшим, другие – иудеем, третьи упорно и настойчиво твердили, что он чародей и волшебник. Мне минуло восемнадцать, двадцать лет – и всё ещё этого человека называли у нас в городе «приезжим».
Вот как-то случилось, что в город к нам зашли люди с заморскими зверями. Такие бродячие комедианты, с верблюдом, умеющим кланяться, пляшущим медведем, потешными, наряженными по-человечьи собаками и обезьянами, которые вытворяют разные штуки, проходят обычно через весь город, останавливаются на перекрестках и площадях, производят весьма неблагозвучную музыку на дудочке и барабане, заставляют свою труппу плясать и прыгать, а затем сбирают по домам деньги. Труппа, появившаяся в Грюнвизеле, на этот раз отличалась огромным орангутангом, почти в рост человека, ходившим на задних лапах и знавшим всякие забавные штуки. Собачья и обезьянья труппа очутилась также и перед домом приезжего господина. Когда раздались звуки барабана и дудки, он сердито глянул через окно, потускневшее от времени. Но затем подобрел, высунулся, к общему удивлению, из окна и от души смеялся над проделками орангутанга. Он даже заплатил за развлечение такой крупной серебряной монетой, что весь город судачил потом об этом.
Наутро звериная труппа тронулась в путь. Верблюд нес множество корзинок, в которых удобно уселись собаки и обезьяны, а поводыри и большая обезьяна шли следом за верблюдом. Несколько часов спустя после того, как они вышли за городские ворота, приезжий послал на почту и, к великому удивлению почтмейстера, спешно потребовал карету и почтовых лошадей и выехал через те же ворота и по тому же тракту, по которому двинулись звери. Весь городишко был вне себя от досады, так как никто не знал толком, куда он отправился. Было уже темно, когда приезжий подъехал к тем же воротам. В карете сидел ещё кто-то; он надвинул шляпу низко на лоб, а уши и рот повязал шелковым платком. Писарь при заставе почёл своей обязанностью заговорить с новым приезжим и попросить у него паспорт, но тот ответил, весьма неучтиво, буркнув что-то на совершенно непонятном языке.
– Это мой племянник, – вежливо сказал приезжий писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет, – это мой племянник, и пока что он плохо понимает по-немецки. Он сейчас как раз выругался на, своём родном диалекте по поводу задержки.
– Ну, ежели это племянник вашей милости, – ответил писарь, – то пусть себе едет без паспорта. Верно, он будет проживать у вас?
– Разумеется, – сказал приезжий, – и, должно быть, пробудет здесь, сравнительно долго.
У писаря не было больше возражений, и приезжий с племянником въехали в городок. Впрочем, бургомистр, а с ним и весь город досадовали на писаря. Он мог бы, по крайности, запомнить несколько слов, сказанных на языке племянника. Тогда хоть узнали бы, уроженцами, какой страны были они с дядей. Но писарь уверял, будто он говорил не по-французски и не по-итальянски, а скорее по-английски, и, если он, не ошибается, молодой человек сказал: «Goddam!»[6]6
Английское ругательство, обозначающее: проклятие. (Прим. ред.)
[Закрыть] Так писарь и сам выпутался из беды, и молодому человеку помог приобрести имя. Ибо теперь в городишке только и разговору было что о молодом англичанине.
Но молодой англичанин тоже не показывался ни в кегельбане, ни в пивном погребке; но зато он другим способом давал много пищи людским толкам. А именно, часто случалось, что в обычно столь тихом доме приезжего подымались страшные крики и возня, так что люди, задравши головы, толпились перед домом. Молодой англичанин, в красном фраке и зеленых штанах, взлохмаченный и страшный, метался с невероятной быстротой по всем комнатам от окна к окну, а старик-приезжий в красном шлафроке гонялся за ним с арапником; часто он промахивался, но несколько раз любопытным, собравшимся перед домом, почудилось, будто он задел юношу, ибо все слышали жалобные и испуганные стоны и щелканье бича. Дамы нашего городка приняли близко к сердцу суровое обращение с молодым человеком и, в конце концов, упросили бургомистра вмешаться в это дело. Он послал приезжему господину записку, в которой в довольно резких выражениях порицал его за суровое обращение с племянником и грозил, буде такие сцены не прекратятся и впредь, взять молодого человека под свою особую защиту.
Но каково было удивление бургомистра, когда, впервые за десять лет, у него в доме появился приезжий господин. Старик оправдывал свое поведение особыми обязанностями, возложенными на него родителями юноши, поручившими ему его воспитание; в общем, это умный, способный мальчик, – уверял он, – но языки даются ему с большим трудом; он же от всей души желает научить племянника бегло говорить по-немецки, дабы взять на себя смелость впоследствии ввести его в грюнвизельское общество; между тем, язык этот он усваивает с таким трудом, что часто не остаётся ничего другого, как выпороть его надлежащим образом. Бургомистр был вполне удовлетворен его объяснениями и вечером в погребке рассказывал, что редко встречал человека столь образованного и учтивого, как приезжий. «Жаль только, – прибавлял он, – что он так мало бывает в обществе; но я полагаю, что как только его племянник научится немножко говорить по-немецки, он будет часто посещать мои журфиксы».
Этого события было достаточно, чтобы общество в корне изменило своё мнение. Приезжего стали считать человеком учтивым, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени подымался ужасающий крик. «Он обучает племянника немецкому языку», – говорили грюнвизельцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца преподавание немецкого языка как будто закончилось, ибо старик принялся теперь за следующую ступень. В городе проживал хилый старик-француз, обучавший молодежь танцам; приезжий призвал его к себе и предложил давать уроки его племяннику. Он намекнул, что, хотя тот и очень понятлив. но, что касается танцев, несколько капризен; в свое время он брал уроки у другого танцмейстера, но тот обучил его таким рискованным па, что воспроизвести их в обществе неудобно; племянник же именно поэтому считает себя искусным танцором, хотя в его танцах нет даже отдалённейшего сходства с вальсом или галопом (это, о господин мой, танцы, которые приняты у меня на родине), нет даже сходства с экосезом или франсезом. Впрочем, он пообещал по талеру за урок, и танцмейстер с радостью согласился взять на себя обучение своевольного юноши.
Француз уверял затем под шумок, что не встречал на свете ничего более странного, чем эти уроки танцев. Племянник, тщательно завитой, довольно высокий, стройный юноша, пожалуй только несколько коротконогий всегда являлся на урок в красном фраке, широких зеленых штанах и белых лайковых перчатках. Говорил он мало и с иностранным акцентом; сначала бывал довольно благонравен и понятлив, но затем вдруг принимался гримасничать и прыгать, откалывал лихие па и выкидывал при этом такие антраша, что танцмейстер терял голову, когда же он пробовал его образумить, тот стаскивал с ног изящные туфли, запускал ими французу прямо в голову и принимался скакать по всей комнате на четвереньках. На шум прибегал из своей комнаты старик-дядя в широком красном шлафроке, в золотом бумажном колпаке на голове и не очень ласково гладил арапником племянника по спине. Тогда племянник разражался громким воем, забирался на столы и шкафы, даже на оконные карнизы, и говорил на чужом, непонятном языке. Но старик в красном шлафроке не сдавался, стаскивал его за ногу, колотил вовсю и, при помощи пряжки, стягивал потуже ему галстук, после чего он каждый раз становился благонравным и чинным, и урок танцев продолжался без помехи.
Когда же танцмейстер настолько подвинул своего питомца, что можно было пригласить на урок музыканта, племянник будто переродился. Подрядили музыканта из городского оркестра и усадили его на стол. Танцмейстер изображал даму, причем старик заставлял его облачаться в шелковую юбку и индийскую шаль; племянник приглашал его и принимался танцевать и вальсировать с ним; а танцором он был неутомимым, неистовым, он не выпускал учителя из своих длинных рук; сколько бы тот ни охал и ни кричал, а танцевать приходилось до упаду или до тех пор, пока рука музыканта не отказывалась водить смычком. Танцмейстера эти уроки чуть было не свели в могилу, но талер, который он аккуратно получал каждый раз в уплату, и хорошее вино, которым потчевал его старик, делали свое дело, и он снова приходил на урок, хотя накануне и зарекался переступать порог безлюдного дома.
Но грюнвизельцы смотрели на это дело совсем не так, как француз. Они считали, что у молодого человека много данных для светского образа жизни, а дамы испытывая большой недостаток в кавалерах радовались, что к зимнему сезону получат такого лихого танцора.
Однажды утром служанки, возвратясь с базара, сообщили своим господам о необычайном происшествии. Перед безлюдным домом стояла роскошная зеркальная карета, запряженная рысаками, и лакей в пышной ливрее держал дверцу. Тут распахнулись двери безлюдного дома, и двое нарядных господ вышли оттуда: один из них был старик приезжий, а другой, по всей вероятности, молодой человек, с таким трудом научившийся немецкому языку и такой неистовый танцор. Оба сели в карету, лакей вскочил на запятки, и карета – вы только представьте себе! – покатила прямо к бургомистрову дому.
Хозяйки, выслушав рассказ своих служанок, мигом сорвали с себя кухонные передники и чепцы, не отличавшиеся безупречной чистотой, и привели себя в надлежащий вид. «Совершенно ясно, – говорили они своим домочадцам, которые суетились, наводя порядок в гостиной, одновременно служившей и для других целей, – совершенно ясно, что приезжий решил вывезти племянника в свет. Старый дурак за десять лет ни разу не счел нужным побывать у нас в доме; но ради племянника, как говорят, очаровательного молодого человека, ему можно это простить». Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей, чтобы те при приезжих вели себя чинно, держались прямо и пользовались более изысканной речью, чем обычно. И городские умницы угадали правильно, – всех по очереди объезжали старик с племянником, стараясь в каждом семействе снискать благоволение.
Всюду только и разговору было, что об обоих приезжих, и все жалели, что не приобрели уже раньше этого приятного знакомства. – Старик держал себя с достоинством и умно, хотя, разговаривая, и улыбался всё время, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьезно или нет, а говорил он о погоде, о нашей местности, о приятности погребка на горе, в летнюю пору, – говорил так умно и рассудительно, – что все были им очарованы. А племянник! Он восхитил всех, завоевал все сердца. Правда, что касается наружности, лицо его нельзя было назвать красивым; нижняя часть, особенно челюсть, слишком выдавалась вперед, и цвет лица был чересчур смугл, кроме того, он подчас корчил уморительные рожи, закрывал глаза и скалил зубы, но все же, по общему мнению, черты лица у него были оригинальные и интересные. Трудно было себе представить более подвижную, более ловкую фигуру. Правда, костюм как-то странно сидел на нем, но все было ему замечательно к лицу; он с чрезвычайной живостью бегал по комнате, присаживался то на софу, то на кресло, вытягивал ноги; но то, что у другого молодого человека сочли бы в высшей степени, вульгарным, и указывающим на невоспитанность, в данном случае истолковывали как признак гениальности. «Он англичанин, – говорили окружающие, – а они все таковы: англичанин может растянуться на канапе и заснуть в присутствии десяти дам, которым некуда сесть; так что они принуждены стоять, около него, на англичанина за это нельзя сердиться». Со стариком-дядей он был очень послушен: достаточно было строгого взгляда, чтобы образумить его, когда он пускался вприпрыжку по комнате или втягивал ноги на стул, что он делал очень охотно. Да и как можно было сердиться на него, когда дядя в каждом доме говорил хозяйке: «Племянник мой еще несколько дик и невоспитан, но я крепко надеюсь на общество: оно его отшлифует и образует, как следует, и именно вашим заботам я поручаю его особенно настоятельно».
Итак, племянника вывезли в свет. И в этот и в последующие дни в Грюнвизеле только и разговору было, что об этом событии. Но старик на этом не остановился; казалось, он совершенно переменил и образ мыслей и строй жизни. После полудня отправлялся он вместе с племянником в погребок в гроте, что на горе, где пила пиво и развлекалась кеглями грюнвизельская знать. Племянник выказал себя в игре большим искусником – он никогда не сшибал меньше пяти или шести кеглей зараз; правда, время от времени на него как будто что-то накатывало: вдруг ни с того ни с сего срывался он вслед за шаром и учинял среди кеглей настоящий погром, или же, сшибив короля, ой вдруг становился на свою изящно завитую голову и дрыгал в воздухе ногами; в другой раз, не успеешь и оглянуться, как он уже сидит на крыше проезжающей мимо кареты и строит оттуда рожи; проедет немножко, спрыгнет и снова вернется к обществу.
Всякий раз, как разыгрывались такие сцены, старик усердно извинялся перед бургомистром и прочими присутствующими за озорство своего племянника; они же смеялись, приписывали все его молодости, уверяли, будто и сами в его возрасте отличались таким же проворством, и обожали «молодого повесу», как они его, называли.
Случалось им и порядком на него сердиться, но все же они не решались выражать свое недовольство, ибо молодой англичанин всюду слыл за образец начитанности и рассудительности. По вечерам старик с племянником хаживали и к «Золотому Оленю» – в местную гостиницу. Хотя племянник был еще совсем молодым человеком, он держал себя стариком, усаживался за столик, надевал неимоверные очки, вытаскивал огромную трубку, закуривал ее и дымил пуще всех. Когда же разговор заходил о газетах, о войне и мире и доктор высказывал одно мнение, бургомистр другое, а прочие поражались столь глубоким политическим познаниям, то племяннику могло вдруг придти в голову высказать совершенно противоположное; он ударял тогда по столу рукой, с которой никогда не снимал перчатки, и самым недвусмысленным образом давал понять бургомистру и доктору, что они ничего толком не смыслят, что он слышав об этих делах совсем иное и понимает их гораздо глубже. Затем он выражал на странном ломаном немецком языке свое мнение, которое, к великой досаде бургомистра, все признавали совершенно правильным, ибо как англичанин он, разумеется, знал все гораздо лучше прочих.
Когда же затем бургомистр и доктор, разозлясь, но не решаясь вслух высказать свое недовольство, садились за партию в шахматы, то племянник придвигался к ним поближе, заглядывал сквозь свои большие очки бургомистру через плечо и критиковал тот или иной ход, говорил доктору, что ему надлежало бы пойти так-то и так-то, и оба игрока втайне приходили в ярость. Когда же затем бургомистр ворчливо предлагал ему сыграть с ним партию, чтобы по всем правилам объявить ему мат, ибо он считал себя вторым Филидором,[7]7
Филидор (1726–1795) – знаменитый французский шахматист.(Прим. ред.)
[Закрыть] то старик-дядя потуже стягивал племяннику галстук, после чего тот становился совсем послушным и чинным, и делал бургомистру мат.
До тех пор грюнвизельцы каждый вечер развлекались картами, по полкрейцеру за партию; племянник счел эту ставку мизерной: он стал ставить кроненталеры и дукаты, утверждая, будто никто не играет столь искусно, как обычно затем обычно проигрывал невероятные суммы, что снова примиряло с ним разобидевшихся было партнеров. И они ни капли не совестились, забирая у него столько денег. «Ведь он же англичанин, а значит, богат от рождения», – говорили они и клали дукаты к себе в карман.
Итак, племянник приезжего господина в скором времени завоевал незаурядные симпатии в городе и во всей округе. Старожилы не запомнили, чтобы в Грюнвизеле когда-нибудь видали молодого человека в таком же роде; он был самым оригинальным явлением, когда-либо существовавшим на свете. Нельзя сказать, чтобы племянник чему-либо обучался, – разве только танцам. Латынь и греческий были для него, как принято говорить, китайской грамотой. Однажды, во время какой-то игры, в доме у бургомистра ему пришлось написать несколько слов, и оказалось, что он не умеет подписать даже собственную фамилию; в географии делал он самые удивительные ошибки: ему ничего не стоило пересадить немецкий город во Францию или датский в Польшу; он ничего не читал, ничему не учился, и пастор часто задумчиво качал головой по поводу неведения молодого человека; и все же то, что он делали говорил, все находили прекрасным, ибо он был настолько нагл, что всегда считал себя правым и все свои речи заканчивал словами: «Я это лучше знаю!».

Так подошла зима, вот тут-то слава племянника расцвела ещё пуще. Любая компания без него казалась скучной; когда разумный человек высказывал какое-нибудь мнение, вокруг зевали; когда же племянник изрекал на плохом немецком языке нелепейший вздор, все развешивали уши. Теперь выяснилось, что этот во всех отношениях совершенный молодой человек вдобавок еще и поэт: редкий вечер не вытаскивал он из кармана листа бумаги и не прочитывал обществу сонета. Правда, нашлось несколько человек, утверждавших, будто многие его стихотворения плохи и бессмысленны, а остальные они уже где-то читали в напечатанном виде; но племянник не смущался, читал себе и читал, затем обращал общее внимание на красоту своих стихов и всякий раз имел шумный успех.
Но грюнвизельские балы были для него настоящим триумфом. Никто не танцевал неутомимее и быстрее его, никто не проделывал столь рискованных и необычайно грациозных прыжков. При этом дядя всегда одевал его чрезвычайно нарядно и по последней моде, и хотя костюм, обычно сидел на нем как-то нескладно, все находили, что все на нем очаровательно и к лицу. Правда, остальные кавалеры были несколько обижены тем новым порядком, который завел он. Прежде бал открывал бургомистр собственной персоной, а в дальнейшем распоряжаться танцами предоставлялось наиболее родовитым молодым людям; но с появлением приезжего молодого человека все изменилось. Без дальних слов брал он любую подвернувшуюся ему даму за руку, становился с ней в первую пару, делал все, как ему заблагорассудится, и оказывался хозяином, распорядителем и королем бала. А так как дамы находили такую манеру превосходной и весьма приятной, то мужчины не смели возражать, и племянник оставался в том сане, в который возвел себя сам.
Казалось, старику балы доставляли особое удовольствие: он глаз не спускал с племянника, все время тихонько посмеивался, а когда весь народ устремлялся к нему, рассыпаясь в похвалах учтивому, благовоспитанному юноше, он не мог совладать с собой от радости, разражался веселым смехом и вел себя, как безумный. Грюнвизельцы приписывали эти бурные проявления веселости его большой любви к племяннику и находили это вполне естественным. Но время от времени дяде приходилось прибегать к отеческому внушению, ибо среди самых изящнейших танцев молодой человек мог ни с того ни с сего одним прыжком очутиться на помосте, где восседал городской оркестр, вырвать контрабас из рук органиста и отчаянно запиликать на нем; или же он вдруг переворачивался и танцевал на руках, а ногами дрыгал в воздухе. Тогда дядя обычно отводил его в сторонку, строго журил и туже стягивал его галстук, и племянник опять становился благонравным.








