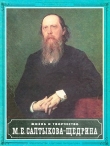Текст книги "Сны под снегом (Повесть о жизни Михаила Салтыкова-Щедрина)"
Автор книги: Виктор Ворошильский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Очаровательная барышня, которой снилось будущее и лохматый медик, из тех новых людей, что в половине пятидесятых годов.
Вера Павловна?
Маленькая, седая старушка улыбается лучистыми морщинками.
Собственно – Мария Александровна, но если вы предпочитаете.
Чернышевский только сны выдумал, только изменил имена, все остальное из жизни, именно так было.
Но вы, Михаил Евграфович, не слишком благосклонно к нам относились.
Вера Павловна, я, что вы.
Вы смеялись над милыми нигилистками, резецирующими трупы не дрогнущей рукой, и одновременно притоптывающими в танце: я под явором стояла, ху-ха.
Не помню, ей богу.
Тут звяканье по рюмке разговоры прерывает.
С седой бородкой клинышком, с рябым калмыцким лицом, встает тот героический медик, ныне России слава (не избранный, правда, в Академию и за материализм лишенный кафедры), милостивые государыни и господа, тсс, утихает лязг вилок, сам Сеченов произносит тост.
Милостивые государыни и господа, мы собрались на этот обед.
Тоже мне обед, мороженый судак, постыдились бы.
Чтобы почтить нашего знаменитого.
Ну, известное дело.
Наш юбиляр, Сергей Петрович Боткин, славится ведь, кроме прочих талантов, как несравненный диагност.
Acidum sallicilicum.
Однако, милостивые государыни и господа, среди нас находится и другой диагност, я бы сказал, не менее заслуженный, хоть и на несколько своеобразном поприще.
К чему он клонит.
Если рассматривать нынешнее общество, как организм, разъедаемый болезнями.
Диагност, о котором я говорю, проникновенный и искренний, часто вопреки легкомысленному пациенту.
Наверно провалюсь сквозь землю.
Я пью за здоровье писателя и великого диагноста России, Михаила Евгра.
Я должен встать, у меня кружится голова, все члены оцепенели, но встаю, кланяюсь, как дурак, во все стороны, они аплодируют и многозначительно пьют шампанское, кого тут только нет, оберполицмейстер Козлов, железнодорожный миллионер Поляков, за смертельные мои диагнозы, вот так триумф литературы, и этих двое из книги Чернышевского.
Но именно в эту минуту изнутри, из глубины груди кверху, сначала слабым щекотанием, маленький сигнал, но я уже знаю, беспокойством к горлу, силюсь загнать обратно, сдержать растущее, еще стою с бокалом в руке, когда вдруг взрывается, и бокал, и грудь вдребезги, не соберу, напрасно хватаюсь, расколотая этим кашлем, что не хочет прекратиться, еще, еще и еще, ах, Мишель, постарайся сдержаться, молчи, между двумя взрывами, молчи, дура.
Вы были правы, профессор, нет ничего кроме тела. Они утверждают, что безнравственно, бредни, лицемерные бредни, нет ничего кроме тела.
Если быть точным, то я писал, что духовная жизнь всегда имеет чувственную подоплеку; каждый рефлекс является реакцией на импульс; вы помните, я это отдал Некрасову, но тогдашняя цензура.
Вы говорите: диагност.
Посмотрите на меня: тут уже ничего нет.
Мешок раздражения и боли.
Вы с супругой еще видите сны?
Хватает того, что работаем.
Я тоже работаю. Мои импульсы вы видели.
И снова изнутри, из глубины груди кверху.
Сквозь кашель: я давно не читал эту книгу.
64
Умру, не бойся, умру.
Нет, все еще живу.
Но и смерть не закрывает счета.
Когда умер Гоголь, за некролог в черной рамке старого Погодина посадили на гауптвахту.
Как же, кипятился в фельетоне Булгарин, о смерти Дмитриева, корифея, без, а об этаком Гоголе.
Ни поступки, ни последние письма, те, что вслед за Белинским мы так резко осуждали, ни сама его смерть – ничего не помирило начальство с малороссийским насмешником.
Молодой тогда Тургенев за эпитет: великий, употребленный в воспоминаниях о Гоголе, на месяц под арест, затем в деревню, под усиленный надзор полиции.
Останки старого Тургенева с почестями возвращаются в Россию, но нет, смерть не закрывает счета.
С почестями возвращаются, сам министр уже репетирует речь: знаменитый наш соотечественник, но прежде, чем поезд достигнет Петербурга, речь застрянет в горле сановника: знаменитый наш со, наш со, и министерский циркуляр подвергнет сомнению законность почестей.
Потому что в Париже эмигрант Лавров.
Скандал, ах, какой скандал.
О писателе воспоминания Лавров написал.
Что, и в Тургеневе – Нечаев?
Автор книжки об отцах и детях – строптивой детворе втайне содействовал, на динамит франки выкладывал из кошелька?
Рука Каткова, которая некогда в воздухе повисла, отвергнутая Тургеневым, теперь гордо поднята вверх.
Хахаха, знаменитый соотечественник был государственным преступником.
Так что окружным путем, потихоньку, с вокзала на кладбище.
Учащейся молодежи запрещено (как тогда: лицейский дортуар, снег за замерзшим окном и поэта останки на санях), литераторы по пропускам.
Петербургский магистрат выделяет кредиты на похороны.
Губернатор Грессер отменяет решение магистрата.
Магистрат протестует.
Государственный совет утверждает постановление Грессера.
Пусть монарх разрешит спор; но монарха нелегко разыскать; в страхе перед заговорщиками (возможно именно те, которых финансировал Тургенев, готовят покушение) каждый день меняет место своего пребывания, не допускает к себе слуг самых верных; Александр III Трусливый; но кто знает, избежит ли он царской судьбы.
Любезно прошу выдать входные билеты для сотрудников нашего журнала, согласно списку, который.
Ласковость сентябрьского солнца, сыпучий песок на гроб, в глазах Успенского таится безумие, и в глазах Гаршина безумие, но безумие, как и смерть, тоже не закрывает счета.
Милостивый государь, спасите моего сына, тут его совсем не лечат, а лишь за решеткой держат, без карандаша, бумаги, газеты, чтобы больной, говорят, мозг не переутомлять, в полуденном солнце, за решеткой, весь день без дела, я проходила мимо, мама – закричал, но тут же два сторожа от решетки его оттянули, милостивый государь, если бы в Вену, там, говорят.
Это Гаршина мать, из молодых писателей самого талантливого.
Милостивая государыня, сумму, о которой вы просили, мы посылаем по вашему адресу, сердечно желая.
И что тут можно еще кроме денег и пожеланий?
Новодворский – второй, на которого я из молодого поколения рассчитывал – под Ниццей легкие выхаркивает.
Снова посылаю деньги и желаю.
Что, Бога ради, еще?
К похоронным комедиям молча присматриваться, когда труп вырывают друг у друга враги и друзья, плюют ему в закрытые глаза, за бороду тянут, или застывшую гримасу разглаживают, на льстивую улыбку меняют.
Все более пусто вокруг.
Пушкина у меня тоже украли.
Открывая памятник, Достоевский, с пророческим видом, произносит речь; после похорон Некрасова он вошел во вкус; вот Пушкин – указывает – к смирению и раскаянию призыв; правда не за морями, не в призрачных знаниях, но лишь в смирении твоей гордыни, человек; преодолеешь гордыню и будешь свободен, и народам Слово откроешь; новое Слово евангельской гармонии; вот России участь и слава, вот гений Пушкина.
Западники во фраках и славянофилы сермяжные со слезами растроганности внимают; как же это мы до сих пор не догадались? и падают друг другу в объятия; аллилуя, брат; это Пушкин.
Но и Достоевский умирает; Плещеев, его старый товарищ по Плацу Семеновского Полка, ныне секретарь нашей редакции, взволнованный некролог пишет; черной рамки уже никто не запрещает.
Все более пусто вокруг.
Я все живу.
Когда наконец умру, верно тише будет над моим гробом, потому что кому Салтыков.
Разве что.
Разве что.
65
Его взяли, взяли!
Это уже второй; перед ним Михайловского, за речь молодежь подстрекающую, в Финляндию скалистую.
Его взяли! растрепанная, но живописно: ведь он невиновен! и так страдает, бедняга, так похудел в заключении!
Доигрался.
Что вы говорите, какой вы недобрый, уж и жандармы вежливее.
Ну так чего вы тогда расстраиваетесь, если вежливее.
В самом деле вежливее и про все знают, честное слово, Михаил Евграфович, я даже удивилась. Сто пятьдесят рублей, говорят, вы получили, Кривенко, в редакции в прошлую субботу.
В редакции? Они сказали: в редакции?
Все тоньше волосок, а на тонюсеньком.
Корреспондент Дэйли Ньюс сообщает об обыске, совершенном у лидера республиканской партии России, Салтыкова-Щедрина. Во время обыска домашние писателя, чтобы выиграть время, пели гимн в честь монарха. Не исключено, что это дало возможность укрыть или уничтожить компрометирующие бумаги.
Милостивый государь, надеюсь, что вы опубликуете, истины ради, это опровержение, в котором.
Михаил Евграфович, вы на свободе?
Как видите.
И журнал еще выходит?
Еще выходит.
Принимая во внимание, что журнал, а одновременно с этим, наконец, в январском номере текущего года, министр внутренних дел, на основании параграфа и согласно с заключением, редактору, действительному статскому советнику – второе предостережение.
Закрывают (гласит положение) после третьего.
Уже бы, дают понять, но министр, принимая во внимание товарищеские отношения.
Стало быть: сентиментальный.
Эх, школа, школа, вздыхает по ночам, отроческие невинные годы.
В снежки играли с товарищами, а тут: внутренние дела.
Впрочем, сдохнет без запрещения.
Из года в год падает подписка.
Ну и осторожен наш милый читатель.
А разве я сам не осторожен?
Собственные сказки без апелляции отвергаю: ничего не поделаешь, Щедрин, вы литератор, вы должны это писать, но как редактор.
И так всегда пронюхают.
Лев, гм, лев, что вы собственно имели в виду.
Да это же второстепенный образ, абсолютно неважный.
Абсолютно неважный, гм; знаете что, лучше этот рассказ снять.
Хорошая новость, Михаил Евграфович; мужа только высылают, только высылают.
Очень хорошая новость.
Все более тонкий, а на.
Уже не спасу.
Может оду в честь Каткова написать.
Может отдать редакцию Карновичу, а самому укрыться в тени; кто такой Карнович?; это никто, именно поэтому.
Не спасу.
С поднятым знаменем ко дну.
Телеграмма из Москвы.
Медики последнего курса пьют здоровье Щедрина точка просят ответить.
Благодарю.
Еще из Гродно письмо, от госпожи Ожешко, три рассказа которой в переводе Сементковского я напечатал. Очень благодарна за это, однако еще больше, что по еврейскому вопросу я высказался согласно с ее взглядами.
Пересылаю вам также, милостивый государь, мою брошюру о евреях – последний плод моей издательской деятельности, которую я вынуждена была прекратить по независящим от меня причинам.
Сударыня, мы все – по независящим от нас причинам.
Третьего предостережения не дают.
66
Почему не кричат?
Где они все?
Пустыня.
Дорогой Павел Васильевич, благодарю за слова сочувствия, которые, искренне признаюсь, ценил бы еще более, если бы не спровоцировал сам.
Но мне приятно, что хоть ваш голос.
Нет, я не ожидал со стороны литературы публичного протеста.
Знаю, что это невозможно.
Однако, например, Островский, пьесы которого в течение пятнадцати лет подряд открывали январский номер.
Например, Толстой, который непосредственно перед закрытием расплывался в похвалах журналу.
Тургенев бы так не поступил.
Да, у него были свои недостатки.
Если бы он однако жил дольше, пусть бы даже больше ничего не писал, само его присутствие.
Пустыня.
Зарывают живьем и никто не выдавит из себя: жаль, никто не придет, чтобы молча пожать руку.
Михаил Евграфович, пришла депутация студентов.
С ума сошли.
Чего вы от меня хотите? Вам мало, что закрыли журнал? Скажите, вам этого мало? Хотите, чтобы меня – на каторгу? Этого вы хотите? Ну, говорите же.
Подождите.
Куда вы.
Подождите, поговорим.
Сразу уж обижаются.
Лиза, вели поставить самовар – видишь, у меня гости.
Ну так рассказывайте: как там у вас, у трупорезов.
Земляков моих, из тверской губернии, нет среди вас?
Давно я там не был.
Знаете, стоял в местном музее мой бюст – и вот так история: стоял-стоял и вдруг его куда-то вынесли, рвение проявили.
А раньше: наш почтенный земляк, честь нам приносит, ха-ха.
Теперь что приношу?
Редакторы (еще существуют редакторы) переходят на другую сторону, чтобы я за пуговицу не поймал и не спросил: у меня есть сказочка, может сгодится.
Сам знаю, что не сгодится.
Одеревяневший мир; время, как опилки, и люди из дерева.
Мишель, встань, господин Краевский спрашивает тебя.
Как я могу встать, когда меня нет.
То, что лежит, как спиленное бревно, – это я?
Краевский (слезящимися глазками моргает, песок из него сыпется, фиолетовые руки потирает), это наверняка он: деньги, бормочет он с упреком, мои деньги.
Этими же руками из Белинского выжимал соки, шарил в карманах Некрасова; столько лет хороший барыш получал с нашего гнева, и вдруг: ах, Михаил Евграфович, вы лишили меня дохода, разве это по-христиански.
В гроб хотите взять.
Сразу уж в гроб, еще думаю немножко пожить.
Все думают пожить.
Мир из мелочей; мир раздробленный и пустой; люди – какие-то пестрые; каждый сам по себе; страх и мелочность, и предательство; мне казалось, что существует нечто, что наполняет и сплачивает; помните о своих детях, убеждал я; на потомков смотрите, то есть на историю; на глазах мир распался, остались мелочи, только мелочи.
Все нити обрываются – и каждая подло.
Лучшим периодом моей жизни была Вятка.
Ариадна меня любила; я не умел так любить, хотя питал к ней нежность и восхищался ею; трудно ведь на почтовой станции, нетерпеливо ожидая, пока сменят лошадей; но я сохранил в памяти то тепло, которое она мне дала; с годами я помнил его даже больше и жалел, что так легко от него отказался; в моих ушах звучал ее приглушенный голос, почти шепот: вы очень грустный и злой? но раз вы пишете, это значит; милая, милая Ариадна.
Все нити обрываются подло.
Этот жандармский генерал с одутловатым лицом – ведь это сорванец Коля, сын вятского губернатора и моей Ариадны; через брата Дмитрия я помог устроить его учиться; эту единственную услугу, уже после всего, она согласилась принять от меня; господин генерал ничего об этом не знает; я ему не скажу.
Из лица острые глаза выдвигает: прошу сообщить, откуда подпольная типография располагала текстом ваших сказок, запрещенных властями.
Молчу; глупый мальчик, на мне хочешь сделать карьеру, я тебе в этом не помогу; смотрю в глаза и молчу.
Прошу дать показания, каким образом попали к издателю-эмигранту.
Молчу.
Я относился к вам, как к свидетелю, но ввиду неразумного упрямства.
Я встаю.
Честь имею, генерал Середа.
Дверь закрываю осторожно, чтобы не хлопнула.
Это спокойствие, которое меня вдруг охватило, – горькое; но все же это спокойствие; через пустыню возвращаюсь домой; буду писать; воскрешу тот мир, что породил нас и выкормил; он всему причиной; пошехонская старина будет моей последней книгой; успею ли?; мир этот вижу таким ярким и острым, как никогда раньше; его боль спокойна, потому что я ее понял; таким образом от нынешних, более мучительных, в эту хочу убежать?; нет, не убежать – лишь отступить; она их породила; она достаточно боль, чтобы я в ней чувствовал себя как дома; и она достаточно – покой и понимание, чтобы я сумел.
Но прежде, чем возьму в пальцы перо, – снова лежу, как бревно.
Эта пустыня.
На этой пустыне.
Никто, никто не крикнет?
67
Гаршин, на тридцать лет моложе, с поля брани вернувшись, в петербургских салонах вдруг бледнел и раздувал ноздри; трупный смрад преследовал его и красное солнце светило в глаза.
Когда Млодецкий после неудачного выстрела в диктатора ждал исполнения приговора, Гаршин ворвался в спальню Лориса: кровь! – рыдал он – снова кровь! на колени пал перед ежившимся в ночной рубахе: довольно крови! ваше высокопревосходительство, вы ведь сами там были!
Великодушный Лорис-Меликов не приказал его арестовать, но покушавшегося не помиловал.
От смрада и солнца побоища, от крови, заливающей зрачки, бедный Гаршин скрывался в безумие.
Через десять лет после возвращения с войны не достало ему уже убежища: через перила в пролет лестницы руки вытягивая как пловец, вниз бросается, навстречу неизбежной.
Мы тоже с побоища.
Все удивляются нашим навязчивым идеям и годами тянущимся счетам.
Те, что пережили войну, уколотые ее скользким лезвием и сами коловшие, никогда до конца не изведают покоя.
Каторжники, дождавшиеся помилования, никогда не освободятся от железного ядра у ноги.
Мы, выросшие при Николае, дети крепостного ада, порогов рая не перешагнем; в пении серафимов нам послышатся крестьянские стоны: Эдем ли это, усомнимся мы, или декорация; поистине декорация, мы в этом знаем толк.
Сколько картин прошлого проходит перед глазами.
Во дворе у тетеньки эта двенадцатилетняя девочка, за проявленную неловкость привязанная к столбу, вбитому в навоз; тучи мух облепили ее лицо, мокрое от слез, истерзанное, уже покрытое гноящимися ранками; я хотел броситься к ней, развязать веревки; не тронь, барин миленький, тетенька забранит, хуже будет, не тронь.
Или старый наш повар, за недостаточно сочное жаркое за обедом, рядом с отцовским креслом стоявший на коленях.
Но не всегда наказания – и дворянские шутки помню; Ванька, поди лизни печку; а печка раскалена; Ванька лизал; господа надрывались от смеха.
Попа тоже Ванькой звали; он был крепостным, в часы свободные от службы, за сохой шагал; богослужение же мой отец, в богословии сведущий, прерывал: Ванька, насмехался, снова ты спутал, начинай сначала!
Впрочем возможно в нашем имении и меньше было издевательств, чем у соседей.
Ведь дело шло не об отдельных случаях большего или меньшего зверства; эта система охватывала миллионы людей, в ней одни имели право надругаться над другими, принуждать их к тяжелейшему труду, и плоды его присваивать и проматывать; людей продавали и дарили; отдавали в армию, торгуя потом рекрутскими квитанциями; соединяли супружеские пары согласно с хозяйственной выгодой, а не видя ее – запрещали брак; и за всем этим не возникало никакой моральной проблемы; эту систему превосходно мирили и с религией, и с честью сословия, и с изысканными манерами; дело касалось прибыли, и ее выжимали, откуда только можно было; даже косы дворовых девушек продавали парикмахерам; дело касалось прибыли, а причитания битых в ушах господ звучали так же, как хруст ручных жерновов или щелканье серпов, – эти обычные звуки сельских работ.
Поколение отцов сошло в могилу, так и не поняв, что жило в мире злодеяний.
Мы же ощущали смрад побоища и железное ядро у ноги.
Тот вой поротой девки, который я услышал маленьким ребенком, так и не покинул меня.
Я долго не понимал сущности своего беспокойства; это еще не был бунт против закона, который отдавал девушку на милость или немилость маменьки; вырастая в этом законе, я не представлял себе других отношений между людьми, чем отношения крепостного и хозяина; но беспокойство зародилось во мне и отняло безмятежность у моего детства.
Крепостной живописец Павел научил меня грамоте.
Мне еще не было восьми лет, когда я взялся за Евангелие.
Прежде всего меня поразили не столько новые мысли, сколько звучание незнакомых слов.
И только повторное чтение, все более и более страстное чтение, сняло вдруг темную завесу с того мира, который слова эти указывали и осуждали.
Евангелие совершило переворот в моем сознании.
Моим безотчетным беспокойствам оно придало форму и прочность и противопоставило тому, что я знал до сих пор, что меня окружало и держало в неволе; в глину оно посеяло совесть.
Из детских глубин вырвало общечеловеческое сознание.
И это право на сознание я начал переносить на других.
Но мой взгляд не умел сокрушить навязанных людям условий; и дальше – один продолжал быть господином, а другой – рабом; от этого было больно; теперь боль становилась бунтом.
И в них самих я искал бунта; он был редким и бессильным; еле успев затлеть, погибал запоротый на гумне; чаще же всего сам выбирал смерть.
Помню это хрупкое создание, бывшее свободным, и добровольно закрепостившееся, выйдя замуж по любви за моего ментора, Павла.
Любовь прошла, ярмо осталось; и женщине вдруг стало ясно, что, отказавшись от воли, она в то же время грешным образом оскорбила свое с Богом подобие и навлекла на себя божье проклятие; несчастная начала борьбу за искупление; не выйдет она более на барщину; выйдешь, мерзавка, потому что ты такая же крепостная, как и прочие; вольной родилась, вольною и умру; высеченная, она начала голодовку; наконец осенней ночью повесилась; похоронили самоубийцу в болоте.
Мне ее память дороже других, потому что, как и я, не покорности училась она в Евангелии, а человеческому достоинству.
Когда я встретил Петрашевского, он спросил про мою веру в Бога.
Я уже тогда бесповоротно терял ее; но то, что я ребенком почерпнул из Писания, стало фундаментом моих будущих верований; и сохранилось вместе с тем воем, который стоит у меня в ушах.
68
Я принадлежал к классу господ.
Но господская семья была точно таким же местом пыток, как и все вокруг; так же как всем, ею управляло корыстолюбие, фальшь и неволя.
Авторитет маменьки основывался на ее благоприобретениях.
Отец не любил мать и боялся ее.
В письмах он однако гремел: бессовестный сын, нежность и смирение ты обязан проявлять в отношении к благодетельнице нашей, которая своим радением семейные увеличивает владения.
Когда она вышла за отца, он всего лишь тремя стами душ владел; умирая, имел три тысячи; точнее говоря, она их имела.
В чувствительные минуты она охотно говорила о проведенных кампаниях, направленных на расширение вотчины, о хитроумных усилиях, об удачных торгах, о стратегии и тяжелом труде благоприобретения: уже думала, он, прощелыга, поднимет цену, но словно видела Заступница мои слезы – когда я свою цену назвала, так словно вот весь аукцион перерезала. Шесть недель я потом в горячке провалялась.
Молодец маменька, восхищались мы хором, брат же Дмитрий, глаза поднимая горе, добавлял: за это мы ее и любим и вечно будем ей благодарны.
Но бывали минуты раздражения, когда она вдруг начинала упрекать нас: чего это вы так глазеете? смерти матери не дождетесь? чтобы спустить все, что она хребтом да потом, да кровью нажила?
Живи для нас, маменька дорогая, долго, отвечал не отрывая от нее глаз брат Дмитрий.
Да, ты добрый мальчик, прижимала его к лону, но за них не ручайся, ибо впоследствии раскаешься.
Говоря честно, нам в детской случалось обсуждать вопрос наследства; мы пытались угадать, кому что достанется; сестры бывало даже плакали, если раздел вырисовывался не в соответствии с их желаниями; однако все быстро соглашались с тем, что брату Дмитрию лучшие земли достанутся.
Он не участвовал в этих спорах: я всем буду доволен, что милость маменька назначит мне.
Он знал, что не прогадает: при каждой трапезе она проявляла свою справедливость, куски посвежее и побольше любимцам выбирала, постылым от рта отнимая.
Разделение на любимчиков и постылых, через все наше детство проходящее, не остановилось на его рубежах, но еще много лет спустя собирало отравленные плоды, натравливая братьев и сестер друг на друга, подавляя в развращенных душах остатки родственных чувств.
Главный любимчик, Дмитрий, без зазрения совести пустил братьев и сестер с сумой.
Самым постылым был брат Николай.
Не забуду маменьку, стоящую над ним, как Немезида: убить тебя надо! вот, увидишь, убью и отвечать не буду! и сам царь мне за это ничего не сделает!
Потому что он был голоден и стащил на кухне пирог.
Всегда дело шло о каком-нибудь пироге.
И убила его в конце концов: устав от преследований, с ополчением пошел на Крымскую войну; вернулся больным и со стиснутыми зубами умер в чужом доме.
Сергей, тоже постылый, немного позже на смерть спился.
Я поначалу был в любимцах; сходство с собой в моих чертах и движениях она находила; и ее трогала влюбленность ребенка в ее красоту и силу; когда же я начал отдаляться, она, должно быть, страдала; пока не вооружил ее против себя окончательно тем упорством, с которым против ее воли литературные предпринимал попытки; ты ведь как волк, который мать и отца кусает; вот и живи по-волчьи, и нет тебе моего благословения, из постылых самый постылый.
Если я и был волком, то таким, который чудом вырвался из капкана и полшкуры в нем оставил.
69
Костя, Лиза, я хотел вам объяснить, рассказать вам хотел. Мою жизнь, слабостей и ошибок полную, но ведь не только, но ведь кроме этого.
Я хотел им объяснить.
Моих детей это не интересует.
Лиза не глупа, но мамочка по своему образу и подобию воспитывает дочку.
Как из журнала: плиссированная юбка и в изящно изогнутой ручке палочка от серсо.
Ее комнату увешала зеркалами: ах, Мишель, ребенок красивый, пусть иногда посмотрит на себя, что тут такого?
Идиотка.
А Костя бездарный и лентяй.
Из одной гимназии его выгнали, из другой я сам забрал его.
Теперь он должен держать в Лицей, но книг в руки не берет, все время только знакомые, развлечения.
Афоризмы такие произносит, что аж страшно делается.
Про карьеру, протекцию; где он этого набрался?
Мой сын.
Любимова какого-то привел, в студенческой фуражке, с лицом словно рубленый шницель.
Может вы бы дали что-нибудь почитать? Знаете, из этакого – и подмигивает.
Костя, что это опять за дружба?
Пожимает плечами.
Сынок, пойми, что кругом.
Машет рукой: папочка воображает, что власти только и следят, что еще он выдумал в своем кресле. Так боятся козней Михаила Евграфовича. А между тем ничего подобного. Власти знают, что он ни ручками, ни ножками. И никакие шпики тут не нужны.
Заперло дыхание: сыночек, что ты?
Щурит кошачьи глаза: папочка не расслышал?
Рывок и – как это случилось? Боже!
Костя, прости, сыночек, ведь я никогда, что за позор, до чего ты меня довел, но это моя вина, я так вспылил!
Подумаешь, из-за ерунды столько шума, папочка больной и не владеет собой, но мне не больно, папочка слишком слаб, чтобы меня обидеть.
Задом отступает из кабинета.
Сыночек, погоди, я хотел тебе объяснить!
Я хотел им объяснить.
Ему, Лизе, хотел, хотел бы, объяснить, мои дети, я хотел им объяснить.
70
А вы все о минувшем, еще долго так будете.
Ибо я сам видимо минувший.
Ведь уже четверть века истекает, как.
Но не оно умирает: это я умираю.
Волк в капкане; волк против стаи; волк, воющий на льдине; пока не настигли, не вгрызлись в бока; и с этим воем в ушах, что всегда, на сгибающихся лапах; странный волк, волчий ренегат; таким не прощают.
А вы все о минувшем, еще долго так.
Может уже недолго.
Этот вой стоял у меня в ушах, когда я, уже вне матриархальной тирании, связанный с ней еще притворным смирением переписки, но не всякий ее приказ уважая, вел жизнь самостоятельную в мире более обширном, чем родовая вотчина, но странно на нее похожем.
В ссылке он словно немного утих; потому ли, что я вслушивался в стоны собственной своей недоли; или по причинам более объективным, потому что под Вяткой было мало крестьян, принадлежащих дворянству, а главным образом – казне, да, и они были терзаемы великим помещиком – Империей, однако, несмотря ни на что, не так, как более мелкими владельцами рабских душ.
С новой силой он раздался в Рязани и Твери; это были годы освобождения, но крестьянский вой не утихал; я метался, подстегиваемый им, как лошадь ударами ямщика; я принадлежал к осуществлявшим власть, мне казалось, что я могу что-то сделать, ничего не мог.
Начинал следствия, рапорты писал в министерство, отдавал виновных под суд; редко случалось, чтобы я чего-нибудь добился; вой не утихал.
В 1859 году в одном из уездных городков рязанской губернии процветала фабрика братьев Хлудовых.
Начали братья от окрестных помещиков крестьян оптом скупать.
Что, за два года до освобождения?
Операция была довольно хитроумная.
Крестьянам и дворовым людям, тайно от них, давалась «вольная», и затем, тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольноотпущенного, заключался долгосрочный контракт с фабрикантом.
Для помещиков операция была несомненно выгодна: земля, которой они должны были через несколько лет наделить бывших крепостных, оставалась при них, и к тому же они получали деньги за души, которых все равно должны были вскоре лишиться.
Но и фабриканты не лыком шиты: надвигающуюся) конъюнктуру они встречали, обеспечив себя дешевой рабочей силой; и покорной – ибо она не знала, что свободна.
Завыл крестьянин, когда в конце концов узнал правду.
Пережевывали дело суды продажные; братья Хлудовы опять что-то подбавили, верно из рубрики: издержки производства.
Да, это были уже новые времена: не обычное крепостное кровопийство; основывались основы нового порядка вещей.
Тот красноречивый немец, с которым переписывается Анненков, назвал это первоначальным накоплением.
Разуваев, новый хозяин России, черные лапы тянул к добыче.
Рабы меняли хозяина.
Стоит в ушах, хоть столько лет уже прошло, и эпоха уже как будто иная; в самом деле, иная; не как свет звезды, фальшивый и равнодушный, когда она уже умерла, достигающий цели; дерево, в меня корнями вросшее; собственной крови болезненный зов, с которым расстаться невозможно.
71
Мишель.
Я тебя прошу, я так тебя прошу, ведь это же не повредит. Придет и помолится, и все.
А ведь в очень многих случаях это помогало.
Я тебя прошу, Мишель.
Высокий, с глазами дрессировщика (в берлинском цирке помню пылающий обруч, через который, ощетинив гривы, испуганные львы), в атласном стихаре, переливающемся и шелестящем (прекрасный атлас, но не перепрыгну, нет, не перепрыгну), на столике инструменты свои раскладывает: Священное Писание, крест и чудотворную икону, где-то надо мной взглядом по стене блуждает, видно, Бога ищет, чтобы с Ним вступить в переговоры.
Бог с тобой, сын мой; со мной Бог, ой-ли, отче?; страдаешь, сын мой; сделай свое дело, отец, и оставь меня.
Сначала шепотом, потом все громче бормочет, наконец криком рядится со своим Богом; зачем это?; а, это обо мне, чтобы я еще немножко пожил; но я через этот обруч – нет, тщетные усилия, отец.
От чашечки чая, надеюсь, отец, не откажется?; кивает бородой, ступает величественно, за ним – бабище надутое, что исцелителя возит и за чудеса гонорар принимает, а за баб ищем – взволнованные домашние; но вдруг – переполох; это профессор Боткин приехал, что за конфуз.
Нет, почему-же, мы ведь знакомы с отцом Иоанном, неправда ли?
Мы, если так можно сказать, коллеги.
Только я лечу бренное тело, а отец – душу.
Ну, видишь, Мишель, даже Сергей Петрович признает.
Душу.
У меня нет души.
Только несчастное тело.
Гриву ощетинив, с закрытыми глазами, через этот пылающий обруч.
Уже не перепрыгну.
72
Осталось выполнить еще одну обязанность; от имени Прогорелова, некогда короля жизни, а ныне пропащего человека, приветствовать приближающуюся новую силу – Разуваева.
Так гряди же с миром, хищная морда; и вы, цепкие лапы, тоже грядите!
Вся цивилизованная природа дрожит в сладостном ожидании.
Дома терпимости румянят дряблые щеки, оркестр настраивает балалайки, фельетонисты точат перья, даже благодарные стерляди в трактирных бассейнах – и те резвее играют в воде, словно говорят: слава Богу! скоро начнут есть и нас!