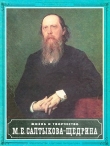Текст книги "Сны под снегом (Повесть о жизни Михаила Салтыкова-Щедрина)"
Автор книги: Виктор Ворошильский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Однако я должен вывести почтенного рецензента из заблуждения, будто бы, издавая историю града Глупова, я имел в виду «историческую сатиру», я также должен уверить его, что даже и на будущее время сенат, не имеющий исправной карты России, тогда, как, например, такой факт, как распоряжение о писании слова «государство» вместо слова «отечество».
Сверх того историческая форма рассказа представляла мне некоторые удобства, равно как и форма рассказа от лица архивариуса.
Но в сущности, я никогда не стеснялся формой и пользовался ею лишь настолько, насколько находил это нужным.
И мне кажется, что ввиду тех целей, которые я преследовал, такое свободное отношение к форме вполне позволительно.
Далее рецензенту кажутся вздором такие образы, как градоначальник с органчиком в голове и тому подобные.
Но зачем же понимать так буквально?
Ведь не в том дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывающий романсы: «не потерплю!» и «раззорю!», а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами.
Надеюсь, что в объяснениях я не зашел слишком далеко.
Затем, приступая к обличению меня в глумлении над народом непосредственно, мой рецензент высказывает несколько теплых слов, свидетельствующих о его личном сочувствии народу.
Оно меня безмерно радует; но думаю, что я собственно не подал никакого повода для столь благородной демонстрации.
Остаюсь, господин редактор, с выражениями, ваш Салтыков.
Не напечатали, мерзавцы.
Мерзавцы и дураки.
Дураки и лицемеры.
А доктор Ионов?
Доктор Ионов не мерзавец.
Я его не считал и дураком.
Когда в Вятке мне было особенно плохо, именно доктор Ионов.
Во всей Вятке единственный дом, в котором я.
Доктор Ионов, прямолинейный и честный, но почему.
Не понял.
С натянутым и ледяным письмом вернул книгу, что не желает, с письмом любезным, но оскорбительным, что не желает впредь никаких, ведь я всегда посылал ему, никаких отношений со мной, подарков, переписки, не желает.
Не понял.
Никто не понял.
А ведь стоит только выглянуть в окно: градоначальник безумный летает над городом, градоначальник с головой нафаршированной трюфелями, с органчиком в голове, без головы, все летает по прямой линии.
Болит сердце.
Может я сошел с ума, не они?
35
Нечаев. Кто это такой – Нечаев?
Этого никто не знает.
Но все дрожат.
Дрожанием руководит полиция.
Раз – открыть рот, два – лязгать, ночь опускается при счете три, входит полиция, лязгать, лязгать, этот уже не должен, потому что его забрали, но остальные – открыть, лязгать.
Нечаев?
Исчез как привидение, может его вообще не было, но ведь что-то было; что такое, скажите; лучше не говорить.
Реален – лишь труп, найденный в пруду.
Встать, суд идет.
Первый в истории России гласный суд, с речами адвокатов, с представителями прессы, даже с публикой в зале; с делом Нечаева стали мы таким образом государством законным, европейским, поздравляю; над головами судей – Александр, просвещенный монарх; встаем почитая справедливый суд; но почему эта дрожь?
Раз – открыть рот, два – лязгать; слово имеет господин прокурор; восемьдесят семь подсудимых, но Нечаева недостает на скамье.
Не думаю, Николай Алексеевич, чтобы мы могли позволить себе дать собственный отчет о процессе, если бы однако в обзоре печати.
Попробуйте, но очень осторожно.
Ведь не напишу же я, что это банда мерзавцев, готовых продать душу за полгроша.
Так что пишу обзор печати, а Достоевский над синими морями, те же газеты с небольшим опозданием читая – фантастический роман о бесах.
Достоевский – художник; ах, нет – Достоевский, стоящий со слезами на глазах на эшафоте, с барабанным рокотом в ушах, идет снег, с сердцем дрожащим от ненависти; Достоевский, кого вы ненавидите? – потом, потом, надо писать обзор печати.
Русская журналистика наконец доказала свою лояльность очевидным и несомненным образом.
Перед лицом столь единогласного осуждения, к тому же выраженного с абсолютной свободой, нашей печатью, стоящих перед судом заговорщиков, стоит ли еще.
Что же касается нашего личного отношения к рассматриваемому вопросу, то в качестве ежемесячника мы вынуждены были бы, что кажется бесполезным, ибо в публицистике этого жанра оригинальность, которой мы завидуем, например, Московским Ведомостям, однако не можем.
Вот почему ограничиваясь констатацией похвального единогласия нашей печати, для удобства читателей, в возможно более обширных цитатах.
На этих днях в Санкт-Петербургской Судебной Палате начался процесс второй группы обвиняемых по делу Нечаева. Из обвинительного заключения мы видим, что наиболее благоприятной средой для Нечаева была Петровская Земледельческая Академия. В университете деятельность Нечаева задела всего лишь нескольких студентов-медиков, в большинстве своем кавказского происхождения, исключенных из учебного заведения осенью 1869 года за бойкот профессора Полунина.
Я переписываю длинные отрывки газетных отчетов, лишь изредка позволяя себе прокомментировать их одной фразой.
В том месте, например, где одна из газет возмущается клеветниками, утверждающими, что даже оправданные судом граждане будут до конца жизни ощущать последствия не подтвержденных обвинений, я дописываю: раз Санкт-Петербургские Ведомости уверяют нас, что это не так, трудно стало быть дольше питать сомнения.
Мы надеемся, подытоживаю я, наконец, что читатель, просмотрев эти высказывания, согласится с нашим мнением, что они полностью и к тому же абсолютно свободно освещают не только сам факт, который явился предметом процесса, но также и более отдаленные причины, породившие этот факт.
В обзор печати цензура не вмешивается.
Но Нечаев – кто такой: Нечаев?
36
Идет снег, бьют барабаны, Достоевский сходит с эшафота.
Достоевский – каторжник; письмо к Гоголю читал срывающимся голосом: самые живые, современные национальные вопросы России теперь; обиженный Белинским, публично высмеянный Тургеневым, прекрасной Авдотьей не замеченный, бесталанный, фанфарон; и никто более о нем не слышал – сообщает балагур Панаев; так вот нет, Достоевский – герой, революцию хотел совершить в России, читал письмо к Гоголю и за это в мертвом доме звенит кандалами.
Идет снег, сгиньте, чтоб вы пропали, вы все, златоусты, святотатцы, гордыни дьявольской исполненные, революция есть зло, мудрость ваша – суета, отвернувшиеся от Бога, от основ России оторванные, одержимые зловещим соблазном, исправители мира, грешники, проклинаю и отрекаюсь от вас.
А бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло.
Достоевский, пятый Евангелист, в журнале Каткова лукавых бесов изгоняющий.
Над синими морями, из газет – заговор презренный и студент убитый в парке, но свиньи, в которых вступили бесы – это вы, умники, спесивцы, друзья молодости, вспоминаемой с отвращением и страхом.
Тургенев несколько лет назад тоже было нигилистов осудил.
Ложь! он ими восхищался; он ставил им в вину лишь насмешку над сентиментальными родителями, но в чистоте того огня, что сжигал молодые души, он не осмелился усомниться; от имени отцов отрекся от неблагодарных детей; вернее желал отречься, но в действительности – отдал им честь, перед их мужеством склонился, старый шут Тургенев позволил зашантажировать себя молокососам.
И лишь один Достоевский видит: да это же черви.
Больше видит: из вас эти черви, господа; вы не их противоположность, хоть бредите справедливостью и красотой; это вы, возвышенные профессора и литераторы, Белинские, Грановские, Тургеневы, бессильные в деле созидания, самонадеянные, безбожные, вы породили и взлелеяли преступников.
До того как в них вступили бесы, в вас смердящие имели обитель.
Теперь мчится стадо к своей гибели; с визгом безумным в волны озера падает, смыкаются над ним волны.
И нашли человека оного, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме.
А это Россия – матушка наша, веками несчастьями преследуемая, но Милостью Господней озаренная и, наконец, избавленная от бесов, миазмов, всяческих нечистот, исцеленная, наконец, и у ног Господних, среди изумленных пастырей, над взволнованными волнами сидящая.
Бедный Достоевский.
Идет снег, бьют барабаны, Достоевский сходит с эшафота.
Значит он так долго носил в себе ненависть?
Значит так долго помнил унижение молодости, отвержение Белинским, смех Тургенева, презрительную гримасу товарища по эшафоту – Спешнева?
Достоевский мстит; не фанфарон, третьестепенный член литературного кружка, третьестепенный участник общества заговорщиков, колодник, избегаемый за плохой характер колодниками; Достоевский – необыкновенный писатель, с затаенным дыханием читаемый публикой – мстит за все.
Достоевский, а то: публика видит в русских писателях – письмо к Гоголю с красными пятнами на желтом лице – бедный Достоевский, стало быть то?
Apage satanas!
Достоевский, как это мелко.
Нет, и это не вся правда.
Утром пишу, днем – редакция, вечерами над романом Достоевского, позже к Унковскому играть в карты.
Унковский нескольких студентов защищает по делу Нечаева; о своих клиентах отзывается с уважением и сочувствием.
Достоевский – прокурор самый суровый.
Но суровость эта подозрительна.
Словно собственные искушения отгоняет, словно боится, что едва бесов изгонять перестанет, в него они вступят, а он, с юношами этими соединенный, в революции погрузится течение, увлекающее и кровавое.
Он не любит Христа, от имени которого выступает.
Он тайно тоскует о резне, о революционной резне; и тоски этой пугается, и заглушает ее в себе, и вырвать ее желает; не память о Белинском он так ненавидит, но то, что в нем есть от Белинского; не настоящего Нечаева, что убежал за границу, но Нечаева в себе, способного на то же самое, что и тот; за свою преступную любовь, скрытую, героев книги бичует; а Ставрогин, безумный и страшный – это не Бакунин, как полагают все, не Великий Князь Константин, как догадываются некоторые, а сам Достоевский, бедный Достоевский, раздираемый любовью и ненавистью, Достоевский – кающийся грешник.
Я догадываюсь об этом, потому что.
Это позорно, говорит Унковский.
Катков в восторге.
Достоевский возвращается из над синих морей, иуды целуют его в губы, которые некогда целовал Петрашевский, он дрожит, убегает блуждающим взглядом, а проклятые бесы рядом.
Мне жаль Достоевского.
Но Нечаев.
37
Он и во мне также.
Убийца?
Мистификатор?
Все дозволено?
Нет, нет, что мне Нечаев.
Экипаж катится петербургской улицей, из экипажа выпадает листок: если ты студент, передай – я, Нечаев, схваченный полицией, подвергнутый пыткам, но я убегу, а вы действуйте.
Не было экипажа, не было пыток, пятнадцатилетняя девочка, Вера Засулич, бежит с письмом на студенческую сходку, а в Швейцарии топорное стихотворение Огарева: жизнь он кончил в этом мире в снежных каторгах Сибири, но, дотла не лицемерен, он борьбе остался верен.
Не кончил, вот он уже на родине, с мандатом Бакунина: Alliance révolutionnaire européenne, comité général, № 2771, и это тоже ложь, нет европейского союза, нет комитета, нет тысячи членов, только он, Нечаев, его воля, ненависть и отсутствие угрызений совести.
Катехизис революционера.
Революционер – человек обреченный.
Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела.
Нравственно все, что способствует победе революции.
Безнравственно и преступно – что ей мешает.
Революционер знает одну науку: науку разрушения.
Он не революционер, если он может остановиться перед истреблением чего-либо или кого-либо, принадлежащего к этому миру, если чувства могут остановить его руку.
На себя и на других он смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела.
Все дозволено?
Да, все дозволено.
С мандатом женевского фантаста путешествует Нечаев по мрачным подпольям Петербурга и Москвы.
В подполье ждут исключенные из университета медики, которые читали Чернышевского: вот светлое будущее, любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его (а это уже нелегальная книга, недолго длилось оцепенение цензуры); земледельческой академии голодающие слушатели, которые унижений и нищеты изведали в жизни досыта; ожидают стройные и доверчивые Веры, которые хотят счастья для всех и совсем не думают о себе; итак, прибывает Нечаев, предъявляет мандат: это я – основывает Общество Топора, которое поднимет народное восстание, уже скоро, девятнадцатого февраля.
Вы ячейки гигантской сети, которая покрывает всю Россию; над этой сетью – тайный комитет, я передаю вам его приказы; вы должны мне подчиняться.
Они подчиняются; встречаются ночью, письма какие-то не читая передают; катехизис зашифрованный учат на память; а еще, как распорядился Нечаев, следят друг за другом, выспрашивают, отчеты диктатору вручают; все для него, светлого.
Но один вдруг отказывается.
Строптивый студент Иванов не верит в полномочия Нечаева: не хочет расклеивать прокламации в студенческой столовой – еще закроют столовую из-за вашего вздора; Иванов, комитет приказывает, ты должен; покажите мне ваш комитет; впрочем, оставьте меня в покое, я ухожу.
Уходишь?
Иванов – предатель.
Комитет приговаривает предателя к смерти.
Не могу, Нечаев, уволь, это ведь мой товарищ.
Передаю тебе решение комитета; ты еще колеблешься?
Ночью, в парке земледельческой академии, безусый Николаев с чахоточным Успенским хватают осужденного за руки; он пытается вырваться, кусается; стреляет сам Нечаев; в пруд, ряской заросший, бросают труп; Нечаев, что мы наделали; покарали предателя; смыкается ряска над мертвым, над живыми смыкается ночь.
Через четыре дня полиция нападает на след; сам Нечаев в Швейцарии, к груди Бакунина прижатый, но все остальные под судом.
Еще верят в него, гордятся, что выполняли его приказы, и счастливы, что он сумел убежать; ненадолго, его ведь выдаст Швейцария и на этот раз он в самом деле погибнет, но те, революции разбазаренный капитал, верят, что случится иначе; вернется великий Нечаев, раздует пожар, отечественное зло испепелит, кровью черной омоет, и возникнет новый мир, в котором.
Это для этого мира.
Для этого.
Для какого мира, Нечаев?
Вы хотите, чтобы я поверил, что через эти мерзости.
Ничего не хочу, уважаемый литератор, в кресле, над белым листом.
Что мне до вас и что вам до меня.
Правда, что у меня общего с Нечаевым.
Моя бабушка была урожденной Нечаевой.
Вздор, он сын лакея, крепостного Шереметевых.
Что меня связывает с Нечаевым.
Ненависть.
С Богом моей юности, Белинским; с Петрашевским, наставником и другом; с красавцем Спешневым, в голосе которого я услышал свист гильотины; с Чернышевским, видящим вещие сны за стенами крепости; с Нечаевым, который не нанес врагам удара, но руки запачкал кровью товарища; с ними вместе и с них моя неостывающая ненависть, которая не умеет поджигать и убивать, а лишь умеет язвить и сочинять двусмысленные сказки; вы понимаете, Нечаев, каким ныне правом.
Отвернувшись спиной к судьям: не признаю вашего трибунала; не хочу ваших защитников; не признаю правительства, министров, царя; замыкаются ворота крепости; ах, существовал ли в самом деле Нечаев – не тот во мне, который мне возможно пригрезился – что за страшный сон, у меня руки в крови, не хочу, воды, не тот путь! – в самом ли деле существовал этот человек?
Как же я могу его осудить, когда им, тем, которые его судят, принадлежит мое осуждение.
Как мне брезговать им, когда брезгую теми, что с чавканьем и шипеньем ползают вокруг.
Как мне отречься от Нечаева, если.
Но как мне принять его, страшного и омерзительного?
Как мне признать тот мир, в котором законом будет его воля, холод и пренебрежение?
Выбирай, мой почтенный литератор.
Изгоняй бесов, как Достоевский, и пади в иудины объятия – или согласись на Нечаева.
На какого еще Нечаева?
Это легенда, не знаю никого с таким именем, это в Глупове безумном его кто-то выдумал, чтобы найти предлог для усмирения.
Реален лишь труп, но мало ли у нас трупов.
Еще цензор, у которого отвоевываю в винт четверть ереси; вы снова выиграли, Александр Григорьевич; это значит, что выиграл я.
Нечаева не было и быть не могло.
И без него достает призраков.
38
Ах, как вы благородны, господин литератор.
Как горой стоите за правду.
Сколь высокие доводы взвешиваете в чувствительной совести.
Я ждал тебя, призрак.
О, в самом деле, неужели ты помнишь.
Что же еще могло бы тебя вызвать сюда кроме моей памяти.
Память других.
Этих прекраснодушных либералов, которые не видели вас живых, но точно знали, какова суть ваша.
Красноречие тебе не изменяет.
Восхищение Аввакума бормотанием: а крестное знамение, тремя перстами сотворенное, троицу из Апокалипсиса означает – змею, скотину и лжепророка, А она змея суть дьявол, а лжепророк – патриарх московский, а скотина – злой царь, который зло милует, а равно и лесть.
А я, глаз на глаз с расколом, варварство и насилие видел, не оппозицию.
Значит ты не знал другого варварства и насилия.
Ваша святость, в дебри провалившаяся, гордыни полная и жизни мрачно противоречащая, большим меня наполняла отвращением, чем попов распутное равнодушие.
И поэтому.
Какие же другие мотивы могли меня склонить.
Ведь ненамного раньше (ты знаешь про эго, призрак), когда мне было приказано усмирить бунт, я уклонился и в рапорте встал на сторону возмущенных крестьян.
Это похвально.
Брось иронию, призрак. Если ты тот, за кого я тебя принимаю.
Я тот. Рассказывай.
Сам знаешь, как это было. Ведь по следам твоих показаний я путешествовал по шести лесным губерниям, достиг скитов на реке Лупе и Леле, где из болот поднимались тлетворные испарения, в Ножевске и Осе самозванных патриархов допрашивал, в Казани же при обысках, которые проводил бешеный Мельников, присутствовал, чтоб вернувшись с восемью томами дел.
И что же было в этих делах, скажи.
Истина, совсем для вас неприятная.
Чиновничьей твоей добросовестности истина.
Нет, человеческой моей совести.
Лишь часть ее я поместил впоследствии в губернских очерках.
Ты был вынужден, чтобы оправдать свои действия.
Какие действия? Разве я над кем-нибудь издевался, как Мельников. Разве я, по его примеру, сочинял проекты, чтобы из сектантов усиленней набирать рекрутов, или детей отрывать им от лона.
Можешь еще гордиться, что ты, как Мельников, не крал икон во время обысков.
Снова ирония. Не к лицу она тебе, моя тень.
С иронистом ведь разговариваю. Признай, что в этой истории достаточно забавных страниц. Хоть бы та, что в твои папки с делами даже никто не заглянул, ибо когда ты вернулся, времена изменились. Или взять карьеру Мельникова: он стал литератором, вас называли рядом в разборах господствующего направления. Но о расколе он писал с большей нежностью, чем ты.
У меня была чистая совесть.
Так уж совсем чистая?
Сомневаешься, призрак?
Нет, ты сам сомневаешься.
Шли годы, я задыхался, я хотел вырваться из неволи.
Слишком рано – все изрекал Николай.
Поэтому ты должен был заслужить.
Любые способы выслуживаться вызывали во мне отвращение.
Бывают удобные стечения обстоятельств, когда можно выслуживаться, сохраняя чистую совесть.
Что за облегчение: политика правительства совпадает на этот раз с моими убеждениями.
Это ты так говоришь?
Тебе подсказываю. Наберись мужества и продолжай.
Следовательно я делаю то, что они желают; не для того чтобы выслужиться, но – потому, что верю в правильность своих начинаний; мысль о заслугах загоняю как можно глубже; но вместе с тем ведь выслуживаюсь; разве я не честен? Я не уступил соблазну выслужиться вопреки совести.
Аминь, самонасмешник. Это уже все: отпускаю тебе твою вину.
Стой, спесивый. По какому праву ты, который давал показания.
Меня били, ваше благородие. Я, Ананий Ситников, Старой веры апостол, в Сарапуле фон Дрейером захваченный, был бит в тюрьме и давал показания, пока не отдал Богу душу, в тот день, когда тебе вышла амнистия.
Я не знал.
А хотел ли ты знать?
Значит, теперь ты всегда будешь приходить ко мне.
Не так часто, чтобы тебе было невозможно с этим жить.
Мельникова ты тоже навещаешь?
Никогда.
39
Если бы я мог вторично, зная однако о последствиях.
Бредни.
Костя, Лиза, если бы я по крайней мере хоть вам мог объяснить.
Моя жизнь, жестоких ошибок полная, от которых я уберечься не сумел, вам по крайней мере.
Но я за все расплачивался.
Эта история, в которой своей вины я не вижу, самое большее легкомыслие, все же.
Это уже было в Твери, куда я прибыл после конфликта с Муравьевым в Рязани.
Летним утром мне вручили письмо в распечатанном конверте.
Меня это отнюдь не удивило, вскрывание корреспонденции входило в обязанности подчиненного мне канцеляриста.
Однако когда я заглянул внутрь.
Смазанные буковки размноженной на гектографе прокламации высокомерно требовали конституции, полного раскрепощения крестьян, человеческих прав и свободы.
Эти мысли мне были слишком близки, чтобы я тут же не понял: это провокация.
Эту ловушку подстроило Третье Отделение – и попасть в нее я должен неминуемо, даже если не дочитав до конца, уничтожу эту опасную бумагу.
Канцелярист, который вскрыл конверт, является свидетелем, что прокламация попала мне в руки.
Что вы с ней сделали, Салтыков?
Кто поверит, что уничтожил, не читая.
Но что мне оставалось.
Я сложил листок пополам и уже надорвал его, когда вдруг я нашел лучший выход.
Губернатор Баранов.
Это порядочный человек, к тому же – вне подозрения начальства.
Я не ошибся: уже на следующий день он равнодушным голосом сообщил мне, что бумагу уничтожил, Петербург таким пустяком не тревожа.
Как-то в сентябре я снова получил письмо.
В октябре же пришло известие, что офицер Обручев арестован в столице.
С Обручевым я некогда познакомился у Чернышевского.
Очень молодой, но Чернышевский его ценил.
Он показался мне симпатичным.
Обручева взяли за прокламации.
Без доклада, я ворвался к Баранову.
Ваше превосходительство, пробормотал я запыхаясь.
Он поднял на меня спокойный, хоть и несколько удивленный взгляд.
Не опасайтесь, Салтыков. Вам ничего не угрожает. Препровождая прокламацию в Петербург, я подчеркнул вашу лояльность.
Но ведь в первый раз, вы.
Ну да, но затем поступил циркуляр. Вы это слишком близко к сердцу принимаете, я вас не понимаю, Салтыков.
По дороге в Петербург я немного пришел в себя.
Когда Чернышевский и Добролюбов в своих траурных, в складках словно тоги, сюртуках, над поступком моим суд вершили, я пробовал защищаться.
Ведь я не предполагал, откуда я мог знать, я думал, что это.
Надо было предполагать.
Но зачем он прислал мне в присутствие? Почему не на квартиру?
Их презрение не внимало моим доводам.
Пришел Елисеев, захлебываясь рассказывал, что Третье Отделение получило сорок шесть конвертов, уликой же явился перстень отправителя, оттиснутый на некоторых из них.
Моих он не запечатывал перстнем! – воскликнул я с облегчением.
Добролюбов отвернулся и начал барабанить пальцами по стеклу.
Ладно уж, ладно, проворчал наконец Чернышевский, возвращайтесь в Тверь.
Своих судей я уже больше никогда не встретил.
Добролюбов умер до конца непримиренный с людскими колебаниями и падениями, безжалостный к своему преждевременно истерзанному телу и ни за кем не признавая права на тревогу, на бегство от боли, на жажду удобств, спокойствия или безопасности.
Ему было двадцать пять лет.
Он обижал меня, но я чту его память.
С Чернышевским я впоследствии обменялся несколькими письмами по делам редакции; они были достаточно сдержанными – обоих нас стесняло воспоминание о злополучной истории с прокламациями; но полагаю, что он пятна на мне не видел; как бы он в противном случае согласился на мое сотрудничество в журнале, который вел вместе с Некрасовым?
Быть может, он не забыл еще собственную поездку в Лондон, где от оскорбительных обвинений должен был перед Герценом оправдываться.
Через год после первой прокламации Обручева в каземат бросили Чернышевского.
Некрасов принял меня в редакцию.
Началась новая глава моей жизни.
Как литератор и редактор, я мог уже не опасаться подозрений в неблагонадежном чтении.
Я стал его широко известным автором.
Когда Обручев вернулся из ссылки, я встречался с ним, он сотрудничал в нашем журнале.
Он не сохранил ко мне обиды, он лучше всех знал, что в его несчастьи не было моей вины.
Но для меня.
40
Идут, плачут – не в наших на этот раз краях – но это война..
Истекают кровью, сухари крадут – лягушатники, французишки дохлые – чтобы Гогенцоллерн не сел на испанский трон – кавалеристы атакуют, маршалы сдают крепости – пруссаки все лезут вперед, тоже верно истекают кровью, но кровь победителей предусмотрена в штабных планах, а побежденных кровь – ручьями.
С Крымской едва пятнадцать лет прошло.
Бонапарт не любимец России, но несмотря ни на что, французам теперь желаем победы.
На ход войны желания наши не влияют.
Гамбетта пылкий на шаре «Жорж Санд» поднимается, мужества! – призывает он, а в Париже на человека тридцать грамм конины, Луарская армия перестала существовать, Базен капитулирует в Метце, пруссаки у ворот Парижа.
Нам, издали следящим за трагедией, как обычно, остается филантропия.
Петербург фанты разыгрывает и трели выводит в пользу французских инвалидов.
Как я вышла на крылечко, ла-ла-ла, ли-ли-ли.
На одном из филантропических вечеров подходит ко мне Тургенев.
Несколько лет назад, когда я видел его последний раз, он отнесся ко мне с холодной, несколько пренебрежительной любезностью; я отплатил ему нескрываемой иронией; теперь он сердечен, чуть ли не откровенен; я сбит с толку и никак не умею найтись.
Вы из Баден-Бадена, Иван Сергеевич?
Нет, из Лондона. Я радовался, что встречусь с вами. У меня есть кое-что для вас. Но сперва я хочу пожать руку великому русскому писателю.
Стало быть, не из Баден-Бадена, повторяю я бессмысленно, подавая ему руку.
Из Лондона, Михаил Евграфович, из Лондона. А это для вас.
Он вручает мне несколько страничек, покрытых четким иностранным шрифтом, который для меня столь легко ассоциируется с творчеством Тургенева и вовсе не ассоциируется с моим.
Да поглядите, уговаривает Тургенев с улыбкой довольного шалостью ребенка.
History of a Town, читаю, все еще не понимая, edited by М. Е. Saltykoff.
Это моя рецензия, выясняет улыбающийся Тургенев, теперь вы наконец поверите, что я приезжаю не из Баден-Бадена, а из Лондона.
Я молчу, недоверчиво поглядывая то на него, то на английский оттиск.
Да разойдитесь же, наш русский Свифт, просит Тургенев, вы написали великую книгу, разве вы этого не знаете?
Не знаю, бормочу я, все еще не доверяя, что именно Тургенев меня хвалит; именно он, который до сих пор так недоброжелательно взирал на все, что я писал; а теперь, когда почти никто не понял истории одного города, когда меня за нее оплевывают в печати и оскорбляют в частной жизни, надо же было чтобы именно он один оказался тем, который понял, он один протягивает руку; не знаю, Иван Сергеевич, и откуда бы мне знать, скажите вы мне.
Тургенев становится серьезным.
Вы знаете, Михаил Евграфович.
Вы слишком умны, чтобы не знать, что написали самую правдивую книгу о России.
И если никто не высказал этого до меня, я тем более горд, что мне это выпало на долю.
Я никогда не скрывал, сколь чуждым было мне то, что вы писали.
Ныне я склоняюсь перед вами.
Я не скромничаю, мы все пишем романы лучшие или худшие, но такую книгу, только вы один.
Так что примите с открытым сердцем то, что я говорю.
Он снова протягивает руку, я пожимаю ее, но не умею выдавить из себя тех сердечных слов, которых он вероятно ждет.
Я бы хотел их найти; ведь я в самом деле благодарен – что он понял, что заметил и что – именно он; мое замерзшее сердце охватывает волна тепла, какие-то стершиеся воспоминания – ах, да, когда я первый раз в жизни пил водку на почтовой станции, такое же тепло: но мне было легче тогда разделить его с жандармским офицером, чем сегодня с товарищем по перу, который по-братски отнесся ко мне.
Благодарю за расположение, удается мне сказать наконец; получается это натянуто, так что бреду дальше: мне приятно, Иван Сергеевич, что вы столь великодушно оценили мои забавы, а Свифта мне как-то до сих пор.
Вы непременно должны прочесть.
А что вы думаете о последней поэме Некрасова, уже совсем неудачно меняю тему разговора.
Некрасов, хмурится Тургенев, я предпочел бы не вспоминать об этом человеке.
Это настоящий поэт, бросаю я вызывающе, а я что, публицист.
Вы себя недооцениваете, говорит, уже холодно, Тургенев.
Изысканно склоняя голову, он отступает в сторону кринолинов и шляп с цветами, которые расступаются, давая ему дорогу.
Как я вышла на крылечко, ла-ла-ла, ли-ли-ли.
И грохот прусских пушек, бьющих в Отей и Пасси.
41
У этого солдата нет снов.
Четыре дня он умирает на побоище; воды; ужасающая осознанность, под светло-синим балканским небом, которое не раскрывает ему никаких тайн, просто распростерто, с ядром солнца посередине, а когда ночь – с большой звездой и с блестящей мелочью вокруг; кусты; травинка; муравей; рядовой-вольноопределяющийся с раздробленными ступнями ползет к распухающему соседу – к феллаху, которого он заколол штыком; мертвый враг, как брат, отдает ему свою манерку; вода теплая и приторная; гниющего спасителя черви точат; смрад переворачивает внутренности; манерка выпадает из рук; рядовой-вольноопределяющийся плачет.
Никаких снов, только смердящая действительность.
Четыре дня, пока найдут, в лазарете на стол положат; потом в солдатской шинели он постучится в редакцию; да вы же писатель, печатаем, разумеется; странным посмотрит взглядом и, хромая, молча выйдет; и лишь когда-то, за перила лестницы вытягивая руки, как пловец, бросится вниз, чтобы затем четыре дня умирать на больничной койке, в солнце своего безумия и осознанности.
Гаршин его фамилия.
На тридцать лет моложе меня.
Наша надежда.
Цензура соглашается на рассказы без снов.
В снах бывают намеки; также в сказках и иносказаниях; а это из жизни наших храбрых солдат; и кончается хорошо – ведь нашли, только одну ногу отняли; а вы говорили, Салтыков.
Я говорил: без козыря.
На Шипке, говорят, снег.
Армия Гурко подходит к Адрианополю.
Рядовой-вольноопределяющийся плачет над разлитой манеркой.
В этом, слава Богу, нет никакого намека.
42
А я что, публицист.
Понятия, вот, хотя бы за Катковым, подбираю.
Выстукиваю и слушаю.
Такое модное словечко: анархия.
Была минута, когда чуть ли не всю Россию подозревали в анархических устремлениях, когда лишь абсолютный дурак и отъявленный подлец могли чувствовать себя свободными от ярлыка: анархист, поджигатель.
Была минута, пишу я. Была. В осторожном времени.
Что же по сути дела, спросим, является анархией в глазах толпы? Это возбуждение умов, скептическое отношение к мифу, который управляет существованием человека, поиски правды, более соответствующей изменившимся условиям жизни, сама, наконец, жизнь, переходящая со старых на новые рельсы. Другими словами, анархия это всякое движение, прогресс, глубочайшее содержание истории, если под историей подразумевать нечто другое, чем.