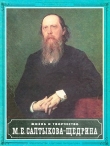Текст книги "Сны под снегом (Повесть о жизни Михаила Салтыкова-Щедрина)"
Автор книги: Виктор Ворошильский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Достаточно было раскрыть ее на любой странице.
Аномалия. Миллионы людей без устали, в поте лица своего, тратят силы на удовлетворение единственной потребности – потребности в пище, и при этом часто умирают от голода, в то время как другие гибнут от обжорства. Все это заставляет смотреть на современное общество как на чудовищную аномалию, подавляющую развитие человека.
Аномалия не любила однако, чтобы ее называли по имени.
Судьба русской Энциклопедии отличалась от судьбы французской.
Когда Петрашевский со свойственной ему бравадой посвятил словарь Великому Князю, это обратило на книгу дремлющее око властей.
Ведомство сожгло весь нераспроданный тираж: тысячу шестьсот экземпляров из двух тысяч напечатанных.
Крестьяне сожгли фаланстер, который выстроил для них безумный барин.
Еще до этого во мне сгорела вера в его утопии.
Человеческий род суть большое коллективное существо, органами которого являются изящные искусства, наука и индустрия; история цивилизации представляет картину очередных физиологических состояний человеческого рода; она также доказывает способность человеческого рода к совершенствованию; ее нужно только понять и захотеть сделать выводы; создавая порядок, в котором каждый будет наделен по своим заслугам, вознаграждаем же по своим делам, человеческий род достигнет совершенства, наступит золотой век, который воображение поэтов поместило в темноте первобытных времен, но который на самом деле впереди.
Это Сен-Симон, а Фурье, призывающий перейти от общественного хаоса ко всеобщей гармонии, начертавший картину радостного и привлекательного труда, а Кабе, а Видаль, все эти благородные и мудрые – в самом деле, слишком многим обязаны им мой ум и сердце, чтобы тогда или теперь я мог насмехаться над ними.
Но я не был в состоянии не возвращаться после этих взлетов на землю.
У всех утопистов, особенно же у Фурье, меня раздражала подробная регламентация будущего, которой так упивался Петрашевский.
Это было наивно и бесполезно; нельзя предвидеть будущее в отрыве от постепенного усвоения человечеством тайн природы и происходящего отсюда развития наук.
Фурье предвидел ненужных антильвов и антиакул и не предвидел ни железных дорог, ни телеграфа, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели антильвы.
Его смущал вопрос об удалении нечистот из помещения фаланстеров и для разрешения он прибегнул к когортам самоотверженных, тогда как в недалеком будущем дело устроилось проще при помощи ватерклозетов, дренажа, сточных труб.
Наконец, он верил в пригодность открытых им форм общежития для любой человеческой группы; ему казалось, что дело лишь в доброй воле; он не принимал во внимание внешних условий и вытекающего из них непостоянства жизненных потребностей.
Вместе с Майковым и Милютиным я покинул Петрашевского, разочаровавшись в утопии и враждебный к регламентации будущего.
Несколько лет спустя я нашел ее у Чернышевского, в снах Веры Павловны, героини тюремного романа.
Я не верил в этот сон; Некрасов тоже не верил; ни я не сказал ему об этом, ни он мне.
28
Петербург горит.
Над Рынком огненные столбы и черный дым.
Разносимые ветром пылающие головешки перелетают, брызгая искрами над темным каналом, и падают на крыши домов сгромоздившихся в улицах вокруг Рынка.
Весь город пропитался гарью.
По городу катится помраченная и словно захмелевшая от несчастья толпа.
Толпе неведома стихия, она ищет более осязаемого врага: это поляки, злые и коварные поляки, те самые, что тридцать лет назад заразили город холерой.
Поляки и студенты поджигают великолепную столицу.
Тридцать лет назад еще не было студентов, хватало одних поляков; сознание толпы изменяется вместе с прогрессом просвещения.
Скоро новое престранное слово начинает переходить из уст в уста: нигилисты.
Нигилисты это тоже студенты, только еще хуже.
Это так пришлось по вкусу, что поляков забывают.
Нигилистов легко узнать по длинным волосам и шляпам с широкими полями; их можно хватать на улице и бить, до тех пор пока они не испустят дух; полиция не препятствует.
Выдумал нигилистов, еще до начала пожаров, Тургенев.
Он не хотел их убивать, только высмеять.
Большой барин, порвал с журналом Некрасова, потому что от новых сотрудников для него пахло дегтем; а потом, желая отомстить им при помощи прекрасного искусства слова (дворянину к лицу это изысканное оружие), опубликовал современную повесть об отцах и детях; Добролюбов выступал в ней как сухой, недоступный человеческим чувствам Базаров.
Вы не верите ни во что… даже?
Даже, отвечает Базаров.
Добролюбов умер до выхода книги, но нигилисты существуют: поджигают Петербург, выпускают тайные прокламации, редактируют неблагонадежные журналы.
Я не хотел, объясняет смущенный автор.
Пожалуй, и в самом деле не хотел.
Пожары гаснут.
На улицах пусто.
Орда кочевников разбивает на Рынке палатки.
Катков, который превосходно изучил дух времени, пишет статьи о нигилистах и поднимает тираж.
Журнал Некрасова закрыли на восемь месяцев.
Верно не откроют больше: откуда он возьмет сотрудников?
Ночью стук полиции в дверь.
Забрали Обручева, забрали поэта Михайлова, забрали Писарева и Шелгунова.
Седьмого июля 1862 года берут Чернышевского.
На Мытной площади – помост деревянный и столб с железной цепью.
Над головой государственного преступника палач ломает шпагу.
Зачитывают приговор: семь лет сибирской каторги.
Собравшаяся толпа понимает приговор: навсегда.
Это не та, которая в клочья рвала нигилистов; это именно нигилисты, те недобитые, недорастоптанные; черное платье без кринолина бросает Чернышевскому цветы; обнажаются головы; прощайте, прощайте.
Читатель, который возьмет в руки этот первый, после длительного перерыва, номер нашего журнала, вероятно спросит, очистились ли мы постом и покаянием.
Что был пост – трудно отрицать; и хоть мы не являемся противниками самой идеи поста, мы предпочли бы, ясное дело, чтобы его сроки определяла менее щедрая длань, что, впрочем соответствовало бы существующим уставам.
Что же касается покаяния, постараемся ответить в ближайшее время; во всяком случае обещаем лояльность, потому что все склоняет нас к ней: и желание общаться с читателями двенадцать, а не четыре раза в год, и нынешнее настроение общества, и, наконец, другие обстоятельства.
В начале однако я должен определить, что такое лояльность. Так вот, достаточно, чтобы тот, кто решил встать в ряды лиц лояльных, сказал себе: можешь, мой дорогой, если хочешь, заимствовать платки из чужих карманов, можешь читать романы Поль де Кока, но за то ты обязан иметь хороший образ мыслей. Чем в свою очередь является сей хороший образ мыслей, этого я уже не сумею объяснить, ибо я это скорей чувствую, чем понимаю.
Это моя статья.
Не слишком ли ясные намеки?
Сойдет, машет рукой Некрасов.
После выхода номера он приглашает сотрудников на обед.
Представляет меня хозяйке: высокой, статной, со смуглым цветом лица и блестящими черными волосами, собранными в кок. Такой я представляю себе Жорж Санд, хотя никогда ее не видел.
Это господин Щедрин, а это – Авдотья Яковлевна Панаева. Надеюсь, что вы подружитесь.
Вы так же прекрасны, как некогда, когда я поглядывал на вас из другой комнаты.
Как так, вы меня знаете?
Мрачный лицеист.
Вы? Боже!
Она разражается смехом, но меня он не задевает.
Я веду ее к столу.
Елисеев поднимает тост за здоровье Чернышевского.
Запах гари еще носится в воздухе.
29
Что же касается града Глупова, то не является тайной отчего он сгорел.
От распущенности градоначальника (в описи глуповских правителей означенного одиннадцатым номером), Фердыщенко, толстяка и в общем доброго малого.
Целых шесть лет кряду Глупов тек молоком и медом, а бригадир Фердыщенко ни во что не вмешивался, с подчиненными на крыльце в карты дулся, а к своим овечкам обращался – «братик-сударик».
А ну, братик-сударик, ложить, приказывал он нежно, случись кому-нибудь из граждан провиниться.
Конец благополучия наступил, когда Фердыщенко без памяти влюбился в краснощекую Алену, домой ее от мужа привел, последнего же заклеймив каленым железом в числе прочих сущих воров и разбойников в Сибирь отправил.
За эту распущенность милостивая до сих пор природа отвернулась от глуповцев.
Земля перестала родить, с самого вешнего Николы вплоть до Ильина дня не выпало ни капли дождя.
Послал бригадир «излюбленных» на агитацию, для ободрения опечаленного народа.
Мы люди привычные, утешали народ «излюбленные», раз начальство с нами – что Бог даст, без ропота снесем. Ты думаешь как? ты думаешь-то начальство спит! Нет, брат, если бы оно даже одним глазком задремало, а вторым поди, уж где видит!
Однако оголодавший народ роптал.
Это из-за его развратной Иезавели, роптал народ, неудачи наши.
Отдать ее псам на растерзание, и уродит земля как раньше.
Тогда начал Фердыщенко рапорты строчить, так мол и так, пришлите, милосердные, хлеба, а уж коли нет хлеба, то пускай команда прибудет.
Писал, ждал, а тут народ все более роптал, все громче требовал выдачи Аленки, до тех пор пока не выдержал бригадир и на муки не выдал сладкую свою утеху: белое тело с верхнего яруса колокольни, раскачав сбросили, ни единого лоскута не осталось от милой, в одно мгновенье ока разнесли ее приблудные голодные псы.
И вот в то самое время, когда свершилась судьба Алены, на ведущей к городу дороге вдруг поднялось густое облако пыли.
Хлеб идет! – радостно вскрикнули глуповцы.
Ту-ту! ту-ту! – затрубила туча.
В штыки, трубят рога! разить врага, пришла пора!
И успокоились глуповцы, и снова потекла жизнь старой колеей, только что градоначальник чересчур вошел во вкус разврату и очень мало времени минуло, как приголубил новую возлюбленную: Домашку-стрельчиху, грязную и непристойную.
На этот раз природа не проявляла признаков гнева, перепадали дожди и притом в пору светило солнышко. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай.
Фердыщенко же безмятежно предавался мерзкому разврату.
Как вдруг шестого июля (летописец отметил эту дату) встал юродивый Архипушка средь торга и начал раздувать по ветру своей пестрядинной рубахой: горю, горю, кричал блаженный, увидите меч огненный, услышите глас архангельский, горю!
Пожар вспыхнул назавтра, когда все до единого отправились в поле, так как работа была спешная (зачиналось жнитво).
Небо заволокло сплошь и раздался оглушительный раскат грома, затем набат послышался и все покрылось черным дымом.
Среди пламени метался одержимый Архипка, рвал на себе рубаху, царапал ногтями грудь, но из пасти огня, пожиравшего его, выхода не искал.
Уже колокольня стояла в огне, самый большой колокол загудел в последний раз и грохнул вниз.
Всю ночь над городом дрожало зарево, на рассвете словно успокоилась стихия, но в полдень занялось с другого конца, так дом за домом в пепел обращался, глуповцы же, в зловещее всматриваясь сияние, начали роптать.
Долго ли нам гореть будет? – роптали они.
Не с Богом же спорить, огрызался градоначальник.
Не о Боге речь, о твоих лишь бесчинствах, ты, гунявый.
Тогда бригадир вдруг засовестился и плача Домашку толпе выдал, однако ее не сбросили с колокольни, ибо колокольня сгорела, а еще и по той причине, что эта девка была им люба.
Фердыщенко же начал рапортовать во все места.
И вскоре на тихом глуповском тракте показалось облако пыли.
Пожарные едут! – с облегчением закричали жители.
Ту-ту! ту-ту! – затрубила туча.
В колонну, соберись бегом! зададим штыком! Скорей! скорей! скорей!
Глуповцы пали ничком.
Таким образом, что касается города Глупова, то уже ясно отчего он сгорел.
Правда, Глупов сказочного происхождения и это отчасти облегчает дело, хотя и со сказкой никогда ничего неизвестно.
Не знаю также, уважаемый читатель, по вкусу ли тебе небылицы.
Если нет – и в Петербурге, и в провинции достаточно других развлечений, столь же почтенных.
Как-нибудь, пожалуй, договоримся.
Так или иначе, прошу не спутать адреса.
Я живу в Петербурге, в доме Красовской, первый этаж с парадного.
Говоря по правде, я предпочитаю сказки.
30
В этом-то городе.
Два изменивших своему сословию барина и преподобная консистория.
Еще мгновенье улыбка женщины, музы демократической поэзии, а позже.
В этом-то городе мерзком (даже странно, что это не я подложил огонь под его мишуру и беззаконие – а может все же?) мы издаем журнал, шуршанием которого старался Пушкин четверть века назад обмануть топот медный (но вскоре растоптал его всадник); который позже громогласной Горой Синаем сделал Бог наш, Белинский (за деньги веселого кутилы Панаева); в котором взбунтовавшиеся барчуки, самые большие писатели России, печатали свои первые ереси (пока не ушли, возмущенные новой ересью не ценящих красоту семинаристов); в котором эти семинаристы педантично и трудолюбиво (в педантичности и трудолюбии подчас тоже таится гений) выворачивали наизнанку оболганную действительность и такое же искусство (как вдруг их не стало, – умерших от истощения, брошенных в казематы и тайгу); издаем журнал в этом мерзком городе, вопреки ему и против него вновь издаем журнал.
Баре – это Некрасов и я; поэтому взирает на нас Петербург подозрительным взором – когда же из этих демократов, перекрашенных лисиц, выглянут их благородия; ибо что выглянуть должны, это ясно; а этот Некрасов, шепчет Петербург, зад кареты утыкал острыми шипами, а Салтыков лакея по морде бьет, а в карты так они иногда до рассвета играют, впрочем о картах – это правда.
Консистория: Антонович, Елисеев и Пыпин; трудолюбие завидное, но на сей раз в нем не скрывается гений; неважно также обстоит дело с чувством юмора; мои издевки кажутся консистории не к месту в той жалкой и неестественной ситуации, в которой мы действуем; так что пишу немного и наперекор консистории.
Еще какое-то мгновенье с нами Авдотья Яковлевна, la belle Eudoxie, но вдруг уходит с мелким хватом Головачевым, а Некрасов изучает французский, чтобы болтать с быстроглазой Сюзанной.
La belle Eudoxie: Достоевский влюбился в нее с первого взгляда, Чернышевский целовал ей руки (пожалуй, ни одна женщина не удостоилась этой чести), умирающий Добролюбов клал голову на ее колени, Некрасов – любовник, терзаемый чрезмерным счастьем, убегал и снова возвращался, один лишь Панаев предпочитал прелести сотни других женщин.
Загнанный ловелас, он чувствовал себя лучше всего, когда что-то терял; с гризетками промотал остатки состояния, журнал отдал Некрасову, а когда тот к тому же отобрал у него квартиру и жену, облегченно вздохнул: это была свобода – и поправив парик, начал высматривать очередное приключение; чтобы наконец отдохнуть от приключений, он однажды прилег на диван и умер; Некрасов с Авдотьей, как раз расходившиеся, не обратили на это внимание.
Итак, журнал не имеет уже своей музы; он становится еще более сухим и скучным, чем был до этого; и все же у него есть читатели.
Печатаем присланную из крепости утопию Чернышевского.
Консистория добросовестно распространяет прогрессивные идеи.
Некрасов в минуты, свободные от карт и мелочной грызни с цензурой, пишет стихи, гневные и волнующие.
Я правлю повести второстепенных писателей из народа и вступаю во все более ожесточенную полемику с каждым, кто встает нам на пути, защищаю нигилистов, мальчишек, как их называет Катков, от свиста и камней журналистской братии.
Все вместе не слишком приятно.
Нас читают, стало быть, мы нужны.
Но, читая нас, компрометируют себя: чтение нашего журнала это такой же признак нигилизма, как темные очки и непосещение церкви; так что нужны ли мы?
Тем временем восстают поляки; не помогли Константина притоптывания в мазурке, ни Великой княгини бело-красный туалет; на варшавский блеск первый либерал променял свое петербургское положение; теперь: Саша, я это улажу – стоит на коленях перед царем, монокль из глаза и слезы; но царь не соглашается; поляки раздавлены.
Муравьев, жирный боров с вздернутым носом и короткой седой щетиной – любимец народа.
Он непререкаемый авторитет; Каткова хвалит: истинно русский человек; Валуева, в меру либерального министра, уничтожает: космополит.
Молодец Муравьев, восторгаются славянофилы, расстреливает и вешает, дай ему Бог здоровья!
Герцен встает на сторону поляков и лондонский колокол захлебывается внезапной тишиной.
Мы не защищаем поляков, но и не обсуждаем их неслыханных подлостей; польский вопрос, уведомляю читателей, не входит в сферу моих фельетонов; зато я рецензирую «Вильгельма Телля» и мимоходом высмеиваю наемных публицистов, разумеется – австрийских; цензура не вмешивается, Катков лишь насупил бровь и указывает на нас патриотическим перстом.
С другой стороны гремит радикал над радикалами, наполовину помешанный Писарев.
То, что я пишу, он называет цветами невинного юмора.
Когда мы смеемся вместе с господином Щедриным, мы уже не в состоянии возмущаться.
Смех господина Щедрина развращает молодежь.
Если господин Щедрин хочет приносить пользу, пусть оставит беллетристику и займется популяризацией естествознания.
Я что-то там отвечаю Писареву.
Что-то там отвечаю братьям Достоевским, которые в своем журнале бредят об основах, о возвращении к истокам, засыпанным Петром Первым.
Что-то там отвечаю и Каткову.
Ад журналистики.
При дворе ненадолго берет верх «польская партия», либеральные князья, так что Муравьев, пожалованный блестящей безделушкой графского титула, удаляется в деревню, чтобы прокряхтеть секретарю мемуары.
Польская пропаганда, жалуется он, в самом невыгодном свете поступки мои, но более мучительно, что некоторые лица в самом Петербурге, а частично даже.
Бедный вешатель!
Но четвертого апреля 1866 года в Летнем саду бледный юноша Каракозов неуклюже целит в Александра.
Не успевает даже выстрелить, схваченный и обезоруженный толпой.
По… поляк? – давится царь, рыбьим взглядом поглядывая на покушавшегося.
За вас, обращается юноша к враждебной толпе, я русский; толпа молчит.
В ночь с восьмого на девятое начинается расправа: берут студентов и мещан, князей и учителей, среди литераторов забирают Курочкина, Слепцова, Минаева, Лаврова, Зайцева; не хватает жандармов, к участию в обысках привлечена гвардия; Муравьев лично допрашивает стриженых барышень и угрожает им выдачей желтых билетов; а оцепеневшая от страха пресса состязается в выражении верноподданнических чувств.
Бдительный перст Каткова указывает моральных виновников святотатственного покушения.
28 мая за многолетнее вредное направление наш журнал (одновременно с журналом Писарева) закрывают.
Не помогает даже последний отчаянный жест редактора: ода в честь Муравьева, прочитанная на обеде в Английском клубе.
Мятеж прошел – тщетны усилья враждебных мощной Руси сил. Зри: над тобой простерши крылья, парит архангел Михаил.
Вешателя не развлекают оды.
Он поворачивается к поэту спиной.
Друзья тоже отворачиваются.
Боялись не меньше чем он, невнятно поощряли к этой попытке двуличности, позорной и бесполезной, но совершил ее он, не они.
Теперь он один стоит у позорного столба.
Английский клуб явился Семеновским плацем поэта.
А я?
А меня там нет.
Я ранее покинул Петербург, терпеливо выживаемый консисторией заодно с цензурой, снова потеряв вкус, как уже столько раз прежде, к этой горькой ниве.
Но не сумею не вернуться снова.
31
Что за радость: Руси Тысячелетие славное.
Тысяча лет, говорят, как Варягам к ногам припала: земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет; придите и княжите.
Пришли Рюрик, Трувор, Синеус и начали историю.
Ученые историки теперь до хрипоты спорят, какой крови князья-братья варяжские.
Норманнского происхождения, утверждает Погодин; ничего подобного, балты, упирается Костомаров.
А я знаю.
Первый-то брат – капитан-исправник, второй-то брат – стряпчий, а третий братец – тсс, между нами, сам мусье окружной.
И где было жито – там ныне порядок; где скотинка тучная – там порядок; где даже рощицы росли – и там завелся порядок.
О, Глупов! милый Глупов!
Отчего сердца так тянутся к тебе, отчего уста сами поют тебе хвалу?
Auch ich war in Arcadien geboren.
Следовательно, Крутогорск, все еще Крутогорск; это реализм, n’est ce pas, самый очевидный реализм; может господа желают пощупать; хватит, эта книга закрыта, finis.
Теперь Глупов?
Ах, это совсем не просто, блуждаю по Глупову, а тут компания знакомая; Крутогорском проросший Глупов; не хочу; о, как мучительно писать; иначе ведь не умею; Крутогорск ядром у ноги; убежать, убежать; реализм нереален; в Глупов, может Брюхов, нет, несмотря на все Глупов; даже в пошлости должно быть что-то человеческое, а в Брюхове – ничего, кроме навоза; у Брюхова нет истории; какую же однако историю имеет Глупов, испуг, непрерывный, бесконечный испуг – вот история града Глупова; сейчас, неужели; нет, не в состоянии, не умею, оставьте меня в покое, никогда ничего не напишу.
Белый конь.
Что такое?
На белом коне.
Не может этого быть.
Въехал в Глупов градоначальник на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.
Глуповских градоначальников биографии прилежно записанные очередными архивариусами и мной из древних летописей извлеченные и ради утехи читателей, а также и нравоучения, верно повторенные.
Что касается до внутреннего содержания, то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Издатель не счел однакож себя в праве утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большей ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него.
Форма.
Я нашел форму.
Возбужденный я кружу по кабинету.
Лиза!
Что, Мишель?
Ничего, ничего, не мешай.
Мне показалось, что.
Не мешай – говорю.
Входит письмоводитель в кабинет, а тут градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова.
Где вы видели эту пирамиду, спрашивает Кукольник, старательно утаптывая мой исстрадавшийся череп.
Где вы видели, чтобы голову отвинчивали, а в голове.
Испорченный органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «не потерплю!» и «раззорю!» и вдруг: «тсс», «пс»; в столицу телеграфируют за новой, с пакетом фельдъегерь и внезапно.
Или с фаршированной головой.
Топчется гурман вокруг фаршированного: ваше превосходительство, хоть бы лизнуть!
Где вы видели, чтобы.
Где? В Глупове, дорогие, в Глупове.
Не Брюхов, не Крутогорск, не Тверь, не Вятка, не Рязань: град Глупов, как Рим, на семи холмах лежащий; только в Риме сияло нечестие, а у нас – благочестие. Рим заражало буйство, а у нас – кротость. В Риме чернь, а у нас начальники.
Двадцать один, шесть девок-самозванок не считая, которых за шесть дней анархии.
Однако лишь Угрюм-Бурчеев.
Погодите, еще не он; глуповцы челом князю бьют: приди и володей нами; князь прибывает и: запорю! – с этим словом начались исторические времена в Глупове.
Неужели нашел; неужели; да нет же; нуда; сам не знаю.
32
Детство продолжается долго.
Каждый день полон содержания, времена года имеют необыкновенное значение, времена суток отличаются цветом и вкусом, нет повседневности, всегда происходит что-то новое, проходили странники, ощенилась сучка, я увидел у дороги вербу странной формы, узнал букву аз, буки, веди, поймали беглого солдата, я подрался с братом, на третье была малина, губы маменьки, когда она обняла меня, тоже пахли малиной, отец показал мне наше генеалогическое древо, мы происходим от боярина Прушанича, я знаю уже весь алфавит и считать до одиннадцати, а есть еще храмовые праздники с хорами и пряниками, каждое мгновенье наполнено и ощутимо, каждый предмет западает в память, мне интересен каждый человек, не всех люблю, гувернантка Мария Андреевна когтями впивается мне в уши, но никого не забуду, ни себя не забуду, меня много, с Нового года я вырос на четыре вершка, хотел бы уже быть взрослым, но детство продолжается долго.
Также и молодость, с надеждами, друзьями, книгами, первые бунты, первые стихи, первая бессонная ночь, болит голова, я омерзительный развратник, Платон, льда, возлюбленный сын наш, граф Бобринский, это для тебя слишком дорогостоящий приятель, льда, ради Бога, Платон, Юрьев же, возлюбленный сын, решительно оказывает на тебя дурное влияние, Алина, je vous aime, mais, Michel, je suis mariée, пишу повесть, дзинь-дзинь-дзинь под дугой, молодость длится короче, чем детство, но все же долго.
А позже – мелькание лет, болезней, знакомств, честолюбий, начатых и неоконченных работ, работ оконченных и забытых, забот, квартир, путешествий, холода, пустоты, так быстро, почему так быстро?
Служу, пишу, снова служу, из провинции в Петербург убегаю, из Петербурга снова в провинцию, снова вокруг негодяи, так что сражаюсь с негодяями, разумеется проигрываю, это более чем ужасно – это скучно, снова из провинции в Петербург.
Некрасов взял в аренду у Краевского журнал, приглашает меня в редакцию, из консистории остался один Елисеев, оскорбленный Антонович пишет памфлеты, огрызаюсь за Некрасова и себя, пишу историю Глупова, потом путевые письма, Некрасов умирает, я встаю во главе редакции, нам закрывают журнал, еще живу, но жизнь проходит, детство продолжается долго, а жизнь проходит так быстро.
На похороны отца меня не пустили из Вятки, на похоронах маменьки я замерз, потом пил водку с братом Дмитрием, но не мог согреться, мне казалось, что от него этот холод, меня бил озноб, я пил водку и меня бил озноб, бери имение Иуда и оставь меня в покое, с тех пор я никогда не мог согреться.
Лиза на тринадцать лет моложе, не любит меня, мы чужие, может это оттого, что у нас нет детей, так долго бездетные, но однажды: доложи обо мне господам, Иван, поторопись, ну же!
Господ нет дома.
Тогда ты, Иван, поздравь меня, у меня сын, слышишь, у меня родился сын, Константин!
Дети меня не любят.
Пустота, холод, мне сорок лет, почти ничего не написал, Крутогорск с трудом преображается в Глупов, мне шестьдесят лет, я написал уже все, наш знаменитый, господин Салтыков-Щедрин, ну и что из этого, как что, ведь я хотел, ведь я об этом мечтал, а, в самом деле.
Если бы придумали такую машину, вроде волшебного фонаря.
Ведь существуют дагерротипы, следовательно, если бы зафиксировать на них все моменты жизни, затем же в этой машине, в этом волшебном фонаре пустить в движение картинки, чтобы вся жизнь по порядку прошла перед глазами.
Сначала было бы длинное детство и каждая картинка иная, множество различных картинок.
Затем длинная молодость.
А потом уже одна картина, без изменений: человек над рукописью, с отсутствующим и гневным лицом, постоянно над рукописью, проходят годы, проходит жизнь, постоянно одна картина, без изменений.
Ведь я сам хотел.
Ведь мне не жаль этих однообразных лет.
Но почему так быстро?
Мгновенье, остановись!
Нет, это уже конец.
33
Так что и Угрюм-Бурчеев лелеет тайную мечту, свою программу или Утопию.
Эстетический то сон, подчиненный законам геометрии, мечта о прямой линии.
Все маршируют и маршируют.
Никто налево, никто направо – все прямо вперед.
Ровным шагом, в одинаковых мундирах.
Ростом тоже все одинаковы.
В геометрическом городе живут, в серых домах, в каждом доме по четыре пары.
Двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетних.
И командир, и шпион.
Трутуту! – на рассвете взывает побудка.
Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, шпионы спешат с рапортами.
И по прямой линии – марш на работу.
По команде: раз! обыватели разом нагибаются.
По комнате разгибают спину.
Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев и затягивает для поднятия духа: раз-первой! раз-другой! а за ним все работающие: Ухнем! Дубинушка, ухнем!
Великолепный мир прямой линии.
В нем ни страстей ни чувств.
Только обязанности и геометрия.
Геометрия является обязанностью.
Весь мир представляется великим маршем – куда? в лучезарную даль, которая покамест еще задернута, но со временем, когда туманы рассеются.
Увы!
В том виде, в каком Глупов предстал глазам Угрюм-Бурчеева, город этот далеко не отвечал его идеалам.
Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Улицы разбегались вкривь и вкось; лачуги, то высокие, то низкие, то красные, то желтые, в одной горбатый живет, в другой шесть безобразных ублюдков.
Понял градоначальник, что град предстояло не улучшать, но создавать вновь.
Но что же может значить слово «создавать»?
Создавать – значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят.
Так Угрюм-Бурчеев и поступил.
На рассвете рухнули первые стены.
С вдохновенным градоначальником во главе глуповцы уничтожали свою колыбель.
Пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Бурчеев в прах стирал не знающий симметрии город.
Его мысли уже были далеко: он сортировал жителей по росту и весу, неподобранные четы разводил, новые согласно с идеей соединял, детей поровну делил между семьями, назначал командиров и шпионов.
Лежащий в развалинах Глупов он перекрестил в Несгибаемый – и магическое это имя из небытия немедленно улицы подняло – прямые, как стрелы, радиусами разбегающиеся от квадратной площади, посреди которой Угрюм-Бурчеев, создатель порядка, ось великолепной симметрии, стоял и служил примером.
Счастье было так близко.
Всего лишь на шаг по прямой линии облеклась в плоть Утопия.
Но тогда.
34
Ничего не понимают.
Плоха та птица, что в собственное гнездо.
Народ.
Какой, к черту, народ?
Абстрактный – или исторический, который породил и выносит градоначальника с фаршированной головой, породил и выносит, вздыхая, Угрюм-Бурчеева, а в порыве злобы, случайные жертвы с колокольни сбрасывает.
Смех для смеха.
Ха-ха-ха, Салтыков-весельчак.
Нет, у Салтыкова нет чувства юмора.
Юмор предполагает великодушие, доброту и сострадание.
Неужели?
Придите ко мне и я успокою вас.
Ложь.
Искусство оценивает жизненные явления единственно по их внутренней стоимости, без всякого участия великодушия или сострадания.
Но, Мишель, не сердись, но я ведь тоже не понимаю.
Разве это возможно, чтобы градоначальник летал по воздуху и зацепился за шпиль?
Помнишь, когда я была барышней, ты сочинил для меня историю России и там.
Дура.
Ты всегда говоришь, что я дура, но рецензент.
Мерзавец.
Уважаемый господин редактор, хотя и не в обычае, чтоб беллетристы вступали в объяснения со своими критиками, но.
Во-первых, г. рецензент приписывает мне такие намерения, в связи с, он обличает меня в недостаточном знакомстве, ошибках в хронологии, а также что я много пропустил: где Пугачев, где сенат, в котором не нашлось географической карты России, где много других происшествий, перечисление которых приносит честь рецензенту, но в то же время не представляет и особенной трудности при содействии изданий гг. Бартенева и Семевского.