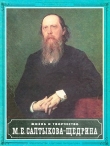Текст книги "Сны под снегом (Повесть о жизни Михаила Салтыкова-Щедрина)"
Автор книги: Виктор Ворошильский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
А этот старый господин, желчный и больной, которому принадлежат только его собственные страдания, повсюду те же самые – этот господин, что уже почти год скитается по заграницам, чтобы убежать – от чего? от боли? от предназначенной ему судьбы? от любезного отечества? – но убежать не умеет и остается с ними, среди шума самой чудесной столицы, среди дерзкого ритма канкана и свиста гаврошей – желчный и больной – а, ведь это я, кто же меня не узнает?
Плох ты, братец, ей-богу плох, айайай! как тебе не стыдно, братец, огорчать любящую семью?
Отойди прочь, Иуда, кровопийца!
С кем ты разговаривал, Мишель? Я так испугалась, какие-то голоса в коридоре слышала.
Тебе показалось.
Дорогой Николай Алексеевич, поощряемый вашим мнением о прошлой главе, принимаюсь за окончание Иудушки.
Не знаю точно, что получится, но представляю себе, что все вокруг поумирали и никто не хочет поселиться с Иудушкой, в ужасе перед наполняющей его гнилью.
Мишель, пришли газеты из России.
А, этот суворинский листок.
Как нам сообщили, князь Горчаков, канцлер Империи, находился в Баден-Бадене, куда в то же время привезли тяжело больного М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Когда больной начал поправляться и уже совершал прогулки в кресле на колесах, канцлер, который не был лично с ним знаком, подошел к сатирику, протянул ему руку и сказал: «Да будет мне позволено как русскому выразить радость по поводу выздоровления выдающегося писателя и от всего сердца пожать ему руку».
Свиньи, бесстыдные свиньи!
Снова статью вырезали из номера.
Радость по поводу выздоровления выдающегося.
За окном – веселые cris de Paris.
Чувствую себя в положении той проститутки, которая говорила: хорошо бы было пожить немного, как другие.
Я тоже хотел бы пожить, как другие.
Врачи нашли у меня четыре болезни неизлечимые, второстепенных не считая.
Николай Алексеевич, вы отравляете, кто знает, возможно, последние дни моей жизни.
Вы превосходно знаете, что мне причитается эта сумма.
Когда подумаю, что русское землячество должно будет объявить сбор пожертвований для возвращения моей семьи домой.
Прошу, отдайте эти деньги.
Впрочем, не могу принять на себя обязательство, что наверняка умру.
Если же не умру, прошу простить.
52
Некрасов умирает раньше меня.
Силился ускользнуть, Рим, Крым, потом уже только из одной комнаты в другую, с кровати в кресло, с кресла к стене, встает, становится на колени, ложится, снова встает, а боль за ним, а за болью смерть, и еще неразлучный спутник смерти: друзья, которые давно перестали быть друзьями, теперь же хотят исправить, отменить, стереть то, что их рассорило, прибывший из Франции Тургенев протягивает руку (мне казалось, напишет впоследствии, что между нами встала высокая, тихая, белая женщина, и она-то соединила наши руки, и навсегда помирила), Достоевский, тяжело дыша, с гримасой на бледных губах, поднимается по крутой лестнице (было мгновенье, напишет он, когда я понял этого загадочного человека, его сердце, раненное у порога жизни, и эта никогда не зажившая рана была, однако, началом и источником всей его страстной, мученической поэзии), и такие приходят, которые никогда не были друзьями, и не могли ими быть, лишь теперь им дозволено гордо встать в сиянии его бессильной славы, и такие, которые превыше всего хотят знать, скрупулезные исследователи, лишь бы успеть, это так важно – история, еще, Николай Алексеевич, один вопрос, а он всех принимает и заплетающимся языком что-то говорит, исповедуется в грешной жизни, желая обмануть и смягчить последнего цензора – смерть, последнего цензора, более снисходительного, чем он думает.
Облегчения, облегчения!
Нет облегчения от страданий.
Как большой осенний комар, еле шевелящий ногами.
Еще сочиняет стихи, обрывающиеся, мучительные, обрывки стихов.
Двести уж дней, двести ночей муки мои продолжаются; ночью и днем в сердце твоем стоны мои отзываются. Двести уж дней, двести ночей! Темные зимние дни, ясные зимние ночи… Зина! Закрой утомленные очи! Зина, усни!
Зина не засыпает, бдит с глазами, устремленными в колеблющуюся свечу, ревнивая к привилегии страдать вместе с ним, которую вырвать у нее хочет та, вторая, Анна, сестра умирающего.
Анна избегает смотреть на нее, приблудницу, любовницу, для позорных утех сюда приведенную, ложе наслаждений превратилось в ложе страданий, так чего ей тут еще надо, пусть уйдет, откуда пришла.
Не уйдет.
Она его любит, она одна действительно его любит.
Так они бодрствуют и при каждом стоне вскакивают обе, скорей, скорей, которая первая подбежит к постели, помощь окажет.
Священника.
Как это, уже, уже.
Еще нет.
Рыжий поп в суматохе бормочет: и раб Божий Николай, епитрахилью вяжет исхудалую, трупную руку жениха и трепещущую, прозрачную невесты, после чего с головой в плечах трусцой выскальзывает из спальни.
Я свидетель этой церемонии.
Анна отводит взгляд.
Колеблются свечи.
Коленопреклоненная Зина целует свисающую с кровати руку.
Некрасов что-то говорит.
Я наклоняюсь, чтобы лучше понять его.
Шампанского.
Шампанского выпейте на моей свадьбе.
Мы пьем шампанское.
Зина давится и плачет.
У нее темное стянутое лицо старой крестьянки.
53
Среди других известный писатель г. Достоевский, а также от имени учащейся молодежи г. Плеханов.
Груда смерзшейся земли на гроб, цветы, речи, сегодня мы хороним поэта, возможно, равного Пушкину, большего, большего, снег валит все гуще, засыпая цветы и гроб, равного – я сказал, в карты мог трое суток без перерыва, неугомонный Некрасов, почтим покойного приятным для него образом.
С Новым годом, с новым счастьем.
Имею честь покорно просить Главное Управление по Делам Печати об утверждении меня на посту ответственного редактора, действительный статский советник.
А когда он писал, чуть ли не в судорогах метался по дивану.
Я его знал лучше других и знаю, что в своей поразительной жизни он сделал больше хорошего, чем плохого.
Фальши я в нем не видел.
Жил в ярме и умер в ярме.
За месяц до смерти цензура конфисковала его самую замечательную поэму.
Поэму о крепостничестве, столько лет после отмены крепостного права.
Через месяц после его смерти цензура не пропустила последние стихи.
Конфисковала память о страдающем сердце.
Только гиенам дозволено лаять о его падениях. Предсмертные признания, записанные нашим, продолжение следует.
Все остальное засыпал снег.
Продолжения не последует.
Михаил Евграфович, поздравляю с утверждением на посту. Премного благодарен.
В передних цензуры жду решения о задержанных произведениях.
Из кабинета доносится однообразное жужжание.
Дураки вашу статью читают, бросает проходя какой-то доброжелательный цензор.
А стихи?
Пожимает плечами и исчезает.
Наконец появляется Самый главный: надутый, грозный. Вы слышали? Девушка в генерала Трепова стреляла.
Да?
Вы себе, господа, пишете, а потом.
Некрасов уже ничего не напишет.
Кто знает, кто знает.
Но номер надо заполнить каким-то мусором из запаса.
С Новым годом, дрожайшие читатели, с новым, поистине, счастьем.
54
Стало быть не из того путешествия, но из более позднего, мой приятель Лорис-Меликов.
И не тот, ворочающий государством: изгнанник, лишенный власти.
Очень милый человек.
Политики, лишенные власти – это самые милые люди под солнцем.
Рядом с нами поселился в Висбадене, детям носит сласти, а мне – новости.
При этом однако оглядывается: шесть шпиков, объясняет шепотом, за спиной несут службу.
Уже наверняка донесли, что я с вами встречаюсь.
Что, донесли? Восхитительно.
Но возможно это ради острой приправы; для ознобчика, о котором он тосковал; вот я, вчерашний диктатор России, пренебрегая опасностью, ныне с Салтыковым заговорами занимаюсь, сквозь строй иуд прохожу с поднятой головой; сановный ореол сменил на героический.
Впрочем, в самом деле, очень милый.
Только от его новостей мурашки по коже.
В Петербурге создана Священная дружина, с Великим Князем Владимиром во главе.
При свете дня, в звоне шпор, в речей прокурорском пафосе – революцию не обуздают; с кинжалом и петлей сходят в подполье; в темноте будут наносить удары, наемного убийцы татуированной рукой.
Но, граф.
Железнодорожный чиновник Витте на подлом замысле сделал карьеру.
За границей у них тоже есть агенты и жертвы уже высмотрены.
Je vous attends au pied des Alpes – Рошфору наемный дуэлянт.
Ибо французский журналист осудил экзекуции в России; уговорил Виктора Гюго написать воззвание; получит за свое.
Но граф, надо.
Именно для этого, Михаил Евграфович.
Может совсем не для этого.
Может хочет выведать мои контакты, а когда снова придет к власти.
Дорогой доктор (в Швейцарию пишу, адресат: Белоголовый), вы, кажется, не уделили надлежащего внимания моему предыдущему письму.
Я бы не возвращался к этому делу, если бы.
Надо что-то предпринять.
Если бы можно было предостеречь Рошфора и Кропоткина.
Может тревогу поднять в европейской печати.
Лишь бы не догадались об источниках.
Не скрываю, боюсь.
Но если не предотвратить замышляемые убийства.
Когда все разъезжаются, на курорте – тишина.
Лорис-Меликов поехал дальше, а шесть косолапых теней за ним.
Уже и нам скоро в путь.
Вы читали эту английскую газету?
Не знаю языка.
Тут пишут, что в Петербурге.
Для меня вечер уже слишком холоден, очень прошу извинить меня, господа.
55
Под заглавием: старость.
Я очень благодарен и рад, дорогой Павел Васильевич, что вы решили навестить меня в Висбадене, потому что я двинуться отсюда не могу, а повидать вас это для меня.
Павел Васильевич!
Кого вы там ищете на той стороне улицы?
На мой балкон обращает блуждающий взгляд: искал вас в девятом номере, но вы там не живете.
Я же писал, что живу в восьмом. Ну, идите же.
Нет, нет, в девятом сказали, чтобы я спросил у священника.
Ну идите же, Павел Васильевич, мы уже два часа ждем.
А да, да, потому что слишком рано.
Что?
Я слишком рано вышел из поезда и вынужден был весь остаток пути на извозчике, двенадцать марок содрал с меня этот негодяй.
Ну, так поднимайтесь наверх.
Нет, нет сперва к священнику, этак уж верней всего.
И повернувшись как заводная куколка, и волоча ноги, и сопя, взбирается вверх, в сторону, где солнечным сиянием бьют золотые луковицы церкви.
Забывая о собственной немощи, сбегаю по лестнице, Анненкова догоняю: но, дорогой, что вы устраиваете! – и взяв под руку, поворачиваю к пансиону.
А бумаги Тургенева, стараюсь отвлечь его на ходу, те, что вам передала Виардо, в каком состоянии?
Он идет за мной, безвольный, погруженный в странное оцепенение, на вопрос о бумагах Тургенева не отвечает, только тяжело сопит, а на лестнице моего пансиона еще раз настойчиво: однако, если бы у попа спросить, я был бы уверенней.
56
Михайловский, а как вы думаете, может это и в самом деле – мы?
Что такое, Михаил Евграфович?
Ну – все.
Находящийся под следствием политический заключенный Боголюбов не снял шапки перед генерал-адъютантом Треповым, шефом петербургской полиции.
По приказу генерала арестанта высекли.
Двадцатилетняя Вера Засулич, которую в свое время продержали два года в крепости за связь с Нечаевым, после чего административно выслали, выстрелила в Трепова, промахнулась и была задержана.
Два прокурора, согласившиеся поддерживать обвинение при условии, что им можно будет публично осудить методы шефа полиции, были сняты с занимаемых постов.
Защитник обвиняемой посвятил значительную часть своей речи официально отмененному праву кнута.
Скамья присяжных признала Засулич невиновной.
Как вы думаете, Михайловский, это мы?
Что, Михаил Евграфович?
То, что Россия наконец осмелилась прошептать: хватит.
Хватит с нее кнута, плетки, розог, изболевшееся тело шестой части шара извивается от боли и отвращения, кулаки сжимаются от ненависти к вельможным палачам, уже хватит, хватит, пусть поймут, что хватит.
Девушка промахнулась, у двадцатилетней дрогнула рука, но если бы случилось иначе.
Михайловский гладит свою густую бороду.
Не подлежит сомнению, что роль передовой личности.
Оставьте, я смеюсь, снова ваши теории.
Я люблю этого серьезного юношу.
С согласия Елисеева, все продолжающего лечиться за границей, я, после смерти Некрасова, взял в нашу редакцию Михайловского в качестве третьего компаньона.
Он разумный и усидчивый, несколько аскетичный, напоминает тех из шестидесятых годов; но более мягкий, менее скорый к осуждению; хотя побочных соображений не знает и умеет, глядя прямо в глаза через профессорское пенсне, говорить, когда убежден в своей правоте, жестокие вещи; когда наш бывший сотрудник, Буренин, опубликовал на меня донос в продажной газетенке, Михайловский, с полнейшей невозмутимостью назвал его клопом; как он мог, изумлялся Анненков, конечно это справедливо, но как он мог так написать; в свою очередь Михайловский не понимал чему тот изумляется; раз справедливо, так чего тут рассуждать; впрочем с ним редко случаются подобные выходки; он охотней пребывает в сфере социологии, формулы прогресса продумывает, над сложной и простой кооперацией морщит высокий лоб.
Это не теории, Михаил Евграфович. В обществе, опирающемся на уродующее личность разделение труда, борьба за индивидуальность.
А если эти ваши индивидуальности начнут пожирать друг друга. Разуваев это тоже индивидуальность.
Я люблю Михайловского, но вынужден ему противоречить; я его понимаю, но расстояние между нами с годами не уменьшается; старость ли это моя желчная и немощь затрудняет сближение; или его аскетизм; однажды он зашел ко мне, когда я как раз винтил с гостями; да нет, не осуждал, только не умел; это слишком сложно для меня, Михаил Евграфович; я понял – это не стоит труда; с тех пор он избегает навещать меня, все дела предпочитает улаживать в редакции; пусть так оно и будет, я не настаиваю.
Но по редакции то и дело снуют передовые личности, к нему по делам; статьи о крестьянской общине украшают почти что каждый номер; чахоточники в сапогах приходят за благословением, идут в народ, чтобы просвещать его и отведать постной похлебки; после чего выданные волостной полиции, возвращаются по этапу; в статьях нахожу новые нотки, из которых вижу – передовые личности будут стрелять; не успел я оглянуться, как наш журнал стал органом партии; партии, которая нажимает на курок.
Михайловский, вы думаете, что Россия может себе позволить эту гекатомбу?
Посылать цвет молодежи на каторгу и виселицу – не чрезмерная ли роскошь?
Вы сами говорили, Михаил Евграфович, что хватит с России смирения, следовательно.
Говорил, говорил, но мы, но я, что мы можем, и, наконец, кто нам дал право.
Вы, Михаил Евграфович, являетесь знаменем этих молодых людей.
Передовых личностей, не так ли?
Вы сами передовая личность.
Чересчур любезно, чересчур любезно, в самом деле.
А право нам дала история, идущая к.
57
Уже не Тверь.
Уже не Тверь, не медовые месяцы, не нежность, уже не будет иначе; молчи, дура; хоть бы ты, наконец, умер.
Умру, не беспокойся, умру.
Дорогой доктор, она меня уже давно ненавидит, вы сами наблюдали в Висбадене, но с тех пор, как.
Я на тринадцать лет старше ее.
Я стар, болен и пишу желчные сказки, которых Лиза не любит.
Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: заинька! остановись, миленький! А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: за то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть… ха-ха… я тебя и помилую!
Лиза не любит.
Что за сказки: вечно там кто-то кого-то пожирает.
Лиза любит наряды, большой свет, красноречивых дамских угодников, которых я ненавижу.
Кто из них будет моим Дантесом?
Златоуст Танеев?
Все Танеевы дураки.
Этот не дурак, но зато – мерзавец.
Очень приятное исключение.
Я – дурак.
Как я мог гувернантку Танеевых, эту гиену, эту Зою Борисовну, эту сводню.
Пришла почта, ваше благородие.
Почта.
Ну да.
Салтыков, настоящим принимаем Вас в кавалеры светлейшего Ордена Рогоносцев.
Не вскрою, порву не распечатывая.
Должен открыть.
Мы, студенты Земледельческого и Лесного Института в Новой Александрии (люблинской губернии), просим Вас, Милостивый Государь, принять от нас пожелания скорого выздоровления, ибо здоровье Ваше, столь дорого нам и всей читающей молодежи.
Я ошибся, еще нет.
До следующей почты.
До следующего бинокля в театре, стука у дверей, двусмысленной улыбки при проходе.
Убью его.
Нет, он меня убьет.
Нет, Лиза сама.
Убивает меня исподволь, но неотвратимо.
Может это не Танеев?
Может мой лицемерный приятель, жирный Лихачев.
Я видел, как проходя он коснулся рукой плеча Елизаветы. Мне показалось.
Болят глаза и зрение все хуже.
Не пущу Лихачева на порог.
Ой!
Что там снова, черт побери!
Попугай выскочил из клетки и клюнул Зою Борисовну в губы.
В губы? Вот так штука!
Как вы можете смеяться, Михаил Евграфович!
У тебя нет сердца, Мишель.
У вас, у вас есть сердце.
У вас.
58
Утешения искать в истории.
Ведь знал же я эти светлые личности, для которых история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире; все более великолепным воплощением идеала. Для этих людей идеалы были реальней самой реальности.
Они стояли у них перед глазами, их можно было осязать алчущими руками, и никакие уколы неумолимой действительности не в силах поколебать в них эту блаженную уверенность.
Это люди святые, но что общего с их историческими взлетами имеет обыкновенный, средний человек?
Сей герой относительного добра, относительного счастья и относительной правды, немного требует от жизни; мирится с тем, что возможно; за синоним счастья охотно признает удобство.
Его идеалы не слишком возвышенны, а в случае нужды он готов пойти на компромисс: только не добивайте до конца!
Понятно, для этого человека утешения, преподаваемые историей, не кажутся чересчур очевидными.
Он даже готов поверить в историческую победу добра, но процесс нарастания правды нередко кажется ему равносильным процессу сдирания кожи с живого организма.
Самоотверженность не в нравах среднего человека, да ведь она и не обязательна.
Оправдываясь, он непрочь сослаться на ненормальность самоотверженности вообще – и в принципе будет, пожалуй, прав.
И хоть ему можно возразить на это, что в ненормальной обстановке только ненормальные явления и могут быть нормальными – но ведь это уж порочный круг.
Средний человек не наделен ни будущим, ни прошедшим; он всеми своими помыслами прикован к настоящему и от него одного ждет охранной грамоты на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование.
Программа его скромна и имеет очень мало соприкосновения с блеском и полнотою исторических утешений.
А история, несмотря ни на что, существует.
Существует борьба добра со злом, правды с ложью.
Существует в этой борьбе добро и зло, правда и ложь живут одновременно и рядом.
Только правда никогда не кажется завершившейся, не может быть завершившейся, сама себя ищет и подчас ошибается.
А ложь, какой бы она ни была, попросту бьет – и удары ее без конца падают на среднего человека.
Есть поколения, которые не знали ничего, кроме этих ударов.
Что же тогда остается?
Искать утешения в истории.
59
Милостивый государь, возможно, что это с нашей стороны чрезмерная осторожность, прошу поверить для нас же самих невыразимо печальная, но при нынешнем состоянии славянского вопроса, наблюдая отношение к нему общества, особенно же настроение цензуры, мы не можем.
Ваши взгляды нам чрезвычайно близки, однако накануне интервенции и учитывая ту роль, которую правительство намерено тут сыграть, попытка опубликования повлекла бы несомненно.
Надеюсь, что вы захотите понять и простить.
Еще чего, даже не подумает!
Автор пишет и какое ему дело до наших страхов: он хочет печатать, раз написал – и кто тут мелочен? автор? редактор? публика?
Солдатскими портянками история затыкает нам рты.
Публика кричит ура в честь черногорцев и сербов, кондотьера Черняева называет Гарибальди; цыганский хор с чувством исполняет «Kde domov moj»; миссия по отношению к угнетенным славянам; ребята Черняева грабят белградские магазины; публицисты апеллируют к властям, чтобы они занялись проливами; на Шипке снег; мы очень, очень любим славян – особенно за пределами Империи; даже Елисеев, хоть в Париже новый цилиндр купил, не может удержаться и кричит: ура; четыре дня на побоище; вольноопределяющийся Гаршин, войной сделанный писателем; неосторожный поэт Жемчужников; а я.
Вы хитрец, Михаил Евграфович, градоначальника изобразили, что развлекался изданием законов: настоящим возбраняется делать пироги из грязи, глины и строительных материалов; а цензура пропустила намек.
Да ведь я его выдумал.
Выдумали, выдумали, а тут смотри – в самом деле губернаторам разрешили издавать законы; хитрец; вот вы и пропали – это взятка моя; время теперь военное, ничего не поделаешь.
В ознаменование победы – императорских милостей изобилие; даже нашей редакции старое предостережение сняли; начинается время надежд.
Государь, дай верному народу своему то, что ты даровал болгарам – с адресами к царю обращаются либералы.
Конституцию имеют в виду.
Царь не торопится.
Тайные союзы не верят в облегчение, на Государя охотятся; снова неудачный выстрел; поезд взлетел на воздух, однако не царский; наконец взрыв в столовой, но Александр уже отобедал.
Несмотря на это, облегчения наступят (несмотря на это, или же именно поэтому?); первый человек в государстве, Лорис-Меликов, вводит диктатуру сердца; главным образом в сладких речах (лисий хвост и волчья пасть, издевается Михайловский), но не только; распускается III Отделение (министерство внутренних дел примет на себя его функции); Дмитрий Толстой, мой товарищ по Лицею и министр общественного затемнения, остается не у дел; дают немного вздохнуть земствам и немного печати.
Поговаривают даже об упразднении цензуры; и что же я тогда буду делать; она как-никак сформировала мой язык; вместо слов-заменителей придется мне на старости лет искать настоящих?
Можно не опасаться, ах, можно не опасаться.
Лорис-Меликов редакторов созывает: что вы опять устраиваете?
Ради дешевой популярности общественное мнение будоражить?
Не позволю.
Может, вы бы соблаговолили, ваше превосходительство.
Не позволю. С такими идеями не только журналы издавать – в России жить не положено.
Конференция окончена.
Говорят, что он принужден так; твердолобые его подсиживают, так он, чтобы спасти либерализм, должен быть твердолобым.
Либеральные зайцы прядут ушами: может еще, кто знает.
Надежды цветут.
В такие минуты, убеждают цензоры, в такие минуты, Михаил Евграфович, такую статью. Когда готовится почти полная свобода. Кто знает, может через два месяца пропустим не моргнув глазом.
Первого марта 1881 года бледный юноша Рысаков бросает бомбу в испуганных коней. Царь выходит из кареты: спасен, благодаря Всевышнему! – Еще нет, Ваше Величество! – Гриневицкий распахивает полы шинели, вторая бомба с грохотом взрывается у царских ног.
Александр умирает.
Гриневицкий тоже.
Рысакова берут на муки.
В Государственном Совете обер-прокурор Синода, Победоносцев, о преступных ошибках рассуждает.
Это реформы убитого монарха были преступной ошибкой.
Новый царь, ученик Победоносцева, внимательно слушает.
Лорис-Меликов вынужден уйти.
Мой почтенный товарищ возвращается.
Не кротким гимназистам – всей России велит стоять на горохе.
На потеху черни: евреи.
На этот раз не студенты (хотя они все еще остаются под подозрением), не поляки (тоже мало хорошего): евреи всех бед причина.
Катков поощряет погромы.
Он снова величайшая сила; разговаривая с ним, Феоктистов присаживается на краешек кресла, чтобы вскочить первым, когда тот встанет; в его губы всматривается, только: разумеется – вставляет; Феоктистов, Главного Управления по Печати всемогущий начальник.
В редакции поступает указание: об арестах ни гу-гу, чтобы не будоражить общественное мнение.
60
Вы написали очень забавный рассказ.
Да, очень забавный.
Может напишу еще более забавный, о паршивом.
Чернышевский или Петрашевский, все равно.
Среди снегов сидит беспрестанно день, день, день, а потом беспрестанно ночь, ночь, ночь.
А мимо него примиренные декабристы и петрашевцы в санях с колокольчиками проезжают на родину, «Боже, царя храни» веселенько с присвистом напевают.
И все ему говорят: стыдно, сударь, у нас царь такой добрый, а вы что!
Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался он равнодушным ко всем надругательствам и продолжает жить той же работой, той же страстью, что и раньше.
Ведь у него нет ничего кроме этого.
Каждое утро возобновляет работу, думает, пишет, и каждый день становой пристав по приказанию начальства отнимает эту работу.
Но паршивый знает, что так должно быть.
До всех трагизмов он умом дошел и на собственное бессилие тоже не обижается.
Сидит в снежной клетке и делает свое.
Беспрестанно день, день, день, потом беспрестанно ночь, ночь, ночь.
И раз за разом колокольчики сквозь пургу: а вы неисправимы, как стыдно, сударь.
Забавная история, может быть когда-нибудь напишу ее.
61
Умирающий Некрасов каялся, что в юношеских произведениях он с чрезмерной горечью и беспощадностью писал о своем отце.
Отец был помещиком, крепостником, сын – поэтом, певцом свободы.
Но эту пропасть между отцом и сыном неужели ее прорыло только время?
Кем же иным мог быть этот отец?
Громя позорный закон, который сделал его таким, надо ли было также клеймить человека и отрекаться от него с презрением и гневом?
Некрасов сожалел, что так случилось.
А я?
Я ведь с не меньшей жестокостью собственную изобразил семью, высмеял праздных родственников, осудил братьев-хищников, в шутовской колпак нарядил отца и самой маменьке не спустил.
Но я не каюсь.
Иначе не могло быть.
Они принадлежали миру, который я не мог принять.
Помилуйте! шестьдесят рублей за девку? шутите, благодетель!
Их нынче по сорок рублей за штуку – сколько угодно.
Вы ее за вдовца за детного отдадите. Что мне девушку несчастной делать?
Пять рубликов так и быть прибавлю, но это последнее слово.
Хоть и дешевенько да для соседа сделаю. Если бы кто другой просил, никогда бы не продала.
Вот язык, которым изъяснялся тот мир.
Они принадлежали к нему.
Отцы и дети – это не те сентиментальные добряки и ранящие их чувства самоуверенные студенты, которых описал Тургенев.
Старые добряки нанесли студентам раны куда более жестокие.
Отцы и дети – это мы.
Они выросли в мерзости, руководствуясь ею с гордо поднятой головой и нас старались потянуть за собой, карамелькой и розгой приучить к рабству и к владению рабами.
Нас – которые возненавидели рабство.
Что с того, что время вырыло пропасть, раз зловещий облик времени носил черты наших самых близких.
Могли ли мы не отождествлять их со временем и, клеймя закон, щадить людей.
Каждый может простить каждому, только не дети родителям.
Некрасов знал об этом, но умирая забыл и сожалел о грехах.
Я не сожалею.
Моя память простирается далеко.
Моя память начинается с минуты, когда двухлетнего самое большее, стегают, засучив рубашку, розгой, а немка, гувернантка старших братьев, с криком «er ist doch zu klein» бросается, чтобы защитить меня.
И другая минута – может впрочем более ранняя, чем та – когда в отцовском кабинете я сижу на коленях маменьки, мы пьем чай из одной чашки, маменька молода, красива и нежна со мной, так мне с ней уютно и благостно, и вдруг в эту идиллию врывается из-за окна чей-то нечеловеческий вой.
Охваченный ужасом, я скатываюсь на ковер, крепко зажимаю глаза и затыкаю уши, но еще слышу властный, резкий голос матери, совсем другой, чем тот, каким она только что дразнилась со мной: заберите эту девку куда-нибудь подальше, и всыпьте ей.
Эти два воспоминания – это начало всего.
И первое, когда били меня, менее мучительно – я его ощущал всего лишь как неприятность, не как обиду – чем второе, когда по приказу маменьки истязали девушку.
Иначе быть не могло, но разве поэтому я должен примириться с тем, что было?
У нас тоже есть дети.
Кто сможет догадаться, какие мы им наносим раны?
62
Известность мне принесла книга, лишенная формы.
После книги, для которой я нашел форму, ко мне повернулись спиной.
Иудушка понравился: так бывает.
Сам Гончаров похвалил в письме: я тоже знал одного такого, в конце крестьяне вспороли ему брюхо.
Мне очень приятно.
Теперь, продолжал он, буду ждать с нетерпением появления его особой книгой – это поможет читателю среди других ваших произведений, посвященных преходящим вопросам, выделить.
Читатель.
Если бы так, вместо бесплодной писанины, наплевать ему в глаза.
Надоело.
Нет, батенька, сиди, живую форму придумывай, чтобы дурака рассмешить, а проходимца не слишком задеть.
Затем – не понимают и не хотят читать.
Современная идиллия.
Эпиграф: Спите! Бог не спит за вас (из Жуковского).
Приключения двух приятелей (об одном пишу «я»), которые решили погодить.
Погодить, переждать, воздержаться, не попустительствовать; разве мы до сих пор попустительствовали? стало быть, надо воздержаться основательнее.
Милостивый государь, я благодарен за благосклонную рецензию, которая для меня тем ценнее ныне, когда большинство журналов.
Не понимаю только, почему рецензент назвал эту повесть циклом.
Современная идиллия является единым целым, основывающемся на одной идейной линии, которая.
Мои герои, руководимые инстинктом самосохранения, пришли к выводу, что исключительно преступные действия могут уберечь человека от подозрения в, и из этого и проистекают их поступки.
Произведение имеет и начало и конец, если же конец кажется необычным – на сцене появляется Стыд – то во всяком случае он не менее естественен, чем брак или монастырь, заканчивающие другие повести.
На сцене появляется Стыд.
Я и мой приятель не спрашивали себя, что такое Стыд, а только чувствовали присутствие его – и в нас самих, и вокруг нас. Стыд написан был на лицах наших, так что прохожие в изумлении вглядывались в нас.
Что было дальше? к какому мы пришли выводу? – пусть догадываются сами читатели. Говорят, что Стыд очищает людей, – и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что Стыд воспитывает и побеждает, – я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс Бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность… и уклоняюсь от ответа.
И в самом деле, что это за конец.
Снова один Тургенев поймет или из вежливости сделает вид.
Пора уже перестать вертеть эту шарманку, которую никто не слушает.
63
Вдруг из старой книжки, наполовину забытой, возникают, не моего романа.