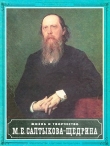Текст книги "Сны под снегом (Повесть о жизни Михаила Салтыкова-Щедрина)"
Автор книги: Виктор Ворошильский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Тут на половине фразы конструкция должна со скрежетом застопориться и вдруг необходимо расстаться с ней, ломая ее вопреки обещанному закону этой книги.
По правде сказать, это досадная, но неизбежная мера, ибо Салтыков не может видеть тех грозных линий, которые сам царь, разрывая карандашом бумагу, вдоль страницы чертит, ни видеть, ни узнать ниоткуда не может, а злобные эти линии тем временем будут удлиняться и раздуваться, пока не в столь отдаленном будущем достигнут неблагонадежной редакции и окрестятся над ней безжалостным иксом приговора.
Салтыков не знает, но на этот раз автор не сумеет тоже не знать.
Он ломает конструкцию, отделяется от героя, проникает в обветшалые стены учреждений и тщательно охраняемые двухстворчатые двери императорского дворца, снует тайными переходами, сидит в засаде в оконных нишах и за спинками кресел, чтобы успеть по очереди подсмотреть каждого из участников интриги, заглянуть им в лицо, расшифровать движение пишущей руки.
Вытаращенные в испуге глаза цензора, который прозевал.
Раздутые бдительностью ноздри чиновника III Отделения, который составил рапорт.
Рука царя, поросшая рыжими волосками, спазматически сжимающая карандаш, словно неуверенная, сумеет ли свободно управлять столь хрупким орудием.
Значит, в самом деле за это?
Автору столь любопытен этот банальный вид и он настолько уверен, что читатель разделит его любопытство – что он не остановился перед нарушением создаваемой до сих пор иллюзии внутреннего участия, с которой велел сжиться и читателю и сам сжился с нею до такой степени, что подобный разрыв с ней оказался столь трудным?
Именно так: более сомнительна необходимость изменения перспективы, содержащаяся в самом рассказе, чем желание автора хоть не надолго поломать игрушку.
Ему надоело слишком уж полное и продолжительное вписывание себя в образ, которым ведь он сам не был и не является, он ощутил страх, что перестанет существовать в собственной конструкции, сверх желания и необходимости отождествленный с героем, лишенный своей обособленности, бесповоротно застрявший в созданной собой ловушке приема – так что в середине книги он восстает против последствий литературного замысла.
Через минуту он откажется от бунта и уже до конца позволит управлять принятому в самом начале закону.
Но сейчас – хотя бы ценой диссонанса и нарушения конструкции – он должен перевести дыхание, утраченное вместе с задыхающимся героем, отдалиться от русского писателя, увидеть его извне, а кроме него – тех, впрочем столь незначительных, как чиновник, цензор и царь Всея Руси.
Итак царь.
Это тот самый, Александр II Освободитель, воспитанник романтического поэта, который внушил ему.
Я счастлив, поручая Салтыкову.
Чувство благородства, над сломанным крылышком птенца слезы лил, сочувствовал крестьянам и каторжникам.
Должно было быть совсем иначе, чем при Николае.
Цепенеющий при каждом шорохе, постаревший и обрюзгший.
Рука, поросшая рыжими волосками, выпускает карандаш, в раздражении барабанит по столу, снова хватает карандаш.
Царь пишет: министр внутренних дел пусть обратит на это внимание.
Министр Тимашев обращает внимание.
Царь читает: мы надеемся, что читатель просмотрев эти высказывания, согласится с нашим мнением, что они полностью, и к тому же с полной свободой, освещают не только сам факт, который явился предметом процесса, но также более отдаленные причины, которые.
Царь раздумывает некоторое время и пишет на полях: ирония.
Над головой язвителя и журналом, в котором он печатается, слуги подвешивают меч.
Обзор печати прошел, об анархии Салтыков пишет, ничего не зная о мече над головой.
Но болит голова.
Так называемые анархисты, с больной пишет головой (ах, неисправимый), никогда ведь не действовали с таким поразительным ожесточением, с каким всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобья наиболее непреклонные из приверженцев Коммуны.
Останавливается, осторожно подбирает эпитет, чтобы кто-нибудь не смог упрекнуть его в симпатиях к коммунарам. Не уничтожили с самого начала самые беспощадные. Чем наиболее безумные. Ожесточенные. Фанатичные. С начала беспорядков самые дикие сторонники Коммуны. Так наверняка пройдет – он доволен своей осторожностью.
А меч висит.
А голова болит.
Сердце стучит, расширяется, подступает к горлу.
Болят опухшие руки и ноги.
За границу, говорят врачи, как можно скорей за границу.
На тоненьком волоске, хотя его и не видно.
43
За границу, говорят врачи, на воздух и воды.
Как же так: за границу?
Ведь еще никогда.
Дорогой Павел Васильевич (это Анненкову), не были бы вы любезны подыскать для меня с семьей недорогую квартиру в Баден-Бадене.
Прошу простить мне эту просьбу, но зная вашу любезность.
Чувствую себя так, что охотно бы уже никуда не двинулся и дождался смерти в собственной кровати.
Но подохнуть, оставляя двух маленьких детей.
Лиза, ты пересчитала багаж?
Ну, сядем на минуту – и в путь.
Мишель, а если локомотив не тронется с места?
Хе-хе, милостивая государыня, видно не часто еще.
Можно не опасаться, тронется.
Ныне техника способна творить чудеса.
Да, да, но все же это как-то неуютно.
И уютно станет, когда человек самовар поставит.
А за границей – самовара, правда, не будет, но зато – сосиски с горчицей.
Слышишь, Мишель, у немцев продают сосиски.
Слышу.
Железная дорога это сейчас самое доходное дело. Раз Шмулик Поляков вкладывает капитал – знает, жидюга, что делает.
Его Величество графа Бобринского министром путей сообщения назначил.
А в последнем романе графа Толстого благородная дама гибнет под колесами поезда.
Ах, что вы говорите.
Лиза, жеманничая, позволяет пересказать себе гинекологический роман Толстого.
Чтобы не слушать, плотно запахиваюсь в шинель, закрываю глаза, стараюсь уснуть.
Сон не приходит.
Весь вагон наполнен гомоном счастливых русских вояжеров.
Их разговоры о богатстве лодзинского еврея и романе графа заглушают стук поезда.
Не предполагал, что такая толпа.
Пушкин никогда не получил паспорта.
Однако кое-что изменилось.
Может и в самом деле технический прогресс расширяет рамки свободы?
Только у нас каждое железное колесико встает на балласте из раздробленных человеческих костей.
Есть такое стихотворение Некрасова: призраки крестьян, погибших при строительстве железной дороги, окружают несущийся поезд.
В ночь эту лунную любо нам видеть свой труд! – слышишь угрюмое их пенье?.. Это наше творение! Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной.
С визгом и лязгом останавливается поезд, Лиза кричит: Ой, что случилось! – и театральным жестом хватает меня за руку.
Это граница, успокаивает ее усатый дамский угодник, тот что про Толстого, сразу видно, что сударыня.
Это граница, неожиданный испуг сжимает мне сердце, они войдут: Салтыков, куда?
Таких как вы.
Собирать манатки – и.
Смотри, Мишель, смотри!
Открываю глаза.
Что, что такое?
Смотри, какие хлеба!
Все толпятся у окошка, один отталкивает другого, окрики изумления испуская: какие хлеба! у нас таких сроду! у нас все саранча сожрала, а тут!
Теперь знаю, что меня пустили за границу.
Гомон как будто тот же, но тональность гомона – иная.
Никто уже не изумляется состоянию Полякова, карьере Бобринского, ни даже таланту Толстого.
La Russie, ха-ха-ха, le peuple russe, xa-xa-xa, les boyards russes.
Русские вояжеры захлебываются воздухом свободы.
А знаете, господа, наш рубль, ха-ха-ха, за пятьдесят копеек отдают.
А знаете, господа, у нас на прошлой неделе чиновники всю губернию растащили.
Ха-ха-ха.
И вдруг мне хочется крикнуть: неправда!
Хотя знаю, что это правда.
Хотя все, что пишу – об этом.
За окном пробегают богатые немецкие поля, немецкие дети в башмаках и штанах платочками машут, словно офицер выпячивает грудь аккуратный немецкий пейзаж. Лиза, давай вернемся!
Что ты сказал, Мишель?
Ничего, ничего.
Я тоже опасаюсь, что Анненков не нашел квартиры.
Но, милостивая государыня, в Баден-Бадене на вокзале ожидают комиссионеры, все превосходно устроят. Слышишь, Мишель, комиссионеры.
Ха-ха-ха, la Russie.
Слышу.
44
Родиной моей юности была Франция.
В Петербурге я и мои друзья существовали лишь фактически: ходили на службу, столовались в кухмистерских, от родителей из деревни получали письма, не скупящиеся на поучения и менее изобилующие деньгами.
Но духовно мы жили во Франции.
Разумеется не во Франции Гизо и Луи-Филиппа, но в стране Фурье, Сен-Симона, Луи Блана, особенно же обожаемой Жорж Санд, которая сквозь петербургские туманы, через границы заставляла наши сердца дрожать ожидающе и тревожно.
Россия была нереальной, сводилась к мрачному анекдоту: доктор Даль надумал издать сборник пословиц, стало быть– стало быть, ему утерли нос; на учебник арифметики в типографии наложили арест, потому что между цифрами какой-то задачи обнаружили ряд страшно подозрительных точек; загорелась палатка фокусника Леманна, полиция разогнала желающих тушить пожар, ибо право на это имеют лишь пожарные, а пожарные приехали уже после всего; пьяный рязанский помещик своих равно пьяных гостей передал в руки жандармов как опасных заговорщиков; да, нереальной и мертвой; без улыбки повторяли мы анекдоты и как можно скорей возвращались во Францию нашей мечты.
Там пульсировала жизнь, там будто все только начиналось, разрушалось, взрывалось, у нас там были друзья и враги, и те и другие не знали о нашем существовании, но мы их знали, мы принимали близко к сердцу поражение друзей и торжествовали, когда у врагов подворачивалась нога, ведь ничего не было заранее предрешено, все могло разыграться так или иначе, мы жили тем, что происходило в Париже.
Ни один из нас еще там не был.
Таким образом нас притягивали не бульвары, не уличные развлечения, ни даже незнакомый нам вкус barbue sauce Mornay.
Мы тосковали о великих принципах 1789 года и обо всем, что оттуда проистекало.
И абстракция эта была для нас единственной достойной внимания действительностью.
Однажды утром, на масляной 1848 года, я был в итальянской опере.
Алина тоже была там; она в ложе, я в партере; мне нельзя было подойти к ней и лишь изредка мне было дозволено окинуть ее не выдающим страсти взглядом; когда я смотрел на нее, я видел нежный овал ее лица, трогательную белизну плеч и рыжеватую прядь за маленьким ухом; всей силой воли я переводил взгляд в сторону сцены.
Много, лет спустя мне пришло в голову, что в Алине я любил не только прекрасную и недоступную женщину, но также – Францию, которую ее отец, военный инженер, покинул ради золотоносной службы царю.
Еще позже – что внучке отнюдь не санкюлотов, но тех, что до двухглавого орла присягали бурбонским лилиям, были чужды, если не прямо враждебны, мои стремления к Франции – к Франции иной.
В моей жене Елизавете также течет галльская кровь – по матери; отсюда ее необыкновенная красота.
И Елизавете также чуждо то, что мне ближе всего.
Но тогда, в опере, я естественно не предвидел этих мыслей.
Нежная музыка Россини доходила ко мне словно сквозь плюшевый занавес, в глазах стояла – даже когда я не смотрел на нее – Алина, я ни о чем не думал, мне было хорошо, как в детском сне под шумящими деревьями.
И вдруг меня кто-то толкнул.
Я увидел товарища по Военному Министерству (и по кружку Петрашевского), Ахшарумова.
Он кольнул меня черными блестящими глазами и вполголоса сказал: пало министерство Гизо.
Все вокруг закружилось.
Музыка зазвучала напористей, она уже не ласкала, но поднималась на баррикады, а с ней вместе – я и вся публика; да, мне казалось, что все так же, как я, возбуждены этим известием из Парижа, радуются и торжествуют; впрочем я, пожалуй, не слишком ошибался – в этом зале было много молодых патриотов Франции; так вот, сидя в креслах итальянской оперы, мы шли вперед под трехцветным знаменем; если и прежде мне было хорошо, теперь – я был пьян от счастья.
Я посмотрел наверх: Алина сидела, заслушавшись, в той же позе, что и раньше, не дрогнула даже рыжеватая прядь за маленьким ухом.
Она не знает, подумал я.
А хоть бы и знала – это добавляю я, брюзгливый, на четверть века старше – ничего бы не изменилось.
Тогда я не представлял себе, что кому-либо, а тем более Алине, может быть безразличным падение Гизо.
До конца спектакля пало уже и новое министерство Тьера.
Несколько дней спустя Франция стала республикой.
Пламенная Жорж Санд редактировала бюллетень, к членам правительства входила без пропуска, своей приятельнице Виардо (любимой впоследствии Тургеневым) велела сочинить новую Марсельезу, на слова Дюпона.
Если под коммунизмом, писала она, вы подразумеваете желание и волю, чтобы уже сегодня исчезло возмутительное неравенство крайнего богатства и крайней нищеты, уступив место рождающемуся подлинному равенству, тогда – да, мы коммунисты.
В те дни я несколько забросил Алину.
В петербургской повести соорудил пирамиду, вдохновленную Сен-Симоном.
Пирамида обрушилась на меня.
Два месяца спустя я подъехал в кибитке к крыльцу вятского губернатора.
Алина была далеко, Франция – еще дальше.
В течение восьми лет родина моей юности удалялась все больше, затягивалась туманом и умолкала.
Я еще тосковал о ней, пока в конце концов – перестал тосковать.
Наступила минута, когда реальной стала Россия.
Не перестала быть мрачным и тупым анекдотом, ноя – очутился внутри этого анекдота.
Россия стала анекдотом обо мне, так что не удастся поспешно повторить его и ускользнуть.
Вот ваш паспорт, Михаил Евграфович, поезжайте во Францию.
Благодарю.
Les voyageurs – dehors!
И Франция не та, и Михаил не тот.
Смотри, Мишель, какая на полицейском пелеринка.
Bonjour, Paris!
Чуточку поздно.
45
Вся Германия – это Берлин и лакейские города, курорты. Берлин – второразрядный разврат, нарочитая веселость и комплекс нуворишей.
Wir haben unsere eigenen gamins de Paris.
Берлин – это как Петербург в пять часов после обеда, когда голодные и злые чиновники, не оглядываясь спешат к разогретым щам.
Есть улицы, на улицах люди, но уличной жизни – тщетно было бы искать.
А ведь лишь она.
Основать университет, пригласить профессоров для комментирования совершившегося факта, построить музеи и оперы и памятники – для богатого и сильного начальства это пустяки.
Но скуку берлинскую какой декрет, какой гром победоносной артиллерии разогнать сумеет?
Дальше, Лиза, посчитать багаж – и дальше.
За Берлином, до самого живописного Рейна, тянется страна Тринкгельд.
Берущий Тринкгельд – продается с потрохами.
Жизнью тех, кто раздает Тринкгельд, управляет инстинкт физического самосохранения.
Думать, волноваться, помнить о прерванной дома работе – nicht kurgemaess.
Kurgemaess: тянуть Kraenchen через стеклянную трубку, любоваться schöne Ansicht, дамам кланяться на променаде.
Доктор, я уже третий стакан выпил.
Ходите, обменивайте вещества.
Доктор, вчера я получил письмо из России. У нас ведь знаете что?
Я бы особенным постановлением запретил писать из России курортникам. Ходите, обменивайте вещества!
Гуляют, кланяются, министр и шпион, кокотка и бесплодная миледи, обмен веществ и Тринкгельд; наплюю я на эти воды, отчаивается полуживой рязанский помещик, закачусь на целую ночь в Линденбах, Грете двадцать марок в зубы – скидывай, бестия, лишнюю одежду; завитой обер-кельнер с перстнем украшенным крупной бирюзой – das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt; и посередине я в кресле на колесиках; добрый день; добрый день, милостивая государыня; о, и князь тут; добрый день.
Павел Васильевич, как вы тут можете выдержать.
Чего не сделаешь для здоровья, Михаил Евграфович.
Анненков рядом со мной, хоть и опираясь на палку, но проворно перебирает ногами.
A propos, я получил последний номер, в самом деле превосходный.
Анненков, как обычно, хочет доставить собеседнику удовольствие.
Только откуда у вас взялся Достоевский?
А почему бы нет? Разве мы его когда-либо отлучали?
Но он вас; нас – поправляется Анненков, вспомнив, что он тоже прогрессивный.
А знаете, когда Некрасов предложил ему печататься, не прошло и недели, как прислал.
Впрочем я не в восторге.
Добрый день; добрый день, господа; добрый день.
С Елисеевым настоящая комедия, все путают его с купцом, носящим ту же фамилию и предлагают сделки, а в Эмсе, хозяйка никак не могла понять: такой знаменитый негоциант – и скупой, так что начала его преследовать, то постель даст не такую, то шум под дверьми устроит, а он.
Добрый день; добрый день, милостивая государыня.
Нет, нет, Павел Васильевич, я не выдержу.
46
Под немецкой периной сон бесцветный и плоский, но отчетливый – люди словно вырезанные из бумаги, и я из бумаги, только они все без глаз, я же их превосходно вижу, так что верно глазами, а то чем же еще?
И к тому же запах – не немецкий, скорей отечественный, наполовину хлев, наполовину московский трактир и губернское присутствие чуть-чуть примешивается.
Много людей, каждый что-то делает, один тесто катает, второй подметки прибивает, третий листья сгребает, четвертый у пятого из кармана бумажник вытаскивает, седьмой восьмого порет.
Так все спокойно, без крика.
Но вот что странно – у каждого голова высунута вперед, вперед и одновременно вниз; руки – свое, а голова – свое.
И полицейский так же: шагает по улице, палкой, как положено, по хребтам бьет, его голова же – вперед и книзу.
Может вы мне объясните, обращаюсь любезно, почему все – вперед и книзу.
Будто бы, ваше превосходительство не знает, что желуди в небе не растут, отвечает бумажным голосом полицейский.
Но как же вы так без глаз?
А носами, ваше благородие, носами.
И в доказательство, что нос у него работает, нагибается и зубами бумажный желудь хватает около моей ступни.
Слышен короткий хруст и кряхтение и полицейский идет дальше, палкой по хребтам колотит, с головой – вперед и книзу.
Догоняю его и за руку.
Следовательно никто никогда кверху и вбок, спрашиваю пораженный.
Ой, ваше благородие, с упреком говорит полицейский, разве ты не отрекся было от утопии, а теперь снова?
А может если бы вбок нагнуть голову, стараюсь соблазнить его, придорожной грушей бы пахнуло?
Если бы кверху – может жаренные рябцы сами в рот полетят.
Не накликай беды, ваше благородие, сурово говорит полицейский, не поднимая головы.
У нас народ утопию давно растоптал и растер, ты о грушах и рябцах не толкуй.
У нас спокойствие и порядок.
У нас как установилось, так и стоит.
И никому никогда не приходит в голову?
Никому, все более нетерпеливо отвечает полицейский.
И все желуди жрут.
Употребляют, а как же.
Ибо и нет ничего кроме желудей.
Все остальное – утопия.
Зачем же ты тогда лупишь по хребтам?
На это блюститель порядка уж вовсе не отвечает и двигается вперед.
А если бы я кликнул людей и провозгласил утопию?
Так мы тебе, ваше благородие, ручки к лопаткам и.
Прежде чем он фразу закончил, чувствую, что мне руки назад выкручивают и вяжут.
Утопия, начинаю кричать, вырываясь, да здравствует утопия! Без нее человечность свою утратите! Пусть хоть сто, хоть десять, хоть один из вас уверует в утопию, и тогда?
Но никто не обращает внимания на мои призывы.
Делают свое и с бумажными головами, без глаз, вперед и книзу вынюхивая, ищут желудей.
В выкрученных назад руках чувствую все усиливающуюся боль.
47
Меня огорчило, Николай Алексеевич, что вы жалуетесь на здоровье.
Не помешало бы и вам, пожалуй, глотнуть заграничного воздуха.
Что касается меня, то чувствую себя несколько лучше, особенно с тех пор, как я в Париже.
Париж чудесен.
Если бы у меня хватило сил, весь день шатался б по бульварам.
К сожалению.
Но был уже на Champs-Elysées, провел также восхитительный вечер в Vaudeville.
Что за актеры!
Столуемся в Diners de Paris, где за пять франков подают поразительный обед.
Правда, желудок не вполне слушается, а супруга моя прямо не выносит этой кухни.
Лиза, куда ты снова делась?
Покупки, вечные покупки, словно ей чего-то недостает, ведь у нее все есть, зачем столько покупок.
Париж чудесен.
Францией управляют капралы.
Сам Мак-Магон капрал.
A poigne в сладкой Франции.
Тут не говорят: нигилист, только коммунар.
Но делают с ними то же самое.
А в Национальном Собрании проходимцы по куску Францию сжирают.
Чужая страна, а сердце кровью обливается.
На улицу б не выходил, чтобы не смотреть на это.
На парижскую улицу?
Не выйти на парижскую улицу?
Туда, где солнце веселое и воздух веселый, и люди.
Где за столько лет впервые.
Я не в силах это произнести.
Боюсь, не сумею выдавить из себя.
Где за столько лет я впервые счастлив.
Я никогда не мог себе представить, чтобы человека могла охватывать радость при виде какой-то площади.
Но очутившись на Place de la Concorde поистине, убедился, что.
Это невероятно.
Самый угрюмый, самый одинокий и больной человек – и тот непременно отыщет доброе расположение духа, и такое сердечное благоволение, как только очутится на парижском бульваре.
Конечно – до тех пор, пока не встретит соотечественников.
На каждом шагу натыкаюсь на них.
В Café de l’Opéra блаженствующий Соллогуб: вы были в Баден-Бадене, как жаль, если бы я знал, я бы зашел засвидетельствовать почтение.
Ведь вы же меня видели на променаде и ждали, пока я первый поклонюсь.
Я, Михаил Евграфович? – словно пораженный.
Отворачиваю голову, а тут – Стасюлевич, как старая обложка, из которой вырвали книгу.
А вы все притворяетесь злым, смеется Тургенев.
Ведь вы же человек огромной доброты, ну, конечно же, наивный и добрый, а притворяетесь драконом.
Я – добрый? Только этого мне недоставало: добрый!
Тут по крайней мере, в Париже, вы бы, пожалуй, могли.
Мог бы, мог бы! Видно не могу. И зачем?
На завтраке у Тургенева знакомлюсь с французскими писателями.
Флобер – это мощь.
Золя – да, порядочный, но бедный и забитый.
Все остальные – импотенты и пустозвоны.
Альфред, потягиваясь утром в постели, вдруг вспомнил, что от Селины прошлой ночью пахло теми же духами, какими обыкновенно прыскается Жюль! Это обеспокоило его, особенно же, когда он осознал, что эту ночь провел не с Селиной, а с Клементиной.
Хапуга Стасюлевич романы Золя с рукописи переводит и еще нравоучения ему читает.
А вы тоже редактируете журнал?
Золя смотрит на меня глазами собаки жаждущей ласки.
Помогаю Некрасову.
Ааа. Так может быть вы – он заикается и краснеет – взяли бы у Тургенева мой адрес.
Весьма охотно, но однако раз Стасюлевич.
Да, да, бормочет Золя, конечно.
Он стесняется сказать, что хотел бы немного больше зарабатывать.
Мы все, вмешивается Гонкур, рассчитываем на русскую публику.
Это старший из братьев, младший недавно умер, но этот, говорят, более способный.
Пишет для Стасюлевича фельетоны.
На русскую публику?
Сейчас во Франции мало кто читает, а у вас.
Выхожу с завтрака униженный.
Среди детей, воробьев и ротозеев, на солнечную парижскую улицу.
Париж чудесен.
48
Ах, прошу, ах, очень прошу, Михаил Евграфович, мне это так важно.
Что этот шут снова выкинул.
Акт первый, сцена вторая, Модест выходит, Аркадий входит, Митрофан в сторону, Аркадий – Митрофану.
Charmant, charmant!
Глупый шут, читает и сам смеется и на всех поглядывает, хихикают ли тоже.
Тургенев, как благовоспитанный человек, тоже улыбается и говорит: да, в этом лице есть задатки.
Неправда!
Как вы смели, как вы смели приглашать меня слушать такую гадость.
Я знал, что будет вздор, но что вы позволите себе подлость, подлость, подлость.
Михаил Евграфович, я, но, Михаил Евграфович.
Да, да, граф Соллогуб, вы не отличаете, что подло, а что не подло, да.
А вы, Иван Сергеевич, это ваша вина, это вы выдумали это словечко, а теперь каждый идиот, каждый мерзавец, вы слышали, что он здесь читал, нигилист-вор, комедия о нигилисте-воре, подлость, подлость, подлость, меня пригласили на такую подлость.
Михаил Евграфович, я извиняюсь, я не думал, я это сожгу, хотите сейчас сожгу.
Стыдно, стыдно, в вашем возрасте, стыдно, он не думал, что оскорбит меня, думал, что мне удовольствие доставит, стыдно.
Михаил Евграфович.
Воды.
Надо ему расстегнуть воротничок.
Я это сожгу, простите меня, ах, умоляю, не сердитесь на меня, поцелуйте меня в знак того, что уже не сердитесь.
Извините, граф, мне кажется, я немного вспылил.
49
Ницца воняет.
Ницца жалкая.
Ницца мне совсем не помогает.
В апельсиновой Ницце подыхаю как в петербургской берлоге, среди запаха человеческих экскрементов (предусмотрительные арендаторы поливают ими сады) и гама отечественной сволочи (она заполонила все приморские виллы, на награбленные в России деньги покупает солнце Франции и французские упоительные ночи), не выхожу на солнце, не сплю по ночам, с изболевшимся сердцем и распухшими руками подыхаю в апельсиновой Ницце.
Из Петербурга телеграфировал Унковский о новом необыкновенном средстве от ревматизма.
Оно называется acidum sallicilicimi.
Доктор Боткин первым испробовал его в своей клинике.
Один пациент через четыре часа встал и пошел домой.
Возьми одр свой, и иди.
Доктор Реберг, я тоже хочу взять одр свой, и пойти.
Семь грамм в течение семи часов и ничего, только звон в ушах и пот стекает ручьями.
Ты что-то мне сказала?
Я глух, как пень.
Глу-у-у-у-у.
Не слышу собственного голоса.
Только воющие волны бьют в перепонки, сейчас прорвут их, зальют мозг, волны, нет – вьюга, перед глазами клубящийся снег; оглушенный, шатаюсь, acidum sallicilicum, чудесное лекарство, шатаюсь под его мощными ударами и падаю.
Выламывают руки назад, пишите, Салтыков, монокль в глаз и из глаза.
Ваше Величество, снова в Вятку?
За неблагонадежные мысли, за жареных рябцов, за Нечаева, к судьям повернувшегося спиной, за призывы свергнуть строй при помощи acidum sallicilicum действительный статский советник Салтыков Михаил Евграфович.
Пощады, пощады.
Волны в перепонках и мрак.
Наконец-то вы проснулись. Как самочувствие?
Рука.
Я шевелю рукой.
Не болит.
Поистине чудесное средство.
Я забыл вас предупредить, Михаил Евграфович, чтобы вы легли, принимая салицил.
50
Это не из того путешествия сон о двух мальчиках: о мальчике без штанов и мальчике в штанах, ни сон о разговоре правды со свиньей, ни новый мой приятель, Лорис-Меликов, ни приключение с Анненковым, под заглавием: старость.
За границу теперь почти каждый год; знаю, что до Вержболово – самовар, после Эйдкунена – сосиски; только сердце в пропасть всякий раз, когда приближаюсь к границе; с нашей стороны: что снова к чужим, подозрительно, ах, подозрительно, лучше возвращайся домой, пока мы добрые; с той стороны, когда возвращаюсь: а, наконец-то, третий месяц с наручниками ждем, а ну, живо, открой чемоданы; ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken, die Kontrebande, die mit mir reist, die hab ich im Kopfe stecken; но и в сердце, и в голове они читать умеют: нет спасения.
И хоть еще никогда – всякий раз то же самое.
Позже однако случается, что погружаюсь в сон; между Бромбергом и Берлином мне приснился такой сон: на улице немецкой деревни я встретил мальчика, лет может восьми, в штанах и башмаках.
Скажи, немецкий мальчик, спросил я, ты постоянно – в штанах?
Да нет, сударь, когда ложусь, снимаю.
А знаешь ли ты, мой мальчик, что существует страна, в которой.
Было бы очень жестоко с вашей стороны так шутить, господин.
Ввиду такой точки зрения немецкого мальчика, по манию волшебства (не надо забывать, что дело происходит в сновидении), тут же рядом появляется его русский сверстник в длинной покрытой грязью рубахе.
Между обоими мальчиками разыгрывается довольно длинный диалог, так что я лишь отрывки из него приведу.
Эй, колбаса, ты мне вот что скажи: правда ли что у вас яблоки и вишенья по дорогам растут, и прохожие не рвут их?
Но кто же имеет право рвать плод, который не принадлежит ему.
У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали. У нас намеднись дядя Софрон мимо кружки с керосином шел – и тот весь выпил.
Но ведь он, наверно из-за этого болен сделался?
Разумеется, будешь болен, как на другой день при сходе спину взбондируют!
Ах, неужели у вас.
А ты думал гладят. Стой, чего испугался! Это нам которые из простого звания, под рубашку смотрят, а ведь ты… иностранец.
Ах, как мне вас жаль, как мне вас жаль!
Сами себя не жалеем, – стало быть, так нам и надо. Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник.
Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Знаешь что, русский мальчик, остался бы ты у нас совсем. Право, через месяц сам будешь удивляться, как ты мог так жить, как до сих пор жил.
Еще чего, у нас дома занятнее.
Что же тут занятного?
Да, ты ждешь, что хлеб будет, – ан вместо того лебеда. А послезавтра – саранча. А потом выкупные подавай. Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался.
Я полагаю, что вам без немцев не обойтись.
На-тка, выкуси. За грош черту душу продали.
Мы за грош, а вы – так, задаром.
Это уже намного занятнее – задаром.
Тут крик меня разбудил: спасите! грабят! Это едущему в моем купе слуге Империи приснился сон, что чиновники делят башкирские земли, а его при этом дележе снова позабыли. Мы подъезжали к Берлину.
Второй диалог приснился мне в парижской гостинице; кроме двух героинь свиньи и правды – некоторое участие принимала в нем еще и публика.
Правда ли сказывают на небе-де солнышко светит?
Правда, свинья.
Так ли, полно? По-моему, это все лжеучение.
Лжеучение, подхватывает публика, лжеучение.
А правда ли, будто свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?
Правда, свинья.
А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Хочу-рылом в корыто уткнусь, хочу – в навозе кувыркаюсь, какой еще свободы нужно! Изменники вы, как я на вас погляжу.
Изменники, гогочет публика, марш в участок!
Зачем отводить в участок, я своими средствами. (Хватает правду за икру.) А правда ли, сказывала ты, что для всех один закон писан? Об каких это законах ты говорила? Признайся, что ты имеешь в виду?
Правда корчится от боли и молчит.
Свинья пожирает правду.
Публика приходит в неистовство: любо! нажимай, свинья! Еще отзывается, распостылая!
Тут меня разбудила консьержка, что аж снизу мои стоны услышала.
Когда я ей сон рассказал, она вовсе не удивилась.
Mais cela m’arrive tous les jours!
Оказалось, что напротив помещался свиной рынок и туда каждую ночь привозили транспорты свиней, чей визг соответствующим образом действовал на воображение квартирантов.
Ну вот: абстрактный казалось бы сон, а хрюкающая действительность у его таинственных истоков.
51
Эта молодая и нарядная дама, которой принадлежит весь Париж – цветочные магазины и дома моды, заискивание продавщиц и улыбки под усами уличных донжуанов, эта дама, которая в сопровождении зеркал-льстецов каждый день отправляется на штурм галантерейной Бастилии и неизменно возвращается с лаврами, и к тому же с добычей в нанятой колеснице – это моя жена, Елизавета, урожденная Болтина.