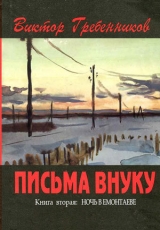
Текст книги "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве"
Автор книги: Виктор Гребенников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
VIII.Жизнь в этих «околках» и на разнотравных луговинах, в общем-то, кипела: звонко кудахтали перепёлки, мелодичные звуки, этакого флейтового низкого тона, издавали иволги, порой мелькая пронзительно-жёлтым, отороченным чёрным, нарядом наподобие неких тропических ярких птиц (я раньше их не видывал), сухие старые деревья дробно колошматили своими но сами-до лотами разновеликие и разноцветные дятлы. Тропинки то и дело перебегали здоровенные пестрые суслики, не считая зверушек поменьше, коих иногда в зубах тащили на прокорм своим детям ласки, хорьки и горностаи; на солончаковых, вроде бы менее богатых жизнью местах вечерами носились престранные зверушки тушканчики, мелькая белой густой кисточкой на конце длинного хвостишки и столь быстро отталкивающихся от земли только задними длинными ногами наподобие кенгуру, что ног этих не было видно, и казалось, будто зверёк летит на дециметровой высоте над поверхностью почвы, покуда не нырнёт в одну из многочисленных нарытых ими нор. Нередко в кустах мелькали роскошные оранжево-золотые шубы лис, тех самых, что шли на знаменитые казахские малахаи; не раз вдали я видел стаи большущих степных птиц дроф, напоминавших мне о родном Крыме; они не подпускали человека близко, и, разбежавшись, улетали на бреющем полёте, хотя на них тут никто никогда не охотился. Охотились же, главный образом, на «косачей» – громадных чёрных тетеревов, тоже до того мною не виданных; о них я расскажу как-нибудь отдельно. И ещё били уток, засаливая их тушки в бочках на зиму наподобие вышесказанных груздей. Над всей этой пернатой и четвероногой живностью, в высоком поднебесье плавно кружили ширококрылые степные орлы; не столь огромные, но тоже величавые подорлики, скопы и канюки, для коих хищников пищи было тут более чем достаточно – в виде сусликов, хомяков, полёвок и прочей такой живности. Здесь же, в околках, вечерами выходили на свой ночной промысел огромные толстые ежи с густыми колючками, перепутанно направленными в разные стороны, жирные полосатые барсуки и многие другие вечерние и ночные жители леса и луга. Правда, сильно досаждали комары, коих в этих равнинно-болотных краях выплаживались мириады; отгонять сих кусак я наладился кострами, в каковые бросал для пущего дыму свежих веток или травы, или же нёс в руке тлеющую лепёшку сухого коровьего кизяка, дым коего, весьма приятный для обоняния, на этих гнусных комаров производил отгоняющее действие, а я напоминал дьякона, размахивающего паникадилом. Поэтому я, хоть тогда ещё не курил, всегда брал с собою в эти лесные, степные и болотные биологические походы коробку спичек. Через некоторое время заметил, что после укусов надоедливых тварей комаров шишки на коже не столь выпуклы и чешутся послабее, а потом и вовсе адаптировался, прихлопывая ладонью лишь тех комаришек, которые при самом укусе причиняли ощутимое беспокойство, последствий же на коже не оставалось, и, как ты знаешь, не остаётся до сих пор.
IX.Лесочки-околки однако довольно быстро изводились на дрова – основное топливо жителей тех времён и мест, да и на строительство; кривоватым берёзовым и осиновым стволам было далеко до сосновых, но деваться застройщикам было некуда. В целом за эти десятилетия, по моим научным прикидкам, площадь лесов этой части Западно-Сибирской низменности от топора и плуга сократилась более чем втрое; это не могло не повлиять и на водный режим местности: во многих колодцах Исилькуля на расстоянии одного-двух метров от поверхности была абсолютно пресная питьевая вода; затем грунтовые эти воды понизились и посолонели, так что для паровозных нужд пришлось тянуть водопровод от самого Иртыша за полтораста километров. Местные же воды уходили всё глубже и глубже, становясь всё более солёными и жёсткими, не пригодными ни для скотины, ни для мытья и стирки. Быстро, как бальзаковская шагрень, стала съёживаться площадь болот, озёр, стариц, и теперь эта местность, по сравнению с теми благодатными временами, сильно изменилась, ибо большие её площади стали сухими, засоленными, почти безжизненными; да иначе не могло и быть в этих суровых краях с их весьма ранимым и нежным живым покровом, сведя который вырубкой лесов и сплошной перепашкой, люди перешли тут исключительно на привозное топливо (уголь, газ), и, в значительной мере, на привозную еду. А природа тех мест, своеобразие и прелесть которой я понял и полюбил, как натуралист и естествоиспытатель, всей душой, сегодня уже практически уничтожена; спасению последних её клочков я посвящу потом многие годы своей жизни, о чём будет сказано в должном месте.
X.А тогда, в сорок первом, неизгладимое на меня впечатление стали производить величавые степные закаты, когда божественное светило, алого или расплавленно-металлического цвета, медленно скользило по линии горизонта направо, не упрятываясь под землю, а как бы сплющиваясь (потом я узнал, что это следствие рефракции – особого преломления лучей); на травы невесть откуда выпадала роса, и из неё слышались странные громкие скрипы птиц, называемых коростелями, а сверху – жутковато-таинственные крики сов, вылетевших на ночную свою охоту. Я сильно жалел, что не родился художником (думал раньше, что художником нужно только родиться, и глубоко в этом заблуждался), чтобы передать красками это своеобразное состояние природы, и молчаливо наблюдал за уходящим за пологий огромный горб земного шара густобагрового солнца, туда, где гремела ужасная война, и враг уже подступал к моему далёкому милому Крыму, где оставался мой брат Анатолий. Какой же будет его судьба, что вообще случится со мною и со всеми нами дальше? Растревоженную такими горькими мыслями душу успокаивали совершающиеся под многоголосый птичий аккомпанемент величественные, мирные, захватывающие картины привольных степных закатов, наблюдать которые я приходил сюда, за посёлок, каждый летний вечер, как глубоко верующий человек на молитву; и так я жил.
Письмо сорок седьмое:
ШКОЛА
I.Август 1941 года ознаменовался изрядными для меня событиями, превесьма положительными. Первое из них заключалось в том, что у отца ничего не получилось с этими двумя его поездками на золотые прииски для испытаний и внедрения изобретённого им вибратора – сухой безводной добычи золота. Согласно одному его варианту, мы должны были сняться с этого вынужденного пункта пересадки в Исилькуле и переехать в Челябинскую область, в коей он раньше бывал, где видел своими глазами на приисках добычу золота старательскими артелями и государственными предприятиями; в другом варианте имелась в виду уже упомянутая мною Якутия с золотоноснейшей её рекою Алданом. Но, во-первых, разрешения выехать с семьёй в те иль иные края отцу, к нашей превеликой с матерью радости, не дали из-за войны эти «проклятые бюрократы», коих он дома материл нещадно; во-вторых, сколько отец ни распродавал на базаре наших домашних вещей из прибывших малой скоростью, ни на какую дорогу этих денег всё равно не хватило бы из-за бешеного роста цен, ускоряющегося по мере наступления гитлеровских войск на нашу любимую родину. Невозможность выезда из Исилькуля повлекла однако за собой другое, очень даже благое для меня обстоятельство: несмотря на категорический запрет отца учиться в школе дальше (он очень боялся, что из школы я попаду в институт, где из меня сделают бездарного инженера-бюрократа, с каковыми он сталкивался во все эти годы) я, уже повзрослевший, начхал на эти самые его запреты, и, при горячей поддержке матери, поступил-таки в восьмой класс Исилькульской средней школы-десятилетки, тогда единственной в посёлке и во всём районе. Двухэтажное кирпичное здание школы скучно-казенного вида было к началу учебного года уже занято под военный госпиталь: железнодорожные эшелоны, идущие с фронта, развозили по всей оставшейся стране раненых солдат, в том числе и в этот наш Исилькуль. А десятилетку перевели из каменной школы (каменными здесь называли кирпичные) в так называемую саманную школу, каковая находилась в другом месте посёлка; до этого она была не то четырёхлеткой, не то семилеткой, действительно саманная, приземистая, но всё же уместившая и нашего брата старшеклассников. Тут следует сказать вот о каком парадоксе. В Симферополе, одолеваемый, как ты помнишь из первых «Писем», множеством хворей, я рос весьма медленно, и в классе был самым низеньким по росту, отчего тогда сильно переживал. Здесь же, в Исилькуле, неожиданно оказалось, что я – самый высокий ученик в классе, если не во всей школе. Выходит, за год странствий с моим организмом случилось нечто такое, отчего я быстро и намного вымахал; я и раньше это замечал по теснеющей обуви, укорачивающимся рукавам и штанинам, а тут, в классе, убедился в этом совсем наглядно.
II.Сказанное явление, вкупе с накопленным уже жизненным изрядным опытом, сделало меня, который в детстве был весьма скромен, стыдлив и нелюдим, вполне нормальным юношей, по меньшей мере, равным другим. Посадка в новый класс к незнакомым ребятам и учителям, в отличие от первого класса, о чём я тебе когда-то писал, очень меня обрадовала и, несмотря на тяжёлые условия обучения, доставляла большое удовлетворение. Я взял, что называется, с места в карьер, немедля восстановив свой отличниковый статус, к немалому удивлению учителей, знающих, что даже при простом переводе ученика из одной школы в другую, производимом без перерыва, таковой ученик по успеваемости на некоторое время съезжает; когда же им, учителям, стало известно, что я вообще не учился целый год, разъезжая по стране, а стало быть безнадёжно отстал и всё забыл, горячо убеждали мать сдать меня в какой-нибудь омский или иной техникум, или определить на работу; вообще в советское время годичный пропуск школьника был недопустим по закону и придирчивый школьный директор мог бы заставить моих родителей отвечать за это дело перед судом. Но этого не случилось, и сошлись на том, что я посижу некое короткое время в восьмом классе, и, если не потяну, то до свидания, документов моих пока так и не приняли, и несколько дней я был кем-то вроде вольнослушателя.
III.Мать умоляла меня засесть за учебники, дабы вспомнить-догонять; я же заупрямился и настоял на своём, не открыв до начала учебного года ни одной в них странички. Не устроив мне ни экзаменов, ни собеседования, учителя к исходу первой недели обнаружили мои весьма выдающиеся энциклопедические способности и отменную память даже по отношению к такому, казалось бы, беспредметному и ненужному предмету, как немецкий язык, не говоря уже о прочих дисциплинах, о коих я, оказывается, просто-таки соскучился. Я угодил в тот же самый восьмой класс, в который перешла из седьмого младшая дочь дяди Димитрия Рая, что ещё более облегчило мою адаптацию. В этом классе многие учились на-отлично, в том числе и она, ну а про меня уж и говорить нечего. Усадили нас в таком же порядке, каковой у них был в прошлом году – не по успеваемости, а по росту, чтобы впереди сидящие не мешали задним видеть доску; таким образом я попал в задний левый угол, как самый долговязый, где и просидел все оставшиеся годы до окончания десятилетки.
IV.Школа, в связи с войной, сильно бедствовала, в частности, с дровами: надобно было отопить несколько круглых высоких печей-«голландок», обогревавших каждая свой класс. Дров перепадал сюда мизер, и потому в классах была поначалу просто холодина, к зиме же наступили свирепейшие морозы, так что мы учились в пальтишках, шапках и валенках, у кого таковые были; я в число подобных счастливцев ещё не вошел, так как валенки стоили больших денег. Учителю приходилось не раз прерывать урок, чтобы дать нам потолкать друг друга, потопать и побегать для согревания. Чернильницы-непроливашки в тряпочных мешочках с завязкой лучше всего было держать в карманах у тела, выставляя на парту лишь на минуты записей; заслушаешься педагога, ткнёшь пером в чернильницу, а там вместо жидкости – лёд… О том, что в стране кончилась бумага для тетрадей и что я писал на маминых французских романах промеж строк, вдобавок перевернув книгу вверх ногами – я уже тебе рассказал. Несмотря на голодуху, замерзаловку, на смертельно нависшую над Родиной опасность захвата её злобным врагом, несмотря на все эти и многие иные беды – знания, даваемые нам в этом мёрзлом убогом помещении, прочно и чётко ложились в мириады мозговых ячеек, жаждущих их восприятия, переработки и хранения; очень многие из них сохранились до сих пор, целых пятьдесят два года спустя. И думаю я порой, что тому весьма способствовал годовой «прогул» между седьмым и восьмым классом, каковой пропуск давал отдохнуть этим «школьным» ячейкам в мозгах, но до верху нагрузив другие ячейки – «бытовые», «путевые» и многие-премногие иные. Мне даже кажется, что педагогические светила рано или поздно придут именно к такой системе образования – с обязательными годичными каникулами и поездками по белу свету для, выражаясь словами гоголевского Чичикова, «познания всякого рода мест», что не изучишь в самой богатой и блистательной гимназии. Невзгоды при этом терпеть, наверное, не обязательно, а повидать мир, людей, города, деревни, дороги – очень даже полезно, и именно в таком возрасте.
V.Забыл ещё упомянуть тебе об одном событии, имевшем место как раз в первый день моего обучения в восьмом классе исилькульской школы. Именно в этот же день, 1 сентября 1941 года, отец получил письмо из Ташкента насчёт Узбекзолоторедмета и липового жульнического «прииска» в Солдатском Нижне-Чирчикского района, о каковых неприглядных делах я рассказал тебе в «среднеазиатской» серии своих писем. Точнее, это была копия письма главного прокурора Узбекской ССР Центральному Комитету ВКП(б): мол в результате тщательной проверки по жалобе тов. Гребенникова СИ. абсолютно никаких «злоупотреблений с золотом не обнаружено». Отца это дико обозлило и даже взбесило, ибо было совершеннейшею неправдою – ангренская «золотая» мафия, как следовало из сказанной бумаги, имела высочайшее прикрытие, и, наверное, долго ещё ворочала своими прегнусными преступными делишками, нам, конечно, уже неведомыми. Но, как говорится, нет худа без добра, и благодаря всей этой нехорошей заварухе я оказался за школьною партой, что было очень даже замечательно.
Письмо сорок восьмое:
ВЫКОВЫРЕННЫЕ
I.А потом в тихий, оглашаемый только привычными паровозными гудками, глухой посёлочек, хлынул с запада эшелонами превеликий поток людей. Это были семьи, согнанные с разрушенных и захваченных врагом городов европейской части страны, и тех, к которым враг подступал, в том числе священных для всех нас Москвы и Ленинграда. Прибытие их нагоняло на меня тоску: эвакуируют москвичей – значит столица будет сдана, а коли так, то это конец стране и всем нам. Однако местные жители повели себя по отношению к этим несчастным обездоленным людям, чьи мужья и отцы сражались на фронте или уже сложили там головы, с невероятной, по моему суждению, неприязнью и отчуждением. Дело было в том, что сказанных людей, которые пережили великие страхи и муки, потеряли своих близких, кров над головой и многое другое, власти расселяли вот в этом нашем глубоком тылу по тем домам и семьям, у коих то позволяла сделать какая-никакая жилплощадь, и это было справедливейшим решением, рассчитанным также и на то, что местные жители с пониманием отнесутся к этим несчастным и приютят изгнанников; но какое там! У хозяев здешних саманных, осиновых и глинобитных хором, до коих так и не дошёл весь ужас происходящего на западе, – зарождалось некое бесчеловечное зло: как это так, приводит милиционер или райкомовец некую измождённую женщину с детишками и узелком пожиток, и приказывает: вот они мол жить будут тут у вас, не смейте их обижать, не вздумайте выгнать; но как же это, думают хозяева – поселяют к нам каких-то приезжих, да ещё бесплатно; не они ведь строили-обихаживали этот дом, а на готовенькое со всей своей оравой, в чистоту да в тепло… Поскольку райкомовцу ответить отказом нельзя, ибо угодишь за решётку лет на десяток, да ещё домишко-скотину-добро конфискуют, то всё зло вымещалось на этих разнесчастных квартирантах. Чего только они, бедные, не наслышались: понаехали мол тут на дармовое; зря вас там всех Гитлер не разбомбил, и так далее и тому подобное. А соберутся три-четыре хозяйки, да как начнут мыть бедные кости своих этих поселенцев – мерзко на душе делается и гадко. Моя мол и ведро воды из колодца достать не умеет, а принесёт – весь пол оплещет; а моя мол в бумажки какие-то уткнулась да всё ревёт, бездельница; да что там ваши, когда моя вообще когдаговорит, то и слова не разберёшь, может даже нерусская какая; передохли бы они скорее со своими щенятами – нам самим скоро жрать из-за них нечего будет. А у самих подпол под самую крышку отборной картошкой засыпан, в сенях замороженная туша свиньи или тёлки, там же несколько мешков с тяжёлыми толстыми бело-жёлтыми дисками замороженного молока, мука, крупа и многое иное; и это не считая двух ежедневных вёдер свежего парного молока, из коих «этим дармоедам» не давалось ни стакана – половину на базар, остальное через сепаратор (а таковой был тут почти в каждом доме), затем сбить сливки в масло, громадный ком коего тоже дожидается базарного дня; а в кладовке ещё висят вниз головой огромные кочаны капусты, горами лежат толстенные морковины и свёклины; кадки полны огурцами, грибами, солёной дичиной; клети с сушёной ягодой, запасами гороха; жбаны с мёдом, громадные бутыли с самогоном. Не для того мол всё это готовилось, не для приезжих нищих дармоедов; пусть спасибо скажут мол за то, что дают им, проклятущим и надоевшим хуже горькой редьки, спать в тепле на полу на кухне; и когда им только конец придёт или лихоманка какая приберёт!..
II.Слово «беженцы», модное сейчас, тогда почему-то власти применять избегали, назвав этих несчастных труднопроизносимым для простолюдья термином «эвакуированные»; обозлённые на таковых исилькульские хозяйки переделали это слово на «выковыренные» – и откуда мол вас, дармоедов проклятущих, выковыряли да привезли тут на нашу голову. Беженцы – а это были лишь женщины да детишки, изредка глубокие старики, рады были помочь-угодить хозяевам, чтобы хоть как-то умерить их зловредность; но те поручали им самые тяжкие и гнусные работы, каковые только можно было для дома или огорода придумать, и которые они, бедняги, выполняли под проклятия и понукания своих властителей, порой весьма жестоких и самодурствующих. Тёте Наде с дядей Димитрием удалось отвертеться от «выковыренных», которых чуть было к ним не поселили, ибо по бумагам мы у них не значились и не были прописаны, так как собирались в Крым (или в Якутию, или на Урал); но, несмотря на то, что мы уже преизрядно надоели своим сказанным родственникам, они срочно прописали нас у себя, дабы к ним принудительно не поселили беженцев; впрочем, вскоре из Литвы приехала самая старшая их дочь Клавдия с двумя маленькими детишками: её муж, лейтенант-пограничник, погиб в самом начале германского к нам вторжения; о дальнейшей судьбе этой и иной своей родни по отцовской линии я расскажу как-нибудь после, вспомнив самое интересное. Клавдия вернулась к родным – а каково было другим эвакуированным! Я не хотел бы обидеть здесь поголовно всех тех хозяев, к которым подселили всех этих несчастных «выковыренных», так как несомненнорассказанное невежественное предубеждение не могло быть тут всеобщим, и уверен, что среди хозяев были, несомненно, и человечные, и жалостливые; к глубокому однако огорчению, в те поры и в тех краях мне лично таковых не попадалось, наверное благодаря неким случайностям, хотя мне приходилось иметь дело со многими людьми и бывать во многих жилищах, куда были поселены властями эти самые обиженные злою судьбою и людьми обездоленные беженцы. Единственное мне известное место, где их не корили и не унижали, считая за равных – это наш школьный класс…
III.Как бы то ни было, эвакуированные привнесли в эти дальние степные сибирско-казахстанские края немало зёрен культуры. Перечислять их все я тут не стану, вот лишь один, весьма малый, штрих. Когда мы приехали сюда, тут не пользовались не только туалетной бумагой, о существовании коей и не подозревали, но и таким широко распространённым всесоюзным её заменителем, как газеты. В предыдущих недавних к тебе письмах я рассказал об отхожих местах обитателей здешних землянок и изб: естественные эти нужды справлялись во дворе прямо за углом жилища или сарая; никаких подтирочных бумажек тут не замечаюсь, что меня немало удивило. После я узнал (и случайно увидел), что делается это куда более просто – пальцем, каковой затем обтирается о стену, а в конце процедуры – о полу одежды; мытья рук за этим большей частью не следовало. До этого же я долго не мог сообразить, что означают коричневые засохшие штрихи-мазки на стенах за углами почти всех халуп. Лишь когда сказанные фекальные «натюрморты» исилькульцев москвичи и ленинградцы стали разнообразить комками использованной газетной бумаги, упомянутая премерзкая «стенопись» заметно приубавилась, а потом сошла почти на-нет. Прошу у читателя прощения за этакое моё дотошное описание разных мерзейших дел подобных только что сказанному, но я думаю, что о нравах-обычаях наших предшественников, населявших в сороковые годы широкие просторы Западной Сибири, полезно будет знать не только историкам и этнографам.








