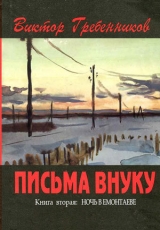
Текст книги "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве"
Автор книги: Виктор Гребенников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
VII.Я и сейчас не считаю за грех позаимствовать у кого-либо то писательский приём, то что-то из стиля, то что-то из формы, ибо, как и в живописи, очень не люблю однообразие и какой-то «свой единственный» язык, коим написано всё-превсё сотворенное; некий новосибирский журналист свой обо мне очерк назвал «Предпочитаю разнообразие» – так оно и есть. Я с детства очень придирчив к грамотности других, и, если вижу, что кто-то написал нечто с ошибками – считаю автора неполноценным, тем не менее великолепно понимая умом, что это несправедливо, и что он, бедолага, вовсе не виноват, что его плохо обучили русскому языку в школе или дома; как тут мне не вспомнить писателя Евгения Андреевича Пермяка, сделавшего первую восторженную запись в книге отзывов моей большой московской выставки в 1972 году, и впоследствии творившего мне немало доброго, о чём будет сказано в должном месте, – так вот многие из своих ко мне писем он заканчивал просьбами простить его за грамматические ошибки, коих у него действительно было превеликое множество, и я прощал, хотя и недоумевал: у кого же учиться нашему брату писательству-грамоте, как не у российских писателей? Ну а в целом я считаю, что каждый человек, независимо от образования, профессии, интеллекта и всего прочего, достигнув некоего итогового возраста (скажем, 60 лет), обязан оставить своё письменное, подробнейшее жизнеописание – одновременно и отчёт о хорошем и дурном, сделанном в течение жизни, «и опыт, сын ошибок трудных», и документальное свидетельство той эпохи, в коей он жил; сведениям о которой через век-другой-третий цены не будет, даже самым что ни на есть графоманским (ведь даже полуграмотные берестяные свитки древних россиян ныне величайшая ценность), и тогда, когда наука-техника будущего способна будет «переварить» все эти наши сегодняшние записки и зарисовки, как раз и возникнет начало полного «энергоинформационного» обмена между членами нашего человечьего социума, который вот тогда и можно будет назвать настоящей Цивилизацией. В надежде на это я и прошу тебя, если появится таковая возможность, опубликовать печатно вот эти мои к тебе письма; и ещё очень верно ты бы поступил, если бы продолжил этот мой документально-автобиографический труд в любой форме, тебе доступной, каковой труд, его процесс, должен быть интересным и для тебя самого; я вот, несмотря на известную тебе занятость во многих стихиях, урывал возможность для написания хотя бы нескольких страничек в сутки, и было это в основном по ночам и во время болезней; тебе, однако, дражайший внук, желаю не болеть и жить долго-предолго.
Письмо тридцать шестое:
СТЕПНЯК
I.От того, что поездом меня изрядно укачало (столь далеко по железной дороге я не ездил, самые дальние железнодорожные мои путешествия были из Симферополя в Евпаторию и Феодосию), так и оттого, что очень переживал за увоз меня навсегда из Дома, я старался меньше смотреть в вагонное окно, за которым мелькали или проплывали чуждые, удручающие меня картины заснеженных равнин, и северный отрезок этого пути я помню плохо. При пересадке на азиатский поезд в Москве отец повозил нас с матерью по столице, прокатил на метро, усиленно, угощал меня чем-то наверное вкусным, но оно не лезло в горло. Московские же достопримечательности, уже виденные мною на картинках и в кино, пока не произвели на меня никакого впечатления. Пройдет превеликое множество лет, событий и катаклизмов, из коих тяжелейшими будут война и гулаговские лагеря, каковые я переживу, и снова стану бывать в Москве, наезжая сюда из Сибири, и проникнусь духом этого великого города, и почти пойму его древнюю душу; я буду писать Москву маслом с натуры, установив свой трехногий этюдник на самых неожиданных местах, и ещё более проникаться сказанным духом. А ночами – тишайшими и безлюдными московскими ночами – буду бродить по спящему пустынному городу с его древними улицами, с его уютными московскими двориками, и любоваться, при свете Луны и редких фонарей, разной его старинностью и прекрасными архитектурными изяществами, что сделать днём превесьма трудно из-за великого множества народа, потоки коего до отказа наполняют эти улицы, площади, мосты и переходы, а к ночи полностью от него освобождают; всё это прегромадное людское скопище уже незаметно спит за толстыми старинными стенами в своих тесных уютных московских жилищах, а я брожу по улицам один, не считая редких милиционеришек, с глубоким счастливым восторгом созерцая ваяния превеликих древних на этих фасадах, в разнообразнейших стилях, к созерцанию коей божественной архитектуры я пристрастился ещё в своём Симферополе, но не знал, что особенно величаво всё это смотрится безлюдными спокойными ночами, каковые, я застал в шестидесятые счастливейшие годы в мирной гостеприимной Москве.
II.Это стародавнее изумительное благоденствие незабываемо и иногда даже видится мне во сне: громадная спящая Москва и я, который тихо брожу по ней, благоговейно созерцая эти древние многоразличные красоты. В те же годы я обрету в Москве добрых друзей, знакомых и покровителей, о коих непременно расскажу в ещё одной книге, буду ездить, а больше так летать на самолетах на разные конференции и конгрессы, устраивать выставки своих уникальных художеств, похваляемые столичными газетами, и на выставки те будут выстраиваться очереди аж на улице, а некие столичные деятели оттого учинят мне свои высоковельможные лестные ласки, и оттого появится у меня в той же Москве немало недоброжелателей. И многое иное презамечательное будет у меня связано с Москвою; но сейчас, подростком, я ничего этого не знаю и не ведаю, и, тоскуя по своему Крыму, не гляжу на сказанные древние стены и башни, совершенно мне пока не милые и чуждые; больше всего иного мне запомнились тогда почему-то серые с чёрным вороны (из врановых в Симферополе водились лишь грачи и галки, а за городом – немногочисленные вороны), каковые неказистые птицы летали над Кремлем, Красной площадью, Мавзолеем и неприятно горланили; не менее неприятно рявкали клаксоны множества автомашин, несшихся друг за дружкой по улицам и по той же Красной площади, рядом с каковой находился Проезд МХАТ. На этой улочке, весьма короткой, отец показал дом, где он останавливался у маминых родственников как раз на той же лестничной площадке, где жил певец Собинов; где-то тут, в давнее время, жила когда-то моя бабушка по материнской линии, то есть твоя прабабушка, камерная певица, о которой я, что знал, рассказал тебе в письме 33-м, а больше ничего не знаю, даже, имени её и фамилии, так как на эти «дворянские» дела в те тридцатые годы было в семьях большое табу, дабы не угодить всею семьёй, а также друзьям и соседям, во «враги народа» – но это к слову. Затем у нас было ожидание поезда на Казанском вокзале, грубо-вычурная архитектура которого, работы Щусева, мне весьма не понравилась; затем опять поезд, длинный, холодный и унылый, потянувшийся в невероятно далёкую даль, неприютную и пугающую.
III.В Крыму я вырос среди скал, предгорий и гор – тут же была равнина, чуждая мне и непонятная, холодная, заснеженная, бескрайняя, без единого живого существа, и уже не сидели птицы на телеграфных столбах, мелькавших за окнами, лишь провода всё так же плыли в пространстве, опускаясь, поднимаясь и опять опускаясь. Тут была уже зима: леса стояли среди побелевших равнин, чёрные ели угрожающе направили острые свои вершины в серое низкое небо, изготовившись его проткнуть; как же они были непохожи ни на раскидистые с золотыми прихотливо изогнутыми ветвями привольные крымские сосны, ни на кипарисы, которые не кололи синее родное мне небо, а ласково поглаживали его подобно мягким акварельным кистям! Так мы проехали европейский остаток дороги, суровый пугающий Урал (я как бы смутно предчувствовал что-то недоброе, а ведь именно здесь, на Урале, меня потом арестуют и посадят на 20 дет); а за Уралом пошли совсем уже бесконечные, бескрайние равнины, нагоняющие на меня неведомую мне доселе смертельную тоску. Свинцово-серые тяжкие дни сменяли тёмные глухие ночи, а поезд всё мчался и мчался в эти сибирские пугающие дали, неестественно плоские, ровные и совершенно безжизненные. Даже чёрные ели – и те исчезли, а леса были тут какие-то странные, жидкие, безлико-серо-коричневые, с несчётным количеством белых, как выветрившиеся скелеты, стволов деревьев, и это были берёзы, коих я почти не видел раньше (в Симферополе росла лишь одна посаженная неведомо кем берёза у церкви, так я думал, что у неё побелена кистью не только нижняя часть ствола, как то делали то ли для красоты, то ли для чего иного со всеми городскими и садовыми деревьями, так у неё были «побелены» даже ветви). Вид этих скелетообразных дерев без листьев, рощи коих проплывали вдали за вагонным окном, нагоняя на меня совершеннейшее уныние. Однако, забегая вперед, должен тебе оказать, что именно эти края через несколько лет я полюблю невероятно, о чём будет сказано в должном месте; пока же я, бедный я, которого поезд уносит в холодные чужие дали, ничего об этом не знаю, и тоскую всё больше и больше по своей южнороссийской солнечной родине – тем более человечьи селения, что очень редко показываются среди безбрежья этих зловещих равнин, тоже пугающе-страшные: домики низкие, сделанные почему-то не из белого, как у нас, камня, а из почерневших бревен, и даже огороды обнесены не стенкой из бутового необтёсанного известняка, но изгородью из деревянных редких жердей или невиданного мною доселе чёрно-коричневого покосившегося плетня.
IV.Серое холодное давящее небо, белые древесные скелеты, чёрные убогие избушки и бараки, и кругом снег, снег, снег – как живут несчастные люди в этой совершенно непригодной, для жизни стране? На это я не находил ответа; что-то подобное, видимо, испытывала и моя мать, то молчащая, то всхлипывающая. Не унывал лишь отец, рассказывая про те богатейшие перспективы, каковые откроются пред нами и всею нашей страной после запуска в производство его замечательного изобретения – аппарата для безводного отделения металла от сухого песка на золотых россыпях, о коем ты читал в главе 28-й моих «Писем», каковой аппарат назывался вибратор. Усатый проводник в железнодорожной форме вечерами разносил чай по вагону; днём проходили сквозь вагонную чемоданно-матрасо-людскую анфиладу и толчею продавцы пирожков, булочек и всякой другой снеди, журналов, газет. В одной из газет отец нашёл небольшую заметку: в Средней Азии, где-то аж за Ташкентом, учёные, открыли ещё одну пребогатую золотую россыпь, очень подходящую для его вибратора – тут тебе и жара, и песок, каковой в этой жаре не отсыреет, и содержание золотишка высоченное, но было уже поздно – мы ехали в не менее золотоносный Степняк. В Петропавловске-Казахстанском, холодном, продутом степными, уже зимними ветрами, мы выгрузились; здесь предстояла пересадка на поезд, идущий на Кокчетав. Убогий петропавловский вокзалишко, ничем не напоминающий светлый симферопольский вокзал с колоннами, в коем мне более всего нравились аквариумы с золотыми рыбами среди зелени, служил нам пристанищем на долгие часы, а может и дни – не помню – до кокчетавского поезда; тут я почувствовал, что называется, на своей шкуре, что такое сибирские морозы: обут был в ботиночки, тесноватые, и у меня сильно, до онемения пальцев, стали замерзать ноги, и это было очень больно. Отец почему-то, хотя и ехал в казахстанскую зиму, не подумал о валенках; я же имел о таковой обуви представление весьма превратное: когда отец привез в Крым с Урала, где испытывался очередной изобретённый им станок для бесшумной насечки напильников, пару своих валенок; это были огромные, серые, грубые, круто воняющие овцой предметы, и я недоумевал, как же они сберегают тепло, когда тут же промокнут от снега (что снег может быть в мороз сухим, я ещё не знал); мать тоже пришла в ужас от такого зловонного «сувенира», и сказанные валенки были заброшены в один из чуланов, где, впрочем, долго не пролежали, ибо на них навалились гусеницы моли и размножились до невероятной степени, изъев до множества дыр те уральские валенки, которые, конечно, были выброшены вон; извини меня за это «обувное» отступление.
V.Ожидание следующего поезда несколько скрасил приезд к отцу вызванного им в Петропавловск телеграммой «на свидание» его брата, дядюшки Димитрия, жившего не так далеко отсюда, в некоем то ли городишке, то ли деревушке со странным названием Исилькуль – это был уже юго-запад Омской области, если бы ехать не пересаживаясь дальше от Петропавловска на восток. Переселился дядюшка Димитрий в Сибирь из Днепропетровшины, откуда эти все Гребенниковы были родом, осел тут, обзавёлся семьёй, и сделался гармонных дел мастером, починявшим всякого рода гармошки, бывшие в те поры в Сибири в большой моде. Он был повыше отца ростом и похудощавее, имел образование тоже трехклассное сельско-приходское; но тут, на петропавловском вокзале, я отметил про себя много более низкий уровень интеллектуального развития, нежели чем у моего отца; кроме, того, к моему удивлению, оказалось, что дядюшка Димитрий – верующий, и постоянно, к месту иль не к месту, крестится. Он, однако, сильно пожурил отца за то, что тот не позаботился заранее о мальчишке, то есть обо мне, насчёт валенок при переезде, на зиму глядя, в эти холодные края; знал бы мол, привёз из Исилькуля что-нибудь подходящее из старенького. Сам он был в больших растоптанных подшитых снизу пимах (это экзотическое, новое для меня название валенок я впервые узнал от него тут же); на его пимах, кроме того, красовались кожаные заплаты на сгибах, и более широкие на задниках. Дядя Димитрий помог погрузить наши тюки-чемоданы на нужный поезд, идущий на Кокчетав; через изрядное время мы, а дело было ночью, выгрузились на станции «Курорт Боровое», она же Щучинск. Отец оставил нас на совсем уже крохотном здешнем вокзалишке, а сам чуть свет отправился в посёлок искать квартиру, в коей мы бы переждали, покуда он съездит в свой долгожданный Степняк – ведь это более чем в полусотне километрах зимнего туда пути.
VI.Днём отец пришёл за нами на вокзал и сказал, что нашёл квартиру в этом самом Щучинском; мы потащили наши чемоданы и тюки по некоему заснеженному убогому посёлку, во время коего долгого пути у меня отчаянно мёрзли ноги, пальцы которых я уж не чувствовал; мы зашли в этакий прегадкий домишко из двух помещений – кухни и комнаты; в кухне и должны были квартировать в течение дней отцовского в Степняк путешествия, в каковое он собирался отправиться поутру. Хозяева указали помойное (по-здешнему – «поганое») ведро, которое может ночью понадобиться при случае; далеко за полночь я, проснувшись именно по этой причине (отец на ночь обильно напоил горячим чаем, чтобы согрелись), я потерял ориентировку, и в темноте долго шарил наощупь по кухне, где же это злополучное поганое ведро, но натыкался на какие-то лавки, печки и другие непонятные предметы, а разбудить кого-либо из взрослых стеснялся – так уж был я благородно воспитан; я блудил наощупь по незнакомому чужому помещению; шли минуты, и необходимость воспользоваться этим проклятущим помойным сосудом всё возрастала, а до утра (ставни тут закрывались не изнутри, как в нашем доме, а совсем по дурацки – снаружи) было, возможно, ещё далеко, и я вытерпеть бы столько не смог; ко всему этому примешивался ещё и всё возрастающий страх, ибо я потерял и свою постель. Наконец, нога моя натолкнулась на что-то звякнувшее: вот оно, вожделенное ведро! С великим облегчением я окончил процедуру и стал пробираться к постели на полу, каковая постель должна была быть слева от ведра шагах в четырёх – как я натолкнулся на что-то большое, что загремело, загрохотало, и раздался превеликий звон разбитой посуды. Все проснулись, зажгли спичкой керосиновую лампу, и я с ужасом обнаружил, что свалил посудную полку, висевшую на стене, побив что-то из утвари; а отправлял нужду не в сказанное помойное ведро, а в чистое, находившееся в совсем другом месте этой проклятущей, чёрт бы её побрал, комнатушки, и я находился теперь в противоположном её углу. Хозяин и хозяйка накинулись на меня и родителей не так за побитую посуду, как на осквернённое мною ведро, и была большая ругань, в течение каковой я готов был провалиться сквозь землю, а было бы чем – то покончить с собою, ибо мне, тринадцатилетнему, и так было тошно-претошно от насильственного моего увоза с Родины, от долгого, уже осточертевшего, пути, от замёрзших ног, которые, когда мы вошли вчера в это богомерзкое, но тёплое жилище, начали оттаивать, и пальцы охватила сильнейшая боль, почти подобная зубной, каковая боль длилась очень долго. Отец, крупно приплатив хозяевам за причинённый материальный (посуда) и «моральный» (ведро) ущерб, уговорил-таки их не изгонять нас с матерью и вещами, и дожидаться своего приезда из Степняка, чтобы забрать нас туда насовсем.
VII.Не помню, каким транспортом он туда добирался, но вернулся где-то через неделю; оказалось, что золото в названном Степняке не россыпное, а рудное, то есть не в песке, а в каменной породе, которую там добывают в шахтах, дробят-мелют, а уж затем обогащают посредством механической промывки водою с осаждением мельчайших частиц металла на дно; стало быть отцовский вибратор туда совсем не подходил, ибо таковой был предназначен для отделения золотых крупинок от россыпного, то есть речного, сухого песка, а ни для чего больше; даже чуть увлажненный, песок обрабатывать отцовским вибратором было уже нельзя. Надо отдать отцу должное: он не упал духом, вспомнил про вышеназванную газетную заметку о свежеоткрытом золотом прииске под Ташкентом, пошёл на станцию, где оставил заявление о переадресовке нашего багажа, ползущего вслед за нами «малой скоростью» – множества больших и громадных ящиков с отцовским оборудованием и домашним скарбом – со станции «Курорт Боровое», на «Ташкент», и я был счастлив оттого, что наконец мы покинем эту противную лачугу с противными хозяевами, с их драгоценным «чистым ведром», с их дурацкими наружными глухими ставнями, и поедем хоть на другой, но все-таки на юг, каковой, наверное, хоть в чём-то похож на мою милую Южную Россию, и уж во всяком разе лучше, чем эта то ли сибирская, то ли казахстанская страна с её морозами, от коих немеют, а после страшно болят пальцы ног и рук, с её жителями, готовыми сжить со света человека, по ошибке ночью ошибшегося ведром. Когда мы шли на станцию, было морозное солнечное утро; вдали, за искрящимся снежным туманом, выступали какие-то горные горбы, поросшие соснами; озеро Щучье темнело, ещё не подёрнутое льдом, и над ним стелился утренний туман; отец с восторгом вспоминал о том, как, добирались то ли в Степняк, то ли из него, он повстречался о колоритнейшей фигурой возникшего из «белого безмолвия» всадника: это был казах в лисьем малахае о двух козырьках – переднем, насупленном на глаза, и заднем, закрывавшем затылок и часть спины, каковой казах был в высоких, выше колен, сапогах, и искривленные его ноги плотно охватывали тулово лошади, сходясь под ним; на конской сбруе и одежде всадника были своеобразные, из серебра, нашивки; но особенно понравился отцу названный казахский зимний малахай, подбитый лисьим золотисто-рыжим мехом.
Письмо тридцать седьмое:
О СЕБЕ СЕГОДНЯШНЕМ
I.Извини меня, дражайший мой внук, но, если эти записки мои будут когда-нибудь изданы, мне, пожалуй, надобно будет несколько полнее представиться читателю, чем я то сделал в предисловии, особенно ежели читатель незнаком с предыдущими, известными тебе, моими сочинениями, изданными и тем более неизданными; а вот чем занимаюсь сейчас, кроме книгописательства, дела, в общем-то, для меня не первостепенного, думаю, будет небезынтересно, да и ты обо мне лучше припомнишь. У меня вот тут под рукой список моих «ипостасей», сделанный для дел служебных и бюрократических; думаю, что если я приведу его здесь, только, конечно, не бюрократским, а человечьим языком, сие будет как раз у места, тем более, что дорога в Ташкент, о которой пойдет речь, достаточно долга. С каждом из сегодняшних своих занятий я надеюсь рассказать в будущих письмах подробнейше, потому как каждое из этих дел было творимо мною не для собственного удовольствия и блага, а главным образом для более или менее отдалённого будущего; однако это мало понимали или не понимали вовсе другие, в особенности всякого рода бюрократы и те, кто считал себя моим начальником, вредя моим благим делам как только они могли, и многие из этих сказанных благих дел так-таки и погублены этими мерзавцами, в основном высокопоставленненными, о коих я надеюсь рассказать в будущих своих письмах подробно. Однако было немало и добрых, достойных людей, помогших в моих многотрудных делах кто понемногу, а кто и превесьма значительно, и не упомянуть их, тоже поименно, в этих своих книгах было бы несправедливо и грешно. Ну а то, что меня не понимали как работающего не для сегодняшнего дня, а для будущего – так я к этому, в конце концов, привык. Хотя, если посмотреть непредвзято даже на мой скромный труд по написанию этих вот записок, как не счесть по меньшей мере странным, как Гребенников исписал сию громаднейшую гору бумаги, притом и ночами, и больным, и при всяких других, вовсе не содействующих писательству обстоятельствах, зная заведомо, что при нём этот труд не будет издан, и очень даже возможно, что и в будущем его, этот труд, ждёт неиздание и полное забвение. И все же малую толику надежды на просвет в будущем я не теряю, и потому вот пишу, и потому ближе к делу, ибо сразу после этого письма я продолжу описание нашего путешествия на юг, в сторону Ташкента – «города хлебного», как незадолго до этого назвал его в своей книге писатель Александр Неверов, каковое произведение мы проходили в школе; но в годы нашей семейной туда экспедиции дела с хлебом и прочей снедью по всей стране очень даже быстро и славно наладились.
II.Итак, автору этих строк в момент их написания – 66 лет, и занимается он следующим. Ипостась первая: энтомолог, то есть человек, изучающий насекомых; увлёкся ими с раннего детства, знает их весьма обширно (а они, насекомые, самый большой класс живых существ на планете, по числу видов много превосходят всех остальных животных и растений, вместе взятых; на планете их, как считают сейчас мои коллеги-энтомологи, порядка шести миллионов видов; они старше нас, млекопитающих, на 200 миллионов лет). Из первой ипостаси естественно вытекла вторая – сельскохозяйственный эколог, или, кратко, агроэколог; агроэкология – наука, призванная изучать воздействие всего живого и неживого на сельхозкультуры, и наоборот: как сельское хозяйство влияет на Природу; именно оно, сельское хозяйство с его обширными площадями своих угодий, более всех других видов нашествия человечьего племени на Землю меняет лик планеты, мягко говоря, не в лучшую сторону, но об этом – после.
III.К агроэкологической моей весьма обширной ипостаси прилежит третья: создание заповедничков и заказников для сохранения уцелевших ещё местами малых существ, в чём я, с превеликим трудом, но преуспел, и мои первые в стране биорезерваты такого рода всё ещё существуют (а моя мечта, чтобы они продолжали жить вечно) – в Омской, Воронежской и некоторых других областях; некоторые из них не просто существуют, а процветают, в чем ты, мой дорогой внук Андрей, к коему, в основном, обращены эти мои письма, имел убедиться спустя четверть века после организации первого такого моего детища, и теперь рвёшься туда всею душой – до того чудесна и пышна спасенная мною на малых клочках земли первозданная Природа; многие мои детища такого рода, как например, в Новосибирской области, злостно уничтожены ничтожнейшими людишками власть предержащими, зато очень даже большую хозяйственную пользу гребенниковские эти заказнички давали в совсем неожиданных для меня краях, но об этом – как-нибудь после; а пока я имею полное право называться самым опытным в стране человеком по устройству биорезерватов такого рода, о чём имею похвальную бумагу от Академии наук СССР.
IV.Четвёртая ипостась моя такова: спец по разведению и полевому использованию «диких» насекомых-опылителей, а именно шмелей и пчёл-листорезов (не путать с домашними медоносными пчёлами, это совсем другие существа) – с многолетним опытом и весьма большими успехами; моя технология, «обкатанная» на стогектарных полях, могла бы сделать рачительного сельского хозяина миллиардером, но рачительность, требующая немалого вложения и собственного труда, особенно в начале, не свойственная нынешнему поколению, более склонного не к труду и не к рачительности, а к рвачеству и лёгкой жизни за чужой счёт, так что мне пришлось бросить это выгоднейшее и интереснейшее искусство (сознательно называю его не производством или ремеслом, а искусством, ибо иметь дело приходится и с крохотными живыми тварюшками, и со всей остальной Природой в целом при воздействии тех начал, кои называют Интуицией и Вдохновением).
V.Пятая моя специальность кормила меня значительные отрезки жизни и даже спасала от верной смерти – это художник, то есть живописец, график, иллюстратор, оформитель и прочая и прочая; а ещё автор новых удивительнейших техник объёмной стереоскопической живописи и многих других оптических и художественных придумок, не менее замечательных.
VI.Шестое мое воплощение вытекло из предыдущего, и я стал педагогом, поначалу в детской студии изобразительного искусства в вышесказанном Исилькуле, переросшей затем в государственную художественную школу, где я, кроме директорства, вёл рисунок, живопись, композицию, декоративное искусство, историю искусств, и проработал на том поприще 12 лет до своего ухода (о чём потом сильно жалел) в сельскохозяйственную науку, о коей только что было сказано, и спустя многие годы, в Новосибирске, куда попал с семьёй после долгих странствий, устроил, тоже с превеликими трудами, неохотное учебное заведеньице – школу раннего эколого-эстетического воспитания, в коей сейчас учишься и ты, мой дорогой внучок.
VII.Седьмая ипостась моя вытекла из первой, второй и пятой: я музейнишник, руковожу организованным мною же музеем под Новосибирском, где показываю и взрослым, и детишкам, разные чудеса живой Природы, демонстрируемые им самыми необычными способами; один из них – сферорама «Степь реликтовая», выполненная в виде большущего многогранника, приближённого к сфере и расписываемого изнутри так, что зритель оказывается как бы посреди нетронутой ещё западно-сибирской природы; огромная и тяжелейшая работа эта (площадь её «развёртки» – 140 квадратных метров) очень интересна, но последние годы меня одолевает тревога: нужно ли будет это монументальное произведение потомкам и уцелеет ли при разного рода административных идиотствах и вандализмах?
VIII.Ипостась восьмая – вот она, перед читателем: это книгописательство; но мне удалось издать лишь 7 своих книг, список коих приведу в конце этого сочинения; остальные, в том числе и эти «Письма внуку», я оставляю в рукописях и тебе, и в некоих музеях и библиотеках, с наказом о том, чтобы они их сохранили и попытались издать, а больше я надеюсь на тебя, мой дорогой внук.
IX.Девятое моё занятие, казалось бы, отличается от предыдущих – это астрономия, наука о Небе, коим я интересовался самым серьёзным образом ещё в юности, и первые мои научные публикации были не биологические, а астрономические, и эту науку, как ты знаешь, я не оставлял никогда. Умение мастерить – слесарничать, столярничать, токарничать и прочее в ипостаси не включаю, ибо считаю, что это должен уметь каждый, и без этого не будет ничего остального.
X.А вот ипостась десятая родилась изо всех вышеназванных, и более всего она относится к физике, ибо живая Природа дала мне ключик к познанию таких неведомейших тайн Мироздания, что я долго не мог в это поверить; они лежат на стыке основных компонент этого Мироздания, а именно Материи, Пространства, Времени, и таких их производных, как гравитация (притяжение) и Жизнь; об этом будет рассказано в должном месте.
XI.Мистическими же делишками я не занимался, убедившись на многочисленных опытах в том, что это есть мракобесие, рассчитанное на тёмные толпы. Псевдовосточные, то есть якобы индийские, или тибетские, самоуглубления, самоусовершенствования и прочие самонастрои, проповедуемые ныне в России многими свихнувшимися, или корыстными жуликами, я полностью отвергаю как проявления некоего высшего эгоизма; в последнее время я был вынужден отказывать сказанным мракобесам в посещении своего музея и в беседах, а наиболее ретивых приходилось гнать в три шеи с их ослиными шамбалистскими йоговскими книжонками и пустобайной заумью, ибо я, наоборот, проповедую любовь не к себе, а к другим, и призываю не к безделью, именуемому ими праной или нирваной, а к усерднейшему производительному труду, каковой труд наиактивнейше очищает душу от сказанной и всякой иной дури. X.U. Но я опять нарушил хронологию повествования, а потому закончим мой краткий, но уже явно наскучивший читателю перечень моих воплощений, и продолжим путешествие в давно ушедшее прошлое, когда меня, тринадцатилетнего, везут поездом из сурового казахстано-сибирского края в далёкий и неведомый Ташкент, о чём я непременно напишу тебе, мой дорогой внук, и вам, уважаемые читатели, завтра же, в четверг – 1 июля 1993 года.








